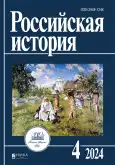Diary of a peasant Ivan Glotov
- Authors: Khatanzeiskaia E.V.1
-
Affiliations:
- National Research University Higher School of Economics
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 221-226
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268650
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040256
- EDN: https://elibrary.ru/FEAHLK
- ID: 268650
Cite item
Full Text
Abstract
The review of Ivan Glotov's published diary reveals the peculiarities of the peasant lifeworld at a critical time (before and after the October Revolution 1917) reflected in this unique historical source. The review details the specific features of the Soviet collectivization in the Russian North, which interrupted the prosperous, hasteless and genteel life of the Northern Russian village.
Full Text
Дневник крестьянина Ивана Глотова 1
Книга, удачно названная «На разломе жизни», открывается обращением к читателям выдающегося историка С. О. Шмидта, в котором обозначено значение публикации: «Дневники, подобные глотовскому, являются первостепенного значения источниками для всех, причастных к краеведению, которое после беспощадного разгрома в 1920–1930-е гг. возрождается ныне как сфера научно-просветительской деятельности» (с. 5). Крестьянский дневник – довольно редкий вид исторического источника личного происхождения2. Особенно редки такие дневники советской эпохи. Записки Ивана Глотова фиксируют традиции многовековой крестьянской культуры Европейского Севера России и одновременно суждения о жизни человека, многие годы прожившего в Петербурге. Погружаясь в текст, мы проходим жизненный путь автора – сначала северного селянина, затем городского обывателя и заводского служащего, далее снова крестьянина, – находя на страницах дневника скупые сведения о трагической эпохе коллективизации, приведшей к разрушению устоев крестьянской жизни. Дневник прерывается на 1931 г., когда завершилась её первая волна. Свободная и радостная работа, способная прокормить большую крестьянскую семью, осталась в прошлом – ей на смену пришли тяжёлые трудовые повинности в обстановке нищеты и голода. Не случайно тем же годом заканчивается ещё один вельский дневник – горожанин Н. Е. Зенков записал: «На этом кончаю… нет ни тетрадок, ни бумаги. Буду записывать только выдающееся»3.
Автор опубликованного дневника был не только достаточно грамотным, но и «книгочеем», что неудивительно: большинство крестьян Поморья знали грамоту. Этому способствовали и распространение старообрядчества, и товарно-денежные отношения, развитые здесь значительно сильнее, чем в центральной России. К тому же на Севере никогда не было крепостного права, поэтому многие крестьяне занимались не только межрегиональной, но и международной торговлей. Они практиковали и «отхожие промыслы» – выполняли в крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Архангельске) работы по строительству, устраивались на заводы и фабрики и благодаря своему трудолюбию нередко становились управляющими производством, что приобщало их к городской культуре.
Рукопись подготовлена к изданию автором многочисленных публикаций по истории культуры Европейского Севера России, выдающимся петербургским искусствоведом М. И. Мильчиком, а также сотрудниками Вельского краеведческого музея Г. А. Верёвкиной и М. А. Шумар. Мильчик обнаружил в музее этот уникальный источник ещё в самом начале 1970-х гг. Уже тогда его поразили «почти безупречная грамотность, красивый почерк, а главное – тщательное, можно сказать любовное описание сельскохозяйственных и плотницких работ, богатство народной лексики» (с. 6). Однако в то время о его издании не могло быть и речи – семья Глотовых принадлежала к числу раскулаченных, а драма коллективизации в исторической науке и публицистике оставалась под запретом. Опубликовать дневник удалось в 1997 г. в серии «Библиотека русского этнографа» при поддержке Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН 4 как источник по истории крестьянской семьи, истории Пежмы, её микро- и гидротопонимике. Публикацию отличали существенные лакуны: отсутствовало начало – записи до 1915 г., записи 1916–1917 гг., когда Глотов жил в Петрограде, 1925, 1927 и середины 1929 гг. К счастью, после выхода книги в Вельский музей поступили ещё две части дневника от внуков Глотова. Рассматриваемое издание, как результат, состоит из трёх частей, публикуемых в хронологической последовательности, что позволяет восстановить, по существу, весь источник.
В предисловии к книге Мильчик представил подробный обзор опубликованных крестьянских дневников и их источниковедческих особенностей. Известные науке источники такого рода имеют преимущественно северорусское происхождение и относятся к концу XIX – первой половине ХХ в. Однако лишь немногие из них уделяют внимание происходившему в мире, большинство концентрируется на семейной и хозяйственной жизни. Повествование Глотова во многом сходно с летописным жанром (фактография ежедневных событий), иногда с приходно-расходными записями, по которым мы можем судить об уровне и образе жизни автора дневника. Он начинается с краткого описания жизни автора (с. 51). Глотов родился в 1873 г., «учился грамоте в Пежемском двухклассном сельском училище 5 лет, окончил по образованию 3-го разряда учителя». Воинскую службу (один год и два месяца) проходил писарем в г. Мышкине Ярославской губ. С декабря 1895 г. по апрель 1896 г. жил дома, в деревне. Последующие записи свидетельствуют о том, что автор несколько раз отправлялся на «отхожие промыслы» в Ярославскую губ., где работал на строительстве железной дороги Ярославль–Рыбинск, затем вернулся на зиму домой, а в апреле 1897 г. «ушёл на стройку Вологодско-Архангельской железной дороги». После каждого похода он делал приписку: «Денег дал в хозяйство 30 руб.». Далее Иван принял решение отправиться в Санкт-Петербург, устроился на завод Н. Н. Струка и проработал там до 1918 г. – сначала рабочим, а затем конторским служащим. В 1915–1916 гг. он оформлял на заводе военные заказы.
В столице жизнь Глотова стала самодостаточной и окончательно обрела смысл: он устроился на достойную работу, а в 1906 г. женился на Таисии Михайловне – девушке из соседней деревни, жившей «в услужении». Сравнительно высокий уровень дохода позволил ему снимать хорошую квартиру на Выборгской стороне, пользоваться услугами портного, лекаря и извозчика, покупать статусные вещи и дорогие подарки супруге. При этом ему удавалось каждый год посылать деньги родителям в деревню. В Петербурге у супругов один за другим родились четверо детей (выжили трое: Михаил, Анатолий и Зинаида); позже, уже в деревне, родилась дочь Мария.
На страницах дневника Глотов предстаёт перед нами заботливым мужем и отцом, для которого не существует мелочей. У читателя возникает образ человека долга, высокой и устойчивой нравственности, сильной веры и порядочности. Ежедневные бытовые зарисовки, состоящие в основном из покупок, забавно переплетаются с ценными замечаниями о хозяйственных навыках и здоровье человека: «Наше сердце. Сердце нормального человека в среднем делает в минуту 70–86 ударов, по возрастам число ударов изменяется следующим образом» (с. 105).
В 1917 г. жизнь в столице резко подорожала и стала опасной. Ещё в 1915 г. Глотов отправил семью в родную деревню, возможно, поэтому и сам решил вернуться. В начале марта 1918 г. получил расчёт и уехал в Пежму вести собственное хозяйство. Это спасло семейство от голода и чекистского произвола, свирепствовавших в Петрограде в те годы.
Примечательно, что события большой истории отражаются в дневнике лишь в связи с изменениями в частной жизни. Например, война сказалась задержкой поездов и беспокойством о близких. Почти полное отсутствие рефлексии, размышлений и рассуждений о происходящем – характерная черта крестьянских дневников, которая здесь проявилась в полной мере. Например, о Первой мировой сказано так: «Война всё продолжается, взяли уже ратников 2 разряда, срока призыва с 1910 по 1916 г. Работы для государственной обороны на заводах, а равно и специально приготовленных на время войны мастерских от военных комитетов и высших учебных заведений идут усиленно. Все граждане стараются что-либо сделать для обороны государства и солдат. Прожитие стало дорогое, как в столице, в больших городах и провинции дорого, но и недостаток почти во всём, хлеб 5 коп. ф[унт], ситный 15 коп. ф[унт], булки французские – вес очень маленький, но достать трудно, ждать в череду, мясо тоже в череду, достать можно два раза в неделю по 28 к[оп]. ф[унт], телятина 60 к[оп]. ф[унт], кура 2 р[уб]., баранина 40 к[оп]., колбаса варёная чайная 1 р[уб]. ф[унт], сахарный песок 20 к[оп]. ф[унт], сахар головной 22 к[оп]. ф[унт], но купить сахар нужно стоять в череду 5–6 часов и получить можно только 2 ф[унта], дрова березовые длиною 8 вершков за сажень 19 руб. 00 коп., молоко бутылка в два чайных стакана 15 коп. Вообще прожить очень дорого, но зато себе не позволяешь лишнего, только и заботишься достать чего нет, чтобы дети не остались голодными» (21 ноября 1915 г., с. 105).
Подробные записи о хозяйственной и семейно-бытовой жизни в Петрограде превратились в скупые и даже скудные записи о деревенской жизни 1918–1921 гг.: «12 октября 1918 г. помер брат Афанасий. С 1 октября приступили к общему переделу всей деревней податной и луговой земли сроком на 20 лет с уравнением через 10 лет. Я получил на одну душу» (с. 127). С 1919 г. упоминаются трудовая и гужевая повинности: «В 1919 г. в феврале месяце наряд песку тракт Вельск–Коноша. Осенью 1919 г. был в наряде 9 суток с лошадью в военном обозе, делал две поездки: 1 – до Пустыньги за Вельск, вторая – до Ровдино к Архангельску» (с. 127). Регулярно фиксировались явления природы, связанные с хозяйственным календарём, например: «Весна 1920 г. была ранняя, 25 марта вынесло лёд в Пежме. 10 апреля поехали сеять овёс, 17 апреля был выпущен скот на волю» (с. 127). Записи о природе и погодных явлениях вообще занимают в дневнике существенное место. В отличие от хозяйственной жизни и проблем, связанных с обеспечением семьи, к политике автор почти равнодушен: «1 июня по-новому стилю по избранию в исполкоме избран членом на 6-й крестьянский съезд, пробыл там до 9 июня» (с. 128). 1 марта 1921 г. Глотова избрали от деревни председателем сельского посевного комитета, что почти никак не отразилось в дневнике, зато записано: «В весну 1921 г. выехал орать 3 апреля по ст. ст. в Бор в полянку» (с. 128).
В дневнике нашли отражение реалии «военного коммунизма»: галопирующая инфляция, снижение роли денег как всеобщего эквивалента. К примеру: «Ездили в село и в кооперативе выменял на жито 50 ф[унтов] соли, фунт за фунт. Тая посолила мясо» (13 марта 1922 г., с. 149). Или: «На апрель месяц курс довоенного рубля 200 000 р[уб].» (28 марта 1922 г., с. 150). Одновременно в деревне сохранялись черты прежнего жизненного уклада: часто упоминаются посещения церкви и пиры в честь того или иного православного праздника. Однако автор регулярно отмечает смутное беспокойство по поводу изменений в жизни, свидетельствующих о переменах к худшему. Например: «Святая Пасха – Светлое Христово Воскресенье. Ходил в церковь. Ночью погода ветренная, но чистая. В церкви во время службы в алтаре горела 25-ти свечевая керосиновая лампа, и под аркой между алтарями горела такая же лампа, свечей горело очень немного, в большом висячем паникадиле-люстре горело только три свечи, перед Голгофой одна лампадка вместо свечей. Люди стояли без свечек за утреней» (3 апреля 1922 г., с. 150).
Коллективизация привела к краху крестьянского мира. В записи от 1 сентября 1928 г. читаем: «Было собрание: одни пошли в коллектив, в общину… и 9 семей на выселок, в том числе и я» (с. 267). 30 апреля 1929 г. уже «насильственно постановили произвести классовый передел земли» (с. 314). В Пежме начались бесконечные собрания и комиссии по пересмотру наделов покосной и огородной земли, деление крестьян по степени зажиточности, единоличников обложили непосильными налогами (они в 10 и более раз превышали налоги колхозников). Глотов многократно обращался в исполком с просьбой о переводе «из зажиточных в крепкие середняки», но всякий раз получал отказ, с горечью отмечая: «Знал бы всё это – не стоило бы унижаться» (с. 347). Это редкий случай яркого эмоционально-оценочного суждения. В целом же Глотов фиксировал события коллективизации почти без оценок, принимая их неотвратимость как явления природы. Сдав по продразвёрстке весь хлеб, он отметил: «Выгреб из ступ и привёз домой муку из круглины и разного мусора» (с. 348). Вскоре была продана корова, а семья получила штраф, на оплату которого средств не нашлось: описали всё имущество, вплоть до «пиджака серого», «жакетки женской» и «ковшика медного». Лишь спустя полгода, когда под угрозой оказалось само существование семьи, на страницы дневника прорвалось: «К вечеру положение обострилось. Пришла весть, что вновь вводят в кулаки и выселение неизбежно. Вся энергия к работе упала и жизнь стала нерадостной» (с. 349).
5 ноября 1929 г. Глотов подал жалобу председателю ЦИК СССР М. И. Калинину на то, что его принудили сдать сельхозналог наряду с кулаками, тогда как формально он относился к зажиточным середнякам: «Положение моё самое тяжёлое и безвыходное – с семьёй остаться на голодовку» (с. 350). Будучи крепким и работящим хозяином, нажившим имущество непосильным трудом, в годы коллективизации он потерял всё, пережил голод, унижения и жуткий страх за семью («Вся семья унылая, больная, загнанная» – 17 декабря 1929 г. (с. 350)). 14 февраля 1930 г. пленум Пежемского сельсовета объявил Глотова кулаком и «лишенцем»5. Несмотря на это, они с женой не побоялись поставить подписи под обращением в защиту священника Богоявленской церкви Александра Голубцова, который служил там с 1913 г. (с. 350). Вскоре батюшку арестовали и расстреляли, а после смерти последнего священника Николая церковь разграбили и закрыли.
Итогом коллективизации стал страшный голод 1932–1933 гг., который охватил не только хлебородные районы СССР, но и Европейский Север, о чём написано значительно меньше. При этом руководство страны не снизило планы по сдаче государству зерна, шерсти, мяса и другой продукции, не говоря уже о помощи голодающим. На глазах Глотова раскулачили семью его покойного брата Анатолия, сослав всех её членов на Соловки, многочисленных (самых трудолюбивых и достойных) соседей. Семью самого Ивана эта участь миновала: 11 июня 1931 г. Глотовы записались в артель «Красная звезда», при этом дом, двор, плуг и скот у них отобрали (с. 385). Дорогие сердцу работы на земле сменились многочисленными бессмысленными собраниями, где обсуждались вопросы самообложения, займов индустриализации и т. д. Немного позднее Иван стал счетоводом, а Таисия – овощеводом, в колхозе они и проработали до конца жизни. На Великую Отечественную войну ушли двое их сыновей (один из которых, Анатолий, погиб незадолго до Победы) и два зятя.
Помимо текста дневника, издание содержит фотографии семьи Глотова, географический и топонимический указатели, словарь местной лексики и специальной терминологии, карты-схемы южной части Вельского уезда, список селений его Никифоровской волости с указанием принадлежности к сельским обществам и приходам, вступительную статью Мильчика и сотрудников музея с описанием хода коллективизации в Вельском районе и рассказом о дальнейшей судьбе Ивана и его семьи. Также в книге приведено несколько документов эпохи, в частности письмо агронома села Дмитриево В. У. Попова своему брату, работавшему в те годы секретарём Черевковского райкома ВКП(б) и возглавлявшему коммуну «Большевик» в Великом Устюге «О ходе коллективизации в селе Дмитриеве (Алферовской) Устьянского района Архангельской области» от апреля 1930 г. (с. 440–441) (оба брата были расстреляны в 1938 г. «тройкой» НКВД по Архангельской обл., а в 1956 г. реабилитированы за отсутствием состава преступления). Это очень личное и искреннее письмо рисует яркую картину хода коллективизации, поразительно совпадающую с описанным в дневнике Глотова. Коллективизация на Севере стала не менее масштабным явлением, чем в хлебородных и скотоводческих районах страны, и тоже привела к чудовищному голоду в связи с лишением крестьян возможности жить своим трудом, целенаправленным и планомерным разрушением многопрофильного хозяйства Севера с целью его советизации. В планах руководства страны роль региона сводилась лишь к развитию лесоэкспортного комплекса для создания «золотовалютного резерва страны»6.
Дневник И. Глотова – ценнейший источник по микро- и гидротопонимике, лингвистике (особенности местного говора прокомментированы публикаторами и восходят к былинной древности). Своеобразие повседневности и быта жителей северной глубинки оказалось уничтожено коллективизацией, богатейшие северные сёла стали рядовыми советскими населёнными пунктами, усреднёнными в экономическом и культурном отношении с остальной Россией, а в 1960-х гг. многие из них и вовсе объявили «неперспективными». К настоящему времени уже невозможно восстановить исчезнувший пласт культуры с его органичной экономикой, размеренным, но при этом эффективным хозяйственным укладом жизни, говорами, песнями, деревенскими праздниками, удивительной архитектурой, созданной безымянными зодчими. Всё это было доступно лишь носителям этой культуры, жившим когда-то на северной земле. Много веков назад они смогли превратить тайгу в цветущий оазис. Исторические источники, подобно дневнику Ивана Глотова, напоминают современному читателю о драме ХХ столетия, которая привела к разрушению этого мира.
Примечания
1 «На разломе жизни»: дневник Ивана Глотова, пежемского крестьянина Вельского района Архангельской области, 1910–1931 гг. / Подгот. публ. М. И. Мильчик, Г. А. Верёвкина. Изд. 2, испр. и доп. Вологда: Древности Севера, 2022. 448 с.
2 Исключение составляют несколько дневников: Маркелов Г. В. Крестьянские архивы в Древлехранилище Пушкинского Дома // История от первого лица. Мир северной деревни начала ХХ в. в письменных свидетельствах сельских жителей. Архангельск; М., 2011; Мужской род. Первое лицо. Единственное число: дневники Д. И. Лукичёва и Д. П. Беспалова. СПб., 2013.
3 Цит. по: Мильчик М. И. Предисловие // На разломе жизни. Дневник Ивана Глотова, пежемского крестьянина Вельского района Архангельской области, 1915–1931 гг. М., 1997. С. 10–11.
4 На разломе жизни. Дневник Ивана Глотова…
5 Согласно Конституции СССР 1924 г., лишённые избирательных прав лишались также права на труд на советских предприятиях и в учреждениях, на образование, медицинские услуги, социальные пособия, пенсии и др.
6 Подробнее см.: Хатанзейская Е. В. Советский город в экстремальной повседневности: Архангельск в годы индустриализации и Второй мировой войны. М., 2021.
About the authors
Elizaveta V. Khatanzeiskaia
National Research University Higher School of Economics
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
кандидат исторических наук, старший преподаватель
Russian Federation, MoscowReferences
- Маркелов Г.В. Крестьянские архивы в Древлехранилище Пушкинского Дома // История от первого лица. Мир северной деревни начала ХХ в. в письменных свидетельствах сельских жителей. Архангельск; М., 2011;
- Мужской род. Первое лицо. Единственное число: дневники Д.И. Лукичёва и Д.П. Беспалова. СПб., 2013.
- Хатанзейская Е.В. Советский город в экстремальной повседневности: Архангельск в годы индустриализации и Второй мировой войны. М., 2021.
Supplementary files