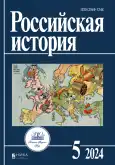Information about the oprichnina in the European narrative: to the question of textual borrowings
- Авторлар: Filyushkin A.I.1
-
Мекемелер:
- Saint Petersburg State University
- Шығарылым: № 5 (2024)
- Беттер: 3-17
- Бөлім: The historian and the sourse
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274759
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050015
- EDN: https://elibrary.ru/SLKKGD
- ID: 274759
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
The paper provides a genetic analysis of the European narrative about the Oprichnina of Ivan the Terrible: A. Schlichting, I. Taube and E. Kruse, G. Staden, A. Guagnini, P. Oderborn. The assumption is substantiated that the source for individual fragments of the works of A. Schlichting, A. Guagnini and P. Oderborn was a common text that has not reached us (possibly avvissi), creatively revised by these authors. The origin of information in the writings of foreigners is established, a hypothesis about textual borrowings and the relationship of texts is proposed. The conclusion is substantiated about a significant proportion of the literary component in these sources, which requires a special source analysis when using them as sources on the history of the Oprichnina of Ivan the Terrible.
Негізгі сөздер
Толық мәтін
Опричнина считается главным событием времени Ивана Грозного. «Царством террора» назвал его правление Р. Г. Скрынников1. Между тем остаются актуальными слова В. О. Ключевского: «Учреждение это всегда казалось очень странным как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал»2. Понимание сущности и смысла опричнины в историографии до сих пор лежит в области гипотез, ни одна из которых не получила всеобщего признания. Эта ситуация во многом порождена состоянием источниковой базы. Русские нарративные документы об опричнине описывают её отдельные эпизоды: «царский подъём» декабря 1564 г. и введение опричнины3, противостояние митрополита Филиппа и Ивана IV4, «новгородский погром» 1569–1570 гг.5 Однако в них отсутствует цельное описание опричного периода с 1565 по 1572 г. Актовый материал ещё более разрознен, и с его помощью можно изучить отдельные сюжеты6, но представить цельную картину сложно.
Основными источниками, положенными в основу реконструкции истории опричнины, являются сочинения иностранцев. Описание репрессий Ивана Грозного занимает центральное место в текстах «иванианы» – комплексе сочинений европейских авторов, посвящённых правлению «тирана Васильевича». Послания А. Шлихтинга7, И. Таубе и Э. Крузе8, Г. Штадена9, «Хроника» А. Гваньини10, биография Ивана IV П. Одерборна11 выступают главными источниками по истории опричнины. Сюда же стоит отнести «Историю о делах великого князя московского» Андрея Курбского12, в которой опричнина как таковая не упоминается, но есть пространный «мартиролог» опальных.
Эти тексты, в отличие от русских источников, содержат целостные описания истории опричнины с указанием причин её введения, а Штаден назвал и причины отмены. Они содержат уникальные, хотя иной раз и слишком красочные детали, отсутствующие в русских источниках. Большинство авторов, по их заявлениям, были очевидцами событий (Шлихтинг, Таубе и Крузе, Штаден). Это считалось достаточным, чтобы не ставить вопрос о происхождении их сведений. Однако статус очевидца не является аргументом в пользу точности данных. Штаден, который, по его утверждениям, лично участвовал в «новгородском погроме», приводит совершенно фантастическую версию о том, что псковский юродивый Никола Салос был вовсе не юродивым, а местным зажиточным заводчиком скота, владельцем скотного двора («Этот Микула – добрый малый, живёт один во дворе в городе Пскове без жены и детей, имеет много скота, который целую зиму ходит во дворе по навозу под ясным небом. Скот у него родится и растёт хорошо. Оттого он богат, пророчит русским многие будущие дела»)13.
Достоверность сведений этих источников подвергалась критике14, не вся информация подтверждалась15. Многие исследователи относились к ней избирательно16. При этом критика иностранных источников базировалась порой не на источниковедческом анализе, а на «здравом смысле», априорном недоверии к запискам «шпионов» и «вражеских агентов»17. Вместе с тем без использования свидетельств иностранцев воссоздать многие моменты истории опричнины невозможно. Именно благодаря им учёные продвинулись в понимании смысла казней18 и, возможно, символики опричнины19.
Исследования о происхождении сведений об опричнине, содержащихся в записках иностранцев, о преемственности информации и переходе её из источника в источник немногочисленны20, но порой они приводят к парадоксальным выводам. Например, К. Зольдат, основываясь на факте более позднего, чем события, происхождения источников, выдвинула гипотезу о мифичности опричного «новгородского погрома»21. Она не была принята учёными22, но подобные мнения появляются там, где есть недостатки в источниковой базе и мало внимания уделяется верификации содержащихся в источниках сведений.
В настоящей статье я рассматриваю особенности передачи информации об опричнине в записках иностранцев. Прежде всего стоит усомниться в том, что они являлись очевидцами событий. В частности, А. Курбский после бегства из России в 1564 г. всю информацию получал только от других эмигрантов. Гваньини служил в Витебске и мог быть свидетелем боевых действий времён Ливонской войны в районе Полоцка, но не казней в Новгороде или Москве. Одерборн вообще никогда не был в России, его ближайшая (и единственная) «точка соприкосновения» с нею – участие в Полоцком походе 1579 г. короля Стефана Батория.
О том, что они являлись очевидцами событий, заявляют Шлихтинг, Таубе и Крузе, Штаден и безымянный автор рассказа, якобы записанного Георгом ван Гоффом (на самом деле это изложение послания Таубе и Крузе). При этом все они будто бы оказываются важными особами, приближёнными лично к царю (Шлихтинг – к царскому врачу). Исключением является герой Георга ван Гоффа, который, по его утверждению, просто 13 лет сидел в тюрьме в Московии (шесть лет в кандалах и семь без оных)23. Шлихтинг называет себя слугой царского врача Арнульфа24, однако сообщаемые им факты о жизни в России непроверяемы, документы подтверждают только то, что после 1571 г. он находился в Польше25. Таубе и Крузе в самом деле выполняли дипломатические поручения Москвы, т. е. могли бывать при дворе. Штаден называет себя опричником и советником Ивана Грозного (что невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть). В историографии есть точка зрения, что он самозванец и опричником не был26.
Но даже если принять на веру утверждения иностранцев об их высоком статусе на русской службе, это не отменяет постановки вопроса об их информированности. Они физически не могли быть свидетелями каждого события опричнины и каждого убийства, о котором пишут. В любом случае, сведения, которые они получали, нельзя считать достоверными просто потому, что авторы якобы были вхожи в самые высокие политические круги. Задача историка – выяснить, существует ли связь между произведениями, можно ли установить их источники и степень заимствований из других текстов или друг у друга.
Ситуация осложняется тем, что в XVI в. были опубликованы только три текста (Гваньини – 1578 г., ван Гофф (издал сочинение Таубе и Крузе) – 1582 г., и Одерборн – 1585 г.), остальные бытовали в рукописях. Следовательно, встаёт вопрос о самой возможности знакомства с этими произведениями других авторов. Её мы можем только предполагать, потому что наши знания о хождении рукописей по Европе недостаточны. Недавние исследования И. В. Дубровского показали, насколько были распространены рукописные сочинения Шлихтинга27, но в случае с сочинениями Штадена и Таубе с Крузе мы не располагаем такими сведениями. Мало того, анализ текстов показывает, что, по всей вероятности, существовали какие-то недошедшие до нас сочинения (возможно, avvissi), которые могли лечь в основу произведений нескольких авторов. Их следы выявляются при сравнении памятников. Поиску следов новых, не дошедших до нас в оригинальном виде источников по истории опричнины и посвящена данная статья.
Первый блок сходных сведений выявляется при анализе описания введения опричнины и её первых событий (до казни К. Дубровского, которая произошла до ноября 1567 г.28). У Шлихтинга, Гваньини и Одерборна изложение данных сюжетов сходно, но с определёнными нюансами, которые и позволяют ставить вопрос об общем источнике, а не констатировать, что Гваньини списал у Шлихтинга, а Одерборн у Гваньини. Во всех трёх текстах одинаковые структура и последовательность изложения событий, без купюр и вставок.
Причину изменения политики Ивана IV Шлихтинг и Гваньини видели в том, что царь «возгордился» после взятия Полоцка; Одерборн же поводом для гордости, спровоцировавшей внутриполитический поворот, считал покорение Казани, Астрахани, победы над ливонцами и шведами. Таким образом, все три автора говорят об одном и том же и в сходных выражениях.
О первом убийстве, жертвой которого стал кн. Д. Овчина (лето 1564 г.), Шлихтинг сообщает, что князя заставили на пиру пить большой кубок, после этого отправили в винный погреб и там убили, тело выволокли на площадь. Причиной послужила его ссора с Алексеем Басмановым: Овчина обличал его сына Фёдора в порочной связи с царём. Гваньини, опуская подробности, повторяет версию Шлихтинга; у Одерборна Овчина на пиру обличал государя в неуважении к обычаям предков, не выпил кубка и тем показал неуважение царю, за что и был убит.
Временное смирение нрава Ивана IV Шлихтинг объясняет влиянием митрополита, благодаря заступничеству которого подданные царя шесть месяцев прожили в спокойствии. Гваньини упоминает также и о просьбах аристократии, а Одерборн объясняет временное прекращение репрессий ропотом придворных.
Само учреждение опричнины у Шлихтинга описано следующим образом: Иван IV cобирался оставить трон двум сыновьям, отрёкся, построил дворец на Неглинной и собрал там своих сторонников. Опричники начали гонения на аристократию. Гваньини, повторяя в целом информацию Шлихтинга, добавляет детали – у него царь собирался уйти в монастырь, а опричники рыщут по стране отрядами по 60 человек. Описание введения опричнины у Одерборна демонстрирует больше сходства с посланием Таубе и Крузе: Иван IV собрался в монастырь, собирал в церквях реликвии, уехал в слободу, архиереи звали его обратно.
Похожи у Шлихтинга, Гваньини и Одерборна описания убийства кн. Петра Ростовского в Нижнем Новгороде. Первый из авторов упоминает арест в храме, брошенный князем жезл (знак власти). Опального везли на телеге, убили, а царю привезли голову, с которой государь разговаривал. Весте с князем был истреблён его род – 50 человек. Гваньини добавляет детали, в частности, пишет об убийстве 40 слуг, задушенных в темнице. Одерборн в целом следует за Гваньини, но у него князя, заковав в цепи, утопили, а потому отсутствует и упоминание о речах царя перед отрубленной головой; вместе с князем убиты 100 его домочадцев.
Рассказ о казни И. П. Фёдорова-Челяднина у всех трёх авторов начинается одними словами: «Когда король был в Радошковичах». Шлихтинг пишет, что опальный боярин (у которого четырежды конфисковывали имущество) отправился в войска, выпросив для этого лошадь у монаха. Челяднина насильно посадили на трон, после чего царь лично заколол его ножом. Описано надругательство над трупом и истребление слуг Фёдорова. У Гваньини причиной опалы стал донос, что боярин домогается великого княжения; лошадь опальный у монаха не выпрашивал – тот дал её сам. Одерборн поводом к опале считал ложный донос об измене, у него нет рассказа об отправке на войну и монахе с лошадью, зато имеется упоминание о слезах боярина, когда того сажали на трон, равно как и об убийствах скотины в его имениях. Все авторы уделили внимание и погрому имений Фёдорова-Челяднина. Шлихтинг сообщил, что схваченных слуг посадили в клетку и взорвали порохом. Женщин нагими гнали в леса, где им устраивали засады опричники, а жену боярина отправили в монастырь. Гваньини к рассказу Шлихтинга ничего не добавил, а у Одерборна нет сюжета о выгнанных в лес женщинах, но приведён рассказ об изнасилованной беременной жене боярина и двух дочерях, после надругательства разрезанных на куски29.
Далее, после описания самых резонансных казней, в трёх рассматриваемых сочинениях повествование строится у каждого автора по-своему, т. е. можно говорить, что совпадающий по структуре повествования отрывок закончился. При этом заметны явная преемственность текста Гваньини и Шлихтинга, что, как известно, даже породило гипотезу, согласно которой Гваньини «украл» сочинение Шлихтинга и выдал за своё30. Споры идут и вокруг соотношения авторства Шлихтинга и М. Стрыйковского31. Отличия произведений Гваньини и Шлихтинга состоят в деталях, которые можно отнести к авторскому редактированию.
С соотношением «Шлихтинг–Гваньини–Одерборн» ситуация сложнее. Знакомство Одерборна с книгой Гваньини, напечатанной в 1578 г., несомненно. Из неё пастор заимствовал хорографию – описание земель Московии. Но нельзя уверенно говорить о прямом заимствовании: разночтений слишком много, чтобы их свести исключительно к творчеству или фантазии Одерборна. Особенно важным кажется различие в рассказе о введении опричнины, который у Одерборна явно ближе к тексту Таубе и Крузе. Конечно, можно предположить, что именно при написании данного фрагмента Одерборн отложил томик Гваньини (или рукопись Шлихтинга, если она у него была) и достал книгу ван Гоффа. Но возможно и то, что в распоряжении пастора находился неизвестный нам источник, который имел в своём составе вышеназванные трактовки и отличался от знакомых нам списков Шлихтинга.
Можно ли считать первоисточником начального рассказа об опричнине сочинение последнего? Перу Шлихтинга принадлежат два текста: краткая записка, составленная им сразу после пересечения русско-литовской границы и адресованная польскому королю32, и пространный рассказ о злодеяниях Ивана Грозного, отправленный в Ватикан и использованный для отмены московской миссии папского нунция в Польше Винченцо даль Портико33. В краткой записке, представляющей из себя «отчёт агента», нет всей той информации, которая появляется у Шлихтинга в его втором произведении.
К истории опричнины в первоначальной, краткой записке относятся три сюжета. Первый – обличительные речи Ивана Висковатого в адрес Ивана IV, когда тот вопрошает: с кем ты будешь строить свою «империю», если всех перебьёшь? Царь в ответ обещает убивать как можно больше подданных. Второй сюжет – рассказ об убийстве И. П. Фёдорова, существенно отличающийся от версии, предложенной Шлихтингом в его пространной записке. В первом варианте Шлихтинг писал, что Фёдоров возглавил заговор из 30 тыс. русских бояр (по другому списку – 30), чтобы арестовать царя и предать его в руки польского короля. Старицкий, Бельский и Мстиславский хитростью выманили у Фёдорова список заговорщиков и передали Ивану IV34. Последний вернулся в Москву, опустошая её земли, «как скиф». После получения списка заговорщиков он стал убивать всех подряд в Новгородской и Псковской землях. Рассказ о казнях новгородцев, намёк на «новгородский погром», является третьим сюжетом по истории опричнины в краткой записке Шлихтинга, но, собственно, этим намёком его история в данном тексте и исчерпывается.
Все подробности рассказа Шлихтинга об опричнине, к которым обычно обращаются историки, есть только в пространной редакции. Её появление учёные связывают с подготовкой миссии папского посланника Винченцо даль Портико. Рассказ Шлихтинга в краткой и пространной версиях совпадает только в одной детали: царь лично убил боярина ножом на пиру (если мы расцениваем сцену с издевательской «коронацией» Фёдорова как пир). Все остальные подробности появляются только в тексте, призванном сорвать установление отношений Москвы с папским двором.
Если умолчание о каких-то событиях в краткой записке можно объяснить её малым объёмом, то истолковать разницу трактовок сложнее. Рассказ о казни Фёдорова отличается кардинально. Сведения о «новгородском погроме» (да и о речах Висковатого, который в первом варианте произносит их вовсе не на плахе, а обличает царя в свободной беседе) – тоже. Объяснений может быть только два: либо Шлихтинг дозировал информацию (или придумывал её) от сочинения к сочинению35, либо первую записку он писал сам, на основе собственных данных, а пространную, предназначенную для Ватикана, – после того, как в его руки попал тот самый гипотетический неизвестный источник, содержащий не дошедший до нас рассказ о введении опричнины, который лёг в основу текстов и Шлихтинга, и Гваньини, и Одерборна.
Обрыв в череде совпадений можно объяснить тем, что наш гипотетический источник описывал события 1565–1568 гг., но не позже. Х. Ю. Тютин последний раз фигурирует в источниках в июле 1566 г. как казначей на Земском соборе36, К. Дубровский в 1566 г. принимал гонца крымского царевича Абдыл-Гирея Барака37. Р. Г. Скрынников отнёс даты их казней к 1567–1568 гг., но основывался только на вышеприведённых свидетельствах иностранцев38. Таким образом, анализ фрагментов текстов Шлихтинга, Гваньини и Одерборна позволяет предположить существование не дошедшего до нас источника (условно назовём его «Рассказ о введении опричнины»), который европейские авторы использовали в своих сочинениях. Скорее всего, это было донесение агентов, собиравших информацию об опричнине для своих заказчиков (вроде краткой записки Шлихтинга).
Следующее событие, рассказ о котором совпадает в нескольких источниках, – «новгородский погром». Трагедия Новгорода 1569/70 г. была первым деянием опричников, о котором узнали в Европе. Первые версии (если не считать мимолётного упоминания в краткой записке Шлихтинга) основывались на отчётах литовского посольства 1570 г.39 и связанных с ним агентов. Важным источником является также «Сообщение приора Англии» Р. Шелли 1570 г.40, лейпцигский 1570 г.41 и франкфуртский 1572 г. «летучие листки»42. Это самые ранние по времени появления европейские известия об опричнине.
В отчёте литовского посольства Иван IV, приехав в Новгород, схватил обвинённого в заговоре брата, казнил за военные неудачи некоего «генерала», затравленного медведем. Затем всех новгородцев истребили как соучастников заговора. Английский приор упоминает «медвежью казнь» уже после рассказа о новгородских казнях, в ходе которых погибли 18 тыс. человек, в том числе татары, убитые с помощью утопления. В Лейпцигском листке сообщается о намерении Новгорода предаться польскому королю и походе на него 40-тысячного царского войска. По пути были истреблены знатные люди в Твери и Торжке, расправы над которыми дополнялись казнями полоцких пленных. В самом Новгороде 350 знатных горожан казнили в огненных печах; через утопление истребляли женщин и детей, практиковались массовые убийства монахов. Лейпцигский листок упоминает также о походе царского войска на Псков, где было разорено только Завеличье. Франкфуртский листок повторяет за лейпцигским сведения о желании новгородцев перейти под власть польского короля, но неверно называет имя казнённого князя Старицкого (Андрей вместо Владимира), помещая это событие уже после расправ над жителями Твери (погром Торжка не упомянут). Подробно описаны зверства опричников в Новгороде: массовые изнасилования, выставление на мороз, утопления, сжигание живьём, волочение за санями. Среди жертв террора упомянуты монахи, архиепископ и татары, а вместо похода на Псков опричники выступили на Нарву.
Между лейпцигским и франкфуртским «летучими листками» очевидна преемственность. Развитие повествования происходит за счёт литературного творчества (красочное описание новгородских казней) или донесений из России разведчиков и агентов (добавление известий об убийстве новгородского архиепископа и походе на Нарву).
Более развёрнутые изложения истории «новгородского погрома» есть во всех записках иностранцев об опричнине. Здесь присутствуют разные версии событий. Так, причиной похода на Новгород Шлихтинг считал жажду человеческой крови, Штаден – жестокость царя, Таубе и Крузе, как и Гваньини, полагали, что Ивана IV толкнуло на этот шаг желание новгородцев перейти под власть польского короля, Одерборн же писал про «неопределённые подозрения» и стремление царя извести новгородцев. Начало погрома у Шлихтинга описано так: «Вступив в Новгородскую область, он посылал из лагеря вперёд тысячу и более всадников с приказанием перебить всех воинов этой области, а других он точно так же отправлял в город с поручением грабить. Сам он держался в лагере в миле от города, делая по временам набеги на город с целью избиения людей»43. Таубе и Крузе: «Когда он достиг известного города Новгорода, остановился он в четверти пути от него в монастыре, называемом Городище, и приказал обложить город и все улицы, а на следующий день поймать всех знатных новгородцев»44. Гваньини: «Послал вперёд несколько тысяч приспешников с татарской конницей, для того чтобы они грабили и отнимали у горожан всё имущество, а сам пошёл вперёд со всем войском и приказал всех встречных убивать, рубить на части, топтать лошадьми, вешать»45. Одерборн: «К городу подошли высланные вперёд отборные отряды палачей, и некий Малюта Скуратов, который держал под властью государевых опричников, должен был перекрыть горожанам всякую возможность к побегу, и убивать, обращать в бегство, и грабить всё, что попадётся на пути»46. Лаконичнее всех оказался Штаден: «Великий князь вернулся под Великий Новгород и расположился в 3 верстах пути от него; в город он послал разведчиком воеводу со своими людьми»47.
Основные казни описаны также с разной степенью подробности. Таубе и Крузе сообщают об убийствах и грабежах, после которых в домах и церквах не осталось ни одной иконы дороже, чем в полгульдена. Штаден пишет, что снесены высокие здания, изрублены ворота, лестницы, окна. Шлихтинг поведал, что знатных людей загнали за ограду из частокола и там порубили на куски. Других выводили на лёд, лёд подрубали, и они тонули. По Гваньини, сначала город грабила татарская конница, потом опричники – всех встречных рубили, топтали лошадьми, вешали. Именитых горожан собрали на площадях и порубили, вывели людей на лёд и обрубили его. Согласно Одерборну, резню начали татары, потом Малюта с опричниками, которые «растерзали на части людей и скот, оскверняли развратом девиц, пронзали пиками младенцев, а сами городские строения подожгли». «Сенаторов» перебили, заперев в «курии» (пастор использует античную терминологию).
Численность жертв оценивается по-разному: Шлихтинг, Гваньини и Одерборн писали о 2 750–2 770 убитых (не считая черни), Таубе и Крузе насчитали 12 тыс. знатных и 15 тыс. простонародья, упомянув также об опустошении окрестностей города на 150 немецких миль. Монастырей опричники разгромили 170 (Шлихтинг), 175 (Гваньини), 300 (Штаден). У всех авторов описана расправа с новгородским архиепископом. Если Штаден сообщает лишь о конфискации его имущества, то Таубе и Крузе описывают глумление, которому подвергли владыку: «Архиепископа посадил он на белую кобылу, дав ему в одну руку русские гусли, а в другую дурацкую палку, и приказал в таком виде привести его к себе». Шлихтинг, Гваньини и Одерборн писали, что описанные выше издевательства начались после пира, на который архиепископ был приглашён, причём у Шлихтинга в руки несчастному дали волынку, а у Гваньини – лиру, флейту, дудку и гитару. По Шлихтингу и Гваньини опозоренный иерарх был отправлен в Москву, у Одерборна же его зарезали.
По-разному описано и разорение Пскова. Шлихтинг сообщает, что псковичи встретили царя хлебом-солью; царь пощадил город, но «разграбил всё же их имущество… Всю же ярость и жестокость он обратил против монахов». Близкó по смыслу описание Гваньини: горожане встретили Ивана IV хлебом-солью; город царь пощадил, но «у горожан и купцов побогаче он отнял золото и серебро, а некоторых монахов приказал убить». Одерборн также пишет, что горожан царь пощадил, но собрал их как бы на собрание и истребил «сенат», убив также «самых состоятельных и влиятельных из простого народа». Таубе и Крузе писали, что в Пскове царь «задушил… многих, а других превратил в нищих»; почитаемый бедный человек Никола вызвал царя и призвал не лить христианскую кровь, после чего царь ушёл, бросив награбленное. У Штадена спасителем псковичей выступил зажиточный мужик-прорицатель Микула, державший много скота и на этом разбогатевший. Он сказал Ивану: «Довольно! Отправляйся назад домой!»48.
Из сравнения текстов очевидна связь рассказов Шлихтинга и Гваньини и самостоятельность повествований Таубе с Крузе и Штадена. С сочинением Одерборна сложнее. Оно имеет сходство с произведениями Шлихтинга и Гваньини, но содержит несколько авторских трактовок, которые можно отнести к литературному творчеству (использование античных образов – сенат, курии и т. д.), и ряд специфических деталей (появление имени Малюты Скуратова как предводителя опричников-погромщиков, указание на 700 женщин с детьми, утопленных в Волхове, утверждение, что новгородский архиепископ был убит после издевательств). Это позволяет поставить вопрос о существовании неизвестного нам источника, содержащего эти детали и вместе с тем сходного с сочинениями Шлихтинга и Гваньини.
Отдельным блоком выступает рассказ о московских казнях 1570 г. (известных в литературе как «казни на Поганой луже»). Все, кроме Штадена, подробно описали подготовку к ним. С наибольшими подробностями процесс изобразил Шлихтинг: «В землю [вбиты]… 20 очень больших кольев; к этим кольям они привязывали поперёк брёвна, края которых соприкасались с обеих сторон с соседним колом… Сзади кольев палачи разводят огонь и над ними помещают висячий котел… наполненный водой… Напротив рукомойника они ставят также кувшин с холодной водой»49. Ему вторит Гваньини: «Великий князь велел вбить восемнадцать огромных кольев и положить поверх них столько же бревен в форме виселицы… Затем, разложив большой костёр, принесли громадный медный котёл, наполненный водой, чтобы она бурлила и кипела в течение многих часов»50. Одерборн также уделил процедуре немалое внимание: царь велел «воздвигнуть на площади восемнадцать рогаток и такое же число крестов. Затем приносят все разнообразные орудия, изобретённые для того, чтобы истязать людей, зажигают огонь, а на него ставят медные котлы, в которых кипела очень горячая вода»51. Таубе и Крузе, напротив, немногословны: «приказал он построить на рыночной площади отгороженное место»52.
Три автора – Шлихтинг, Гваньини и Одерборн – сообщают, что царю и опричникам пришлось приложить немало усилий, чтобы обеспечить подготовленное «зрелище» достойным количеством зрителей, поскольку москвичи в ужасе попрятались в домах. Шлихтинг: «Видя, что народ оробел и отворачивается от подобной жестокости, разъезжал верхом, увещевая народ не бояться. Тиран велит народу подойти посмотреть поближе, говоря, что, правда, в душе у него было намерение погубить всех жителей города, но он сложил уже с них свой гнев. Услышав это, народ подходит ближе, а другие влезают на крыши домов. Тиран снова возвращается к черни и, стоя в середине её, спрашивает, правильно ли он делает, что хочет карать своих изменников. Народ восклицает громким голосом: “Живи, преблагий царь. Ты хорошо делаешь, что наказуешь изменников по делам их”». Гваньини: «Когда он заметил, что от робости и сильного страха все прячутся в убежища и свои дома, он тогда сам начал скакать на лошади по всем городским улицам и громким голосом вызывал горожан, крича: “Приходите без всякого страха, будьте спокойны, выходите посмотреть! Я ничего плохого против вас не замыслю, обещаю вам это. Правда, я собирался недавно всех вас до основания уничтожить и погубить, но я уже переменил это намерение, вы можете без опаски выходить на площадь поглядеть, что делается”… Народ, выйдя группами и толпой, заполнил площадь… Народ криками поддержал царя». Одерборн: Царь «приготовил угощения для простого народа в общественных зданиях, а для сената – в курии, намереваясь подсыпать в кубки яд… чтобы с большей лёгкостью разграбить осиротевший город. Но никто не пришёл. Он самолично разъезжал на лошади по перекрёсткам и приказывал гражданам быть смелее, стараясь свести на нет злобу прошлых [дел] добротою нынешних». После того как собралась большая толпа, царь вышел к собранию, сказав: «О граждане, для вас взошёл счастливейший день, ибо я прямо в эту минуту решил отменить ранее вынесенный вам смертный приговор, однако же подвергну истязаниям и заслуженной казни сию горстку изменников»53. Штаден, Таубе и Крузе этот сюжет обошли молчанием.
Не вполне совпадают у авторов данные о числе казнённых. У Шлихтинга это 300 измученных в темнице знатных мужей, 184 из которых помилованы (примерно то же сообщает Гваньини, у которого помилованы 180 человек). У Таубе и Крузе 300 вельмож помиловали, чтобы произвести хорошее впечатление на польское посольство. Штаден пишет, что «великий князь умертвил до 130 начальников». По Одерборну, помилованы 200 человек, но царь «убивает не только советников, но и самого [своего] брата и родственников».
Шлихтинг, Гваньини и Одерборн уделили особое внимание казни И. М. Висковатого, расходясь при этом в деталях. У Шлихтинга обвинение (измена в пользу польского короля, турецкого султана и крымского хана) зачитывал Василий Щелкалов; Висковатый отрицал вину и перед смертью проклял тирана. У Гваньини обвинения (те же, что и у Шлихтинга) зачитал «влиятельный секретарь великого князя». Висковатый у него не ограничился проклятием в адрес мучителей – он также плюнул в них. Одерборн вложил обвинительную речь в уста Малюты: «Ты дважды стремился захватить тираническую власть, дважды наводил на Московию татар, дважды пытался выдать Казань турецкому императору».
По-разному выглядит и расправа над бывшим печатником. Таубе и Крузе: «Канцлера приказал он привязать к доске и растерзать и изрезать его, начав с нижних конечностей и кончая головой, так что от него ничего не осталось». Штаден: Ивану Висковатову отрезали сперва нос и уши, потом отсекли руки. Шлихтинг: резали все придворные по кускам, начал Малюта, подьячий Иван Ренут отрезал несчастному половые органы, и Висковатый умер. Царь хотел наказать Ренута, что он избавил печатника от муки, но Ренут умер от чумы (Гваньини повторяет этот рассказ, опустив лишь имя подьячего; близкó по содержанию описание казни у Одерборна).
Ещё одной жертвой репрессий 1570 г. стал казначей Фуников-Курцев. Шлихтинг упоминает обвинения в вероломстве, которые тот отрицал; его попеременно обливали кипятком и холодной водой до смерти (примерно так же выглядит казнь в описании Одерборна). Таубе и Крузе сообщили, что царь «приказал сперва привязать казначея к столбу, развести огонь и топить под ним котёл с горячей водой до тех пор, пока тот не испустил дух». У Штадена привязанного к столбу Фуникова сварили живьём, обливая кипятком. Наиболее драматичен рассказ Гваньини: казначей, «почувствовав, как обжигает его кипящая вода, закричал диким голосом; но этот слуга тирана, Малюта, всё больше и больше лил на него эту кипящую воду… От этого жесточайшего рода пытки он и испустил дух»54.
Мы видим повторение уже выявленной закономерности – явное сходство рассказов Шлихтинга, Гваньини и Одерборна, при этом повествование Одерборна дополнено или бурной авторской фантазией (например, про съеденные подьячим для спасения своей жизни половые органы Висковатого), или сведениями какого-то неизвестного нам источника, следы которого обнаруживаются и ранее (речи Малюты перед Висковатым, которых нет в других памятниках). В рассматриваемых текстах есть мелкие повторяющиеся сюжеты, которые также относятся к литературным заимствованиям. Видимо, они отражают хождение неких слухов, микроисторий, которые передавались из уст в уста. Попав за рубеж, они оказывались на страницах текстов, в том числе печатных, и начиналось шествие сюжета по литературным памятникам. В ряде случаев перед нами, видимо, целиком сочинённые истории в стиле притч, иногда можно предположить, что за ними стоят реальные события.
Наиболее распространённые сюжеты – сон о пленении польского короля55; рассказы о царских издевательских шутках на пирах (горячая похлёбка за шиворот шуту Гвоздеву56, отрезание уха у Бориса Титова)57; история об утоплении жертвы за неправильно подаренную царю рыб58; повествование о казни строителей Вологды, съевших телёнка59; о наказании за каннибализм строителей Орла60. Особое внимание уделяется издевательствам над женщинами: их заставляют обнажаться перед опричниками и стоять с задранным подолом, пока те не проедут. Убитых жён вешают над обеденными столами и заставляют мужей вкушать пищу под этим страшным «украшением» (у Таубе и Крузе убитую жену бросают во дворе, и муж вынужден ходить мимо трупа)61.
Перечисленные совпадения сюжетов и примеры связи между памятниками, выявленная зависимость текстов и заимствования авторов источников друг у друга позволяют сформулировать два вывода. Во-первых, дошедшие до нас записки иностранцев – это не единственные существовавшие тексты об опричнине. В произведениях Шлихтинга, Гваньини, Одерборна явно прослеживаются следы какого-то предшествующего, не сохранившегося источника (источников?), который этими авторами использовался и творчески перерабатывался. Если это так, то известные нам «сказания о Московии» лишаются авторитета первоисточника.
Во-вторых, можно ставить вопрос о степени достоверности записок иностранцев об опричнине. В основе их, несомненно, лежали исторические события (такие, как опричный погром Новгорода). Но невозможно отрицать, что в данных сочинениях литературное начало превалирует над верифицируемой исторической информацией, источником которой нередко выступают слухи или текст предшественника, литературно переработанный, а вовсе не взгляд очевидца. К таким источникам нельзя подходить потребительски, просто ссылаясь на них как на подлинное свидетельство. Надо устанавливать по возможности происхождение этих высказываний и свидетельств. И если перед нами явная литературная игра, вряд ли её можно считать аргументом в исторических построениях.
Следует подчеркнуть, что оптика авторов-иностранцев была сформирована европейской политической культурой и ожиданиями, надеждами, которые европейцы связывали с Россией и возможными переменами в ней. Особое внимание уделяется оппозиции царю среди бояр, планам захвата России, ослабленной опричными репрессиями («тирана надо разбить единодушным натиском» – Таубе и Крузе)62. Шлихтинг в краткой записке, адресованной польскому королю, сообщал, что русские ненавидят своего царя и хотят его предать, Польша выступит освободителем России от тирании63. Гваньини пишет о симпатиях новгородцев, псковичей и тверичей к польскому королю64. Штаден утверждал, что глава русской посольской службы дьяк Висковатый ненавидел христиан и благоволил татарам, что существовал земский заговор с целью свержения царя и возведения на престол Владимира Старицкого, что земские желали, чтобы опричный двор на Арбате сгоре65. Гваньини рассказывает о 150 знатных русских, которые хотели перейти на сторону польского короля и были за это казнены66. Одерборн изображает земский собор 1566 г. (у него 1567 г.) как оппозицию царю67. Насколько эти сведения отражают существование реальной оппозиции Ивану Грозному (как, например, считала А. Л. Хорошкевич)68, а насколько являются литературными вымыслами, остаётся вопросом.
В фокусе внимания авторов были злодеяния Ивана Грозного в отношении иностранцев, прежде всего поляков. Шлихтинг писал, что царь «терзал муками иностранцев по самому лёгкому подозрению69. «Новгородский погром» сопровождался убийствами пленных поляков в Торжке, Твери, Ярославле, Переяславле, Ростове, Костроме, Угличе, Новгороде70. Пленных поляков убивали в тюрьме, причём царь лично, своими руками, заколол копьём Павла Быковского (у Гваньини поляк перехватил копьё и пытался убить царя). У Одерборна Иван IV отрубил Быковскому голову и держал её при себе на трапезах71. Казни поляков носили издевательский характер: по Одерборну, их заставили биться на мечах, пока они друг друга не убьют72.
Казнили не только иностранцев, но и связанных с ними русских (Петра Серебряного и пленных литовцев; тверичей, подружившихся с иноземцами)73. Татары просто так не сдавались: они ранили Малюту Скуратова, когда их убивали в тюрьме. Татар обманом посылали по гарнизонам и там топили, убивали вероломно, для устрашения привязывали трупы к брёвнам и пускали по Волге. По словам Таубе и Крузе, даже у татар и язычников есть закон и право, только в России их нет74.
Идеи оппозиции режиму и репрессий против просвещённых иностранцев связывались с описаниями ужасной жизни в Московии: опричники ежедневно рыщут по улицам и просто так убивают встречных прохожих, в Москве на каждой улице лежит по три-четыре трупа75. Такие же стихийные казни происходят в Александровой слободе, где ежедневно убивают 30–40 человек, трупами завалены дороги в слободу, в неё просто так не проехать. Перед церковными службами и после обеда царь убивает 27 человек и более76. Персональная жестокость царя не знает границ: он любит умываться кровью жертв, пронзает копьём немощного старика, лично убивает своих жертв, по его приказу убивают всё живое – женщин, детей, скот, собак и кошек, рыб в прудах. Всё, что имело дыхание, должно было умереть77. Грех Ивана Грозного сравнивается с грехами Содома и Гоморры. Правлением Ивана IV «Всемогущий Господь так сурово и тяжко наказал Русскую землю». Своей тиранией он превзошёл тиранов Античности78.
С особым вкусом авторы описывали опричные издевательства над женщинами. Из текста в текст переходит сюжет, как опричники гоняют по полю голых женщин (они ловят кур или просто убегают от преследователей). Несчастных расстреливают из луков. Голую жену князя Старицкого убивают стрельцы. Жён забирают у мужей, вывозят из Москвы и раздают челяди (у Штадена есть сходный рассказ про действия опричников «на берегу Западного моря», т. е. в Ливонии). Одну женщину насилуют 500 стрельцов. Жене Фуникова обдирают половые органы грубой верёвкой79.
Все эти страшные истории достигли своего эффекта. Европейские читатели были убеждены, что Московия – варварская и несчастная страна, которой правит кровавый тиран. Жизнь московита (и тем более московитки) – это ожидание гибели из-за произвола царя и его жестоких слуг. Спасти может только смерть тирана, смена режима и благотворное влияние иностранцев. Эти идеологические установки, безусловно, не отменяют того факта, что опричнина являлась репрессивным политическим режимом, и правление царя Ивана действительно было «грозным», чему есть достаточно свидетельств и в русских источниках. Но при реконструкции истории этого периода нужно обращаться к документально установленным фактам, не доверяя нарративам, в которых литература и идеология довлеют над достоверными сведениями.
1 Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992.
2 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 331.
3 ПСРЛ. Т. 13. М., 2000. С. 391–396.
4 Зимин А. А. Митрополит Филипп и опричнина // Вопросы истории религии и атеизма. Т. 11. М., 1963. С. 269–292; Латышева Г. Г. Публицистический источник по истории опричнины (к вопросу о датировании) // Вопросы историографии и источниковедения отечественной истории. Сборник трудов МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1974. С. 30–62; Колобков В. А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004; Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа. Исследование и тексты. СПб., 2006.
5 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 293–305; Морозов С. А. Обзор списков редакций Повести о пленении Великого Новгорода Иваном Грозным // Археографический ежегодник за 1977 год. М., 1978. С. 268–274.
6 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950; Веселовский С. Б. Очерки по истории опричнины. М., 1963; Зимин А. А. Опричнина…; Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999.
7 Шлихтинг А. Новое известие о времени Ивана Грозного / Пер. А. И. Малеина. Л., 1934; Дубровский И. В. Латинские рукописи сочинений Альберта Шлихтинга // Русский сборник. Исследования по истории России. Т. XVIII. М., 2015. С. 74–217.
8 Рогинский М. Г. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // Русский исторический журнал. 1922. Кн. 8. С. 11–60.
9 Штаден Г. Записки о Московии. Т. 1–2. М., 2008–2009.
10 Гваньини А. Описание Московии. М., 1997.
11 Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича, великого князя Московии. СПб., 2024.
12 Курбский А. История о делах великого князя московского / Подгот. К. Ю. Ерусалимский. М., 2015.
13 Штаден Г. Записки о Московии. Т. 1. С. 119.
14 Полосин И. И. Немецкий пастор Одерборн и его памфлет об Иване Грозном (1585) // Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI – начала XVII в. М., 1963. С. 192–217; Зольдат К. Приёмы дискредитации «великого князя» в «Кратком сказании…» из Московии А. Шлихтинга // Эпоха Ивана Грозного и её отражение в историографии, письменности, искусстве, архитектуре. Сборник материалов всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Владимир, 2018. С. 149–166; Soldat C. Russland als Ziel kolonialer Eroberung: Heinrich von Stadens Pläne für ein Moskauer Reich im 16. Jahrhundert. Transcript Verlag, 2022.
15 Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского как исторический материал. Киев, 1889; Soldat C. Vlad Ţepeş und Ivan der Schreckliche in der kulturellen Imagologie im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation // Vlad der Pfähler – Dracula: Tyrann oder Volkstribun? Köln; Leiden; Wien, 2017. S. 217–234; Рыков Ю. Д. Князь Курбский и опричнина Ивана Грозного. М., 2021.
16 Graham H. How do we know what we know about Ivan the Terrible? (A Paradigm) // Russian History. Vol. 14. 1987. № 1/4. P. 179–198.
17 Морозова Л. Е. Иван Грозный глазами современников. М., 2022.
18 Булычёв А. А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. М., 2005.
19 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 356–404; Данилевский И. Н. Семантика опричного дворца и смысл опричнины: к вопросу о системе доказательств в исторической реконструкции // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 48. С. 29–37.
20 Отдельные наблюдения об этом содержатся в уже упоминавшихся исследованиях А. А. Зимина, Р. Г. Скрынникова, С. Б. Веселовского; из последних работ см.: Шапошник В. В. «Дело» митрополита Филиппа в сочинениях Штадена, Таубе и Крузе // Россия и Германия в системе международных отношений: через века истории. СПб., 2012. С. 21–29; Преснякова Л. П. Дискуссия о достоверности «Записок» Генриха Штадена в отечественной историографии // Научный потенциал: работы молодых учёных. 2014. № 2. С. 351–357; Прохоренков И. А. Загадка соавтора «Хроники Европейской Сарматии» Александра Гваньини (по поводу книги Михала Курана «Marcin Paszkowski – poeta okolicznosciowy i moralista z pierwszej polowy XVII wieku») // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2014. № 1(15). С. 193–205; Филюшкин А. И. Антигерой Европы: как создавалась «Ioannis Basilidis Magni Moscoviae ducis vita» Пауля Одерборна // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2023. № 2(92). С. 109–125.
21 Soldat C. Novgorod Counter Histories around 1700. The Story about Ivan the Terrible’s Raid of Novgorod Reconsidered // Russian History. 2021. № 3/4. P. 231–286.
22 Halperin Ch. German Pamphlets, Russian Chronicles, and Ivan the Terrible // Russian History. 2021. № 3/4. P. 287–301; Filyushkin A. Making an Anti-Hero or Describing a Tyrant? Postmodernism and Ivan the Terrible // Russian History. 2021. № 3/4. P. 302–315.
23 Hoff G., von. Erschreckliche, greuliche und unerhorte Tyranney Iwan Wasilowitz, jtzo regierenden Grossfürsten in Muscow, so er vorruckter Jar an seinen… Freunden, Underfürsten, Baioaren und gemeinem Landtvock unmenschlicher weise… geübet… S. l.: s. t., 1582. S. 2–4.
24 Об установлении личности этого врача см.: Симонов Р. А. Врач Ивана IV Арнольф: историографический миф и исторический факт // Вопросы истории. 1998. № 5. С. 106–114.
25 Польская биография Шлихтинга после 1571 г. реконструирована в статьях: Grala H. Zu Werk und Person Albert Schlichtings // Bayern und Osteuropa. Aus der Geschichte der Beziehungen Bayerns, Frankens und Schwabens mit Russland, der Ukraine und Weissrussland. Wiesbaden, 2000. S. 145–154; Grala H. Wokol dziela i osoby Alberta Schlichtinga (Przyczynek do dziejow propagandy antymoskiewskiej w drugiej polowie XVI w.) // Studia Zrodloznawcze. 2000. T. XXXVIII. S. 36–42.
26 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России: государство Ивана Грозного. Л., 1988. С. 159–176.
27 Дубровский И. В. Латинские рукописи… С. 74–217.
28 Скрынников Р. Г. Опричный террор. Л., 1969. С. 267.
29 Шлихтинг А. Новое известие… С. 11–23; Гваньини А. Описание Московии. С. 95–105; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 108–111.
30 Дубровский И. В. Латинские рукописи… С. 85–88.
31 Старостина И. П. К вопросу об авторстве «Сказания» Альберта Шлихтинга // Восточная Европа в древности и средневековье. V чтения памяти В. Т. Пашуто: Спорные проблемы истории. М., 1993. C. 125–130; Старостина И. П. Иван Грозный в изображении Шлихтинга–Стрыйковского // Восточная Европа в древности и средневековье. X чтения памяти В. Т. Пашуто. Материалы конференции. М., 1998. C. 112–117.
32 Последняя публикация: Шлихтинг А. Что говорят о последних событиях в Московии, 1 октября 1570 года // Дубровский И. В. Латинские рукописи… С. 212–217.
33 Дубровский И. В. Венеция, греки и Московское царство в начале Кипрской войны // Русский сборник. Исследования по истории России. Т. XVIII. М., 2016. С. 24–60.
34 Версия, что именно Владимир Старицкий выдал царю участников «земского» заговора, есть также у Штадена (Штаден Г. Записки. Т. 1. С. 109). Правда, у него запутанная хронология: сначала опричники убили Фёдорова и разгромили его имения (настоящая дата этого события – 1567/68 г.), потом был создан земский заговор с целью убить царя и истребить опричников, затем последовали осада Риги и основание Ливонского королевства Магнуса (1569); Владимир Андреевич предал заговорщиков, последовали антиопричное выступление Филиппа Колычёва (1567), посаженного на цепь до конца жизни, и «новгородский погром» (1569). У Шлихтинга главой «земского заговора» является Фёдоров.
35 Глухую отсылку к краткой записке Шлихтинга можно увидеть в сообщении пространной записки: «И если бы польский король не вернулся из Радошковиц и не прекратил войны, то с жизнью и властью тирана всё было бы покончено, потому что все его подданные были в сильной степени преданы польскому королю» (Шлихтинг А. Новое известие… С. 29). Видим, что здесь также содержится намёк на возможный заговор, который, однако, не может датироваться 1567/68 г., когда казнили Фёдорова. Прекращение русско-литовской войны относится к 1569–1570 гг.
36 Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 173.
37 Лихачёв Н. П. Библиотека и архив московских государей в XVI столетии. СПб., 1894. С. 110.
38 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 295.
39 Дубровский И. В. Ричард Шелли и польско-литовское посольство к царю Ивану Грозному 1570 года // Русский сборник. Исследования по истории России. Т. XXVII. М., 2020. С. 27–36.
40 Там же. С. 37–43.
41 Там же. С. 64–69.
42 Каппелер А., Скрынников Р. Г. Забытый источник о России эпохи Ивана Грозного // Отечественная история. 1999. № 1. С. 134–141.
43 Шлихтинг А. Новое известие… С. 29.
44 Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 50.
45 Гваньини А. Описание Московии. С. 115.
46 Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 112–113.
47 Штаден Г. Записки о Московии. Т. 1. С. 115.
48 Гваньини А. Описание Московии. С. 115–121; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 112–116; Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 50–52; Шлихтинг А. Новое известие… С. 29–33; Штаден Г. Записки о Московии. Т. 1. С. 115–119.
49 Шлихтинг А. Новое известие… С. 46–47.
50 Гваньини А. Описание Московии. С. 141.
51 Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 117.
52 Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 52.
53 Гваньини А. Описание Московии. С. 141–142; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 117–118; Шлихтинг А. Новое известие… С. 47.
54 Гваньини А. Описание Московии. С. 143–144; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 118–119; Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 52; Шлихтинг А. Новое известие… С. 48–49.
55 Шлихтинг А. Новое известие… С. 38–39; Гваньини А. Описание Московии. С. 109. В другом варианте – рассказ о том, что польский король боится русского царя (Гваньини А. Описание Московии. С. 153); Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 127.
56 Шлихтинг А. Новое известие… С. 43; Гваньини А. Описание Московии. С. 107; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 128.
57 Шлихтинг А. Новое известие… С. 39; Гваньини А. Описание Московии. С. 107; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 128.
58 Шлихтинг А. Новое известие… С. 41; Гваньини А. Описание Московии. С. 151; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 124.
59 Шлихтинг А. Новое известие… С. 40; Гваньини А. Описание Московии. С. 150. См. анализ сюжета: Осипов И. А. К вопросу о заповедности телятины у русских // Valla. 2016. Т. 2. № 1(3). С. 29–52.
60 Гваньини А. Описание Московии. С. 150; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 124 (Одерборн объединяет рассказ о телёнке и каннибализме).
61 Шлихтинг А. Новое известие… С. 38, 52; Гваньини А. Описание Московии. С. 109, 131; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 111; Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 42.
62 Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 57.
63 Шлихтинг А. Что говорят о последних событиях в Московии… С. 215–217.
64 Гваньини А. Описание Московии. С. 113.
65 Штаден Г. Записки. Т. 1. С. 91, 101, 109–111, 129.
66 Гваньини А. Описание Московии. С. 151.
67 Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 112.
68 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений в середине XVI в. М., 2003. С. 206, 209, 304, 479, 569.
69 Шлихтинг А. Новое известие… С. 16.
70 Там же. С. 35–36; Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 50; Штаден Г. Записки. Т. 1. С. 117; Гваньини А. Описание Московии. С. 119, 129, 137.
71 Шлихтинг А. Новое известие… С. 45; Гваньини А. Описание Московии. С. 139; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 123.
72 Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 123.
73 Шлихтинг А. Новое известие… С. 45; Штаден Г. Записки. Т. 1. С. 113.
74 Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 44, 50; Гваньини А. Описание Московии. С. 119–121; Шлихтинг А. Новое известие… С. 41; Штаден Г. Записки. Т. 1. С. 209–211.
75 Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 42; Шлихтинг А. Новое известие… С. 26.
76 Шлихтинг А. Новое известие… С. 26–28; Гваньини А. Описание Московии. С. 155; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 125.
77 Шлихтинг А. Новое известие… С. 26, 50; Гваньини А. Описание Московии. С. 103, 113, 147; Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 43; Курбский А. История… С. 156; Одерборн П. Жизнь Ивана Васильевича… С. 112.
78 Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 43; Штаден Г. Записки. Т. 1. С. 203; Гваньини А. Описание Московии. С. 159.
79 Шлихтинг А. Новое известие… С. 24; Таубе И., Крузе Э. Послание… С. 42, 43, 48; Штаден Г. Записки. Т. 1. С. 101, 121, 133; Гваньини А. Описание Московии. С. 103, 149.
Авторлар туралы
Alexander Filyushkin
Saint Petersburg State University
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, профессор
Ресей, St.-PetersburgӘдебиет тізімі
- Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана Грозного. Л., 1988.
- Булычёв А.А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. М., 2005.
- Веселовский С.Б. Очерки по истории опричнины. М., 1963.
- Данилевский И.Н. Семантика опричного дворца и смысл опричнины: к вопросу о системе доказательств в исторической реконструкции // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 48. С. 29–37.
- Дубровский И.В. Венеция, греки и Московское царство в начале Кипрской войны // Русский сборник. Исследования по истории России. Т. XVIII. М., 2016. С. 24–60.
- Дубровский И.В. Латинские рукописи сочинений Альберта Шлихтинга // Русский сборник. Исследования по истории России. Т. XVIII. М., 2015. С. 74–217.
- Дубровский И.В. Ричард Шелли и польско-литовское посольство к царю Ивану Грозному 1570 года // Русский сборник. Исследования по истории России. Т. XXVII. М., 2020. С. 27–36.
- Зимин А.А. Митрополит Филипп и опричнина // Вопросы истории религии и атеизма. 1963. Т. 11. С. 269–292.
- Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
- Зольдат К. Приёмы дискредитации «великого князя» в «Кратком сказании…» из Московии А. Шлихтинга // Эпоха Ивана Грозного и её отражение в историографии, письменности, искусстве, архитектуре. Сборник материалов всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Владимир, 2018. С. 149–166.
- Каппелер А., Скрынников Р.Г. Забытый источник о России эпохи Ивана Грозного // Отечественная история. 1999. № 1. С. 134–141.
- Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 331.
- Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004.
- Латышева Г.Г. Публицистический источник по истории опричнины (к вопросу о датировании) // Вопросы историографии и источниковедения отечественной истории. Сборник трудов МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1974. С. 30–62.
- Лихачёв Н.П. Библиотека и архив московских государей в XVI столетии. СПб., 1894.
- Лобакова И.А. Житие митрополита Филиппа. Исследование и тексты. СПб., 2006.
- Морозов С.А. Обзор списков редакций Повести о пленении Великого Новгорода Иваном Грозным // Археографический ежегодник за 1977 год. М., 1978. С. 268–274.
- Морозова Л.Е. Иван Грозный глазами современников. М., 2022.
- Полосин И.И. Немецкий пастор Одерборн и его памфлет об Иване Грозном (1585) // Полосин И.И. Социально-политическая история России XVI – начала XVII в. М., 1963. С. 192–217.
- Преснякова Л.П. Дискуссия о достоверности «Записок» Генриха Штадена в отечественной историографии // Научный потенциал: работы молодых учёных. 2014. № 2. С. 351–357.
- Прохоренков И.А. Загадка соавтора «Хроники Европейской Сарматии» Александра Гваньини (по поводу книги Михала Курана «Marcin Paszkowski – poeta okolicznosciowy i moralista z pierwszej polowy XVII wieku») // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2014. № 1(15). С. 193–205.
- Рыков Ю.Д. Князь Курбский и опричнина Ивана Грозного. М., 2021.
- Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950.
- Симонов Р.А. Врач Ивана IV Арнольф: историографический миф и исторический факт // Вопросы истории. 1998. № 5. С. 106–114.
- Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992.
- Старостина И.П. Иван Грозный в изображении Шлихтинга-Стрыйковского // Восточная Европа в древности и средневековье: X Чтения памяти В.Т. Пашуто. Материалы конференции. М., 1998. C. 112–117.
- Старостина И.П. К вопросу об авторстве «Сказания» Альберта Шлихтинга // Восточная Европа в древности и средневековье. V чтения памяти В.Т. Пашуто: Спорные проблемы истории. М., 1993. C. 125–130.
- Филюшкин А.И. Антигерой Европы: как создавалась «Ioannis Basilidis Magni Moscoviae ducis vita» Пауля Одерборна // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2023. № 2(92). С. 109–125.
- Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999.
- Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений в середине XVI в. М., 2003.
- Шапошник В.В. «Дело» митрополита Филиппа в сочинениях Штадена, Таубе и Крузе // Россия и Германия в системе международных отношений: через века истории. СПб., 2012. С. 21–29.
- Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
- Ясинский А.Н. Сочинения князя Курбского как исторический материал. Киев, 1889.
- Filyushkin A. Making an Anti-Hero or Describing a Tyrant? Postmodernism and Ivan the Terrible // Russian History. 2021. № 3/4. P. 302–315.
- Graham H. How do we know what we know about Ivan the Terrible? (A Paradigm) // Russian History. Vol. 14. 1987. № 1/4. P. 179–198.
- Grala H. Wokol dziela i osoby Alberta Schlichtinga (Przyczynek do dziejow propagandy antymoskiewskiej w drugiej polowie XVI w.) // Studia Zrodloznawcze. 2000. T. XXXVIII. S. 36–42.
- Grala H. Zu Werk und Person Albert Schlichtings // Bayern und Osteuropa. Aus der Geschichte der Beziehungen Bayerns, Frankens und Schwabens mit Russland, der Ukraine und Weissrussland. Wiesbaden, 2000. S. 145–154.
- Halperin Ch. German Pamphlets, Russian Chronicles, and Ivan the Terrible // Russian History. 2021. № 3/4. P. 287–301.
- Soldat C. Novgorod Counter Histories around 1700. The Story about Ivan the Terrible’s Raid of Novgorod Reconsidered // Russian History. 2021. № 3/4. P. 231–286.
- Soldat C. Russland als Ziel kolonialer Eroberung: Heinrich von Stadens Pläne für ein Moskauer Reich im 16. Jahrhundert. Transcript Verlag, 2022.
- Soldat C. Vlad Ţepeş und Ivan der Schreckliche in der kulturellen Imagologie im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation // Vlad der Pfähler – Dracula: Tyrann oder Volkstribun? Köln; Leiden; Wien, 2017. S. 217–234.
Қосымша файлдар