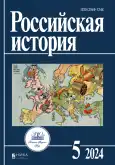«Bribe» and «gift» in Russia of the Petrine Era in interdisciplinary discourse
- Authors: Redin D.А.1
-
Affiliations:
- Institute of History and Archeology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 34-51
- Section: History of power
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274778
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050036
- EDN: https://elibrary.ru/SLGXUY
- ID: 274778
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the study of the phenomenon of bribery in the Peter the Great era through the prism of interdisciplinary research: closely related methods of cultural anthropology, linguo-semiotics, linguistics proper, historical semantics and historical-legal approach. Such methodological synthesis is aimed at studying the words that marked the phenomena defined by the author as private rewards of officials. Private rewards of officials are a complex social phenomenon that cannot be reduced to the modern concept of a bribe. The combination of methods of philological, historical and legal sciences allowed us to obtain a more subtle optics of its study, to see how the evolution and criminalization of ancient practices of gift exchange and tribute took place in the context of the emerging modern state, on the one hand, and how difficult it was for the legal concept of a bribe to mature as a criminal variety of such rewards, on the other.
Full Text
«По древнему названию посул, по-нынешнему взятки, а по-иностранному акциденция, когда начало своё восприяли, в том все учёные между собою не согласны1. Прошло более двухсот лет с тех пор, как были написаны эти строки, а учёные и поныне «между собою не согласны» в том, когда же в России зародилось взяточничество. Особенно любопытно читать об этом в историко-юридических статьях, авторы которых как будто соревнуются в поисках наиболее древних точек отсчёта появления этого феномена. Это и XV в. (по мнению В. В. Федунова), и XII в. (как полагает В. В. Гаврилов, глухо ссылаясь на данные неких «русских летописей»). И даже самая заря становления Русского государства IX–XI вв., когда, по мысли С. А. Алимпиева, считающего возможным говорить о «государственных чиновниках» той эпохи и ставящего знак равенства между кормлениями и взятками, в жизнь общества вошла коррупция как результат отсутствия надлежащих норм противодействия ей в Русской Правде2. Число подобного рода исследований слишком велико, чтобы продолжать их ряд, но в данной статье речь пойдёт о несколько другой проблеме.
Всякому, кому доводилось иметь дело с изучением феномена взятки, в первую очередь приходится решать «простой» вопрос: что такое взятка? Если из современного Уголовного кодекса РФ можно вывести (на основе статьи 290) вполне чёткое нормативное определение взятки: получение должностным лицом имущества или услуг имущественного характера за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя, то в исторической ретроспективе взятка оказывается ускользающим понятием.
Не секрет, что различные формы подношений представителям власти имели в средневековой Руси и России раннего Нового времени разнообразные наименования. К рубежу XVII–XVIII вв. сформировался максимально широкий круг таких терминов. Некоторые были относительно новыми, появившимися из практики XVII – первой четверти XVIII в., другие уходили корнями в глубь веков: «корм», «поминок» («поминки»), «посул», «почесть» («честный принос», «честное подношение»), «налога», более молодое «кормление от дел» (видимо, укоренившееся в период существования развитой приказной системы), совсем «молодые» «акциденция» и «презентальные деньги» и семантически связанные с ними понятия и вербальные вариации. Само появление такого лексического и, подчеркну, не синонимического многообразия позволяет судить о том, что для современников существовали какие-то различия между маркированными с его помощью явлениями. Тем не менее многие историки, а особенно историки-юристы, склонны сводить это многообразие к понятию взятки в современном смысле слова. Думается, такой подход в корне неверен. Корректнее, на мой взгляд, обозначить эти формы подношений несколько тяжеловесным, но более нейтральным словосочетанием «частные вознаграждения должностных лиц»3.
Известно, что слова не возникают просто так, они обозначают те или иные предметы и явления и зачастую обладают семантической подвижностью вслед за изменениями самих явлений и представлений о них. Явление не тождественно понятию или представлению о нём, но понятие или представление, выраженные в слове, способны кое-что поведать о явлении и его восприятии современниками. Это соображение подвигает нас внимательнее относиться к словам, стремясь к выявлению их семантических, аксиологических и семиотических особенностей в определённом историческом контексте, иными словами, выводит в сферу междисциплинарных исследований, в области тесно связанных между собой методов культурной антропологии, лингвосемиотики, собственно лингвистики, истории понятий (как различных направлений исторической семантики).
Подобное направление поиска методов в исследовании феномена взятки – не дань моде, но необходимость подбора более тонких настроек научной оптики рассмотрения этого сложного социального явления. Практики различных форм подношений трудно поддаются жёсткой систематизации, поскольку между ними непросто провести разграничительные линии, понять, что для современников являлось обыденным, приемлемым, моральным, законным (причём как с точки зрения позитивного, так и с точки зрения обычного права), а что – нет; что воспринималось как взятка (в нашем понимании), а что являлось чем-то иным, насколько эти представления были общими для представителей различных социальных групп в различные временные отрезки? Специалисты, пытавшиеся нащупать эти границы, обычно оперировали либо методами юридических наук, проводя грани между явлениями с позиций юридической квалификации (от самого общего: законно / незаконно, до попыток установления чётких квалифицирующих признаков: должностные преступления, коррупционные действия, экономическая преступность), либо методами социальной и экономической истории, определяя те или иные формы подношений с точки зрения социально-экономических критериев (феодальная рента, внеэкономические формы принуждения, государственно-корпоративные методы перераспределения). Всё это приносило результат, но, как представляется, не давало точного понимания того, почему схожие на наш взгляд явления по-разному воспринимались властью и различными общественными группами, вызывали различные правовые, административные, морально-этические реакции. Может быть, приблизиться к этому пониманию помогут слова? Слова – не боясь обвинений в эссенциализме, – имевшие когда-то утраченный для нас, но понятный современникам смысл.
Несколько лет назад я предпринимал попытку проанализировать массив терминов частных вознаграждений должностных лиц с позиций исторической лингвистики4. Источниками исследования послужили материалы земского и административного (коронного) делопроизводства, судебная и следственная документация, нормативные законодательные акты. Настоящая статья может рассматриваться как уточнённое и углублённое продолжение предпринятых ранее штудий. Контекстное осмысление бытования упомянутых терминов в делопроизводстве эпохи позволило сгруппировать их в семантические гнёзда и аксиологические группы. Эти филологические «упражнения», как представляется, имеют смысл для исторического исследования феномена взятки и его трансформаций в петровскую эпоху. Семантика слов проясняет генетику явления. Будучи ограниченным допустимыми размерами статьи, остановлюсь на анализе двух ключевых и противопоставленных понятиях: «почесть» и «взятка».
Первую совокупность терминов частных подношений связывает семантика дара. Основным здесь выступает слово «почесть» («в почесть», «в честь», «честное подношение», «честной принос») и связанные с ним «дано», «давать», «несено», «ставлено», «куплено», «послано» и т. п. В расходных книгах мирских выборных, где подобные слова и словосочетания встречаются наиболее часто, акцентируется внимание на добровольном характере таких подношений, как, например, в хлыновской расходной книге 1679/80 г.: «Того ж дни отнесл по мирскому приговору (здесь и далее курсив мой. – Д.Р.) Новогородцкого приказу подьячему Александру Феофанову пять рублев в почесть; ходили хлыновской посадцкой целовальник Никита Празников да Иван Котелников»5.
Уточнение «в почесть», «в честь» фиксируется в расходных книгах не всегда; не редко, использовав однажды, в дальнейшем его опускали ради краткости записи, как это видно, в частности, в расходной книге тюменского оброчного старосты Епифана Меншикова 1717 г.: «Генваря в 20 день несено Ивану Васильевичю два окорока свиные, с моего паю дано восемь копеек; ему ж купили чань, с моего паю дано два гроша; да ему ж купили корыто, с моего паю дано 2 денги; да ему ж куплено голикоф, дано 2 денги»6; или в расходной книге Куяровской слободы за 1723 г. (на тот момент входила в Тюменский дистрикт): «Земскому камисару Петру Лавринову несено в честь рубль в имен[нин]ныя денгь… К ево приезду куплено пива на 6 алтын 4 денги, ему ж вина ставлено на 19 алтын 4 денги; подьячему Михайлу Чагадаеву дано в честь восем алтын 2 денги алтынного побору»7.
Такого рода подношения «в почесть» практиковались не только простолюдинами в адрес представителей власти, но и между должностными лицами, состоявшими по отношению друг к другу в формальных и неформальных иерархических отношениях. Известный выдвиженец кн. А. Д. Меншикова Я. Н. Римский-Корсаков, став ландрихтером Ингерманландской губ., показал на следствии в 1714 г., что «с того времени (по вступлении в должность в 1707 г. – Д.Р.) подносили ему в почесть… денгами, и парчами, и припасами» не только бурмистры и «всякого чину люди», но и подчинённые ему коменданты. Сотрудники следственной канцелярии лейб-гвардии подполковника кн. В. В. Долгорукова насчитали только деньгами таких «приносов» от бурмистров и комендантов, а также от новгородского архиерея на 2 600 руб. и 100 ефимков8. А. А. Курбатов в записке, поданной в Кабинет царя в декабре 1720 г., отмечал, что в бытность архангелогородским вице-губернатором посылал сенатским служителям «питья и другие вещи», купленные, кстати говоря, на деньги, принесённые ему самому «в почесть»9. Обер-фискал А. Я. Нестеров регулярно получал от подчинённых провинциал-фискалов и фискалов различные подношения натурой и деньгами за «старую дружбу», за то, чтобы он был к ним «благоприятен»10. Приведённые примеры не уникальны.
Само определение подношения, которое в русской практике XVII – первой трети XVIII в. означало не только продукты и предметы обихода, но и всяческие бытовые услуги – «в почесть» – указывает на исходное символическое значение действия: воздание чести, выражение уважения статусу одаряемого11, позволяя относить все действия, маркированные понятием «почести», к практикам дарообмена.
На этом же основании к семантике дара следует отнести древний термин «корм» («кормление», «на корм», «кормовые деньги»). Надо заметить, что для петровского времени термин «корм» и связанные с ним слова и словосочетания употреблялись гораздо реже, чем «почесть». Возможно, это связано с тем, что официально кормления руководителей местного звена управления и их людей были отменены в середине XVI в. Однако сама практика кормления, как известно, продолжала благополучно существовать и в XVII, и в XVIII вв., о чём свидетельствуют в первую очередь расходные мирские книги, сохранившиеся от того времени12. Примечательно, что в самих расходных книгах все кормы, включая подённые, определялись через понятие «почести». По большому счёту, «корм» отличался от «почести» лишь по структуре. Если «почести» могли быть разовыми, приносимыми разным людям от случая к случаю, то «корм/кормление» представлял собой те же почести, но систематизированные, доставляемые с известной периодичностью и частотностью постоянным адресатам, будь то наместники и волостели XVI в. или воеводы XVII–XVIII вв.13 Предложение Л. Ф. Писарьковой жёстко привязать обыкновение приносить «почесть» к процессу рассмотрения «челобитчиковых дел» в приказах и считать «почесть» подношением «должностным лицам до начала дела» (вторым таким приносом по окончании дела она считает «поминок»)14 опровергается всем массивом известных источников. И анализ содержания расходной мирской документации, и материалы следственных дел однозначно указывают как на широкий спектр распространения практики подношения «почестей», на активное использование соответствующих терминов, определяющих эту практику, так и на осознание современниками кормов как «почестных подношений».
Генезис кормлений институционально восходит к полюдью. Самым недвусмысленным образом об этом писал С. Б. Веселовский, и его мнение, насколько можно судить, до сего дня не опровергнуто: «Очень вероятным представляется предположение, что кормы сложились на почве княжеского полюдья, которое в XII в. ещё практиковалось в Северо-Восточной Руси, а в XIII–XV вв. выходило из обыкновения»15. Но что из себя представляло само полюдье? Пожалуй, единственным консенсусным мнением историков можно считать взгляд на полифункциональность полюдья, под которым подразумевается как сама процедура (объезд князем подвластной ему территории), так и действия, производимые князем во время этого объезда. Последние сводились к осуществлению сбора материальных средств с населения, отправлению княжеского правосудия и иных социальных коммуникаций власти и людей, носивших в том числе ритуальный характер. Исходя из этого, а также опираясь на данные более поздних источников, в литературе сформировалось третье значение полюдья как некой подати. Но какой? Смысл сборов вещей и продовольствия, происходивших во время полюдья, большинством советских историков толковался как сбор дани.
Подробный историографический анализ взглядов на полюдье с точки зрения его фискальной составляющей осуществил И. Я. Фроянов16. Мне лишь представляется важным отметить здесь, что ряд учёных – М. Д. Присёлков, В. В. Мавродин, В. И. Горемыкина, Л. В. Данилова, Л. В. Алексеев – были склонны видеть в полюдье не дань или не только дань, а иной сбор, взимавшийся со свободного населения, «с общин, принадлежавших к главенствующей общности» (по формулировке Даниловой)17, т. е. с не завоёванного, не покорённого, а «своего» народа, имевший характер дара. Впрочем, это продуктивное наблюдение – полюдье не дань, а, скорее, дар («полюдье даровное») – впервые было сделано ещё М. А. Дьяконовым в начале ХХ в.18, но в силу разных причин не закрепилось и не получило развития в советский период.
Полагаю, что продуктивным является мнение П. С. Стефановича, подведшего итог длительной дискуссии историков о сути полюдья и отметившего два наблюдения, которые, с его точки зрения, «надо признать верными». Во-первых, двойственное понимание дани (в широком смысле как доходов вообще и дани в узком смысле как определённого налога). Во-вторых, что дань в узком смысле в актовых источниках XII–XVI вв. отличалась от полюдья как особого побора, «который мыслится как добровольный дар (и нередко прямо называется “дар” или “даровное”)»19. Если кормления – наследники полюдья-дара, то не являлась ли практика приноса и получения кормов также проявлением традиций дарения?
О том, что в традиции кормлений и «почестей» лежит «язык даров», в отечественной историографии размышляли мало, во всяком случае, до недавних пор. Проявление культуры дарообмена и связанных с нею практик на русском материале обычно исследовалось либо в русле истории межгосударственных отношений и дипломатии средневековой Руси20, либо в контексте контактов русских администраций с аборигенными народами окраин21, или же при изучении проявления дарообмена в культурах народов СССР и России22. Как правило, наместничье кормление, равно как и более позднее воеводское, интерпретировалось в качестве материального обеспечения представителей великокняжеской и царской власти на местах, как вознаграждение за службу за счёт населения.
Едва ли не единственным автором, обратившим внимание не только на материальный, но и на символический характер кормлений, был Б. Н. Флоря. В одной из давних статей он подчеркнул связь наместничьего кормления с вопросом личной и родовой чести кормленщика, обратив внимание на статью 25 Судебника 1550 г., согласно которой «бесчестье» детей боярских определялось в соответствии с доходностью кормления: «Таким образом, получив малодоходное кормление, кормленщик нёс не только материальный ущерб, но и наносил урон родовой чести»23. Известно, что в период, предшествовавший официальной отмене кормлений, верховная власть пыталась регламентировать их частотность и размеры как самим наместникам и волостелям, так и представителям их аппарата (тиунам, доводчикам и праведчикам), что нашло отражение в уставных грамотах наместничьего управления, кормленых грамотах и доходных списках. Впрочем, как убедительно доказала Т. И. Пашкова, на практике и частота подношения кормов, и их ассортимент, и круг адресатов кормлений в первой половине XVI в. были гораздо разнообразней, чем это показано в нормативных актах24, и в этом отношении наместничье кормление оказывается значительно ближе к воеводскому, чем принято считать.
Пожалуй, единственным специалистом, прямо связавшим наместничье кормление XV–XVI вв. и воеводское кормление XVII–XVIII вв. с культурой дарообмена и предложившим их интерпретации в русле классических трудов М. Мосса и более поздних работ Дж. Скотта, К. Грегори и Л. Хайда, стал известный американский историк-русист Б. Дэвис25. Не задаваясь целью подробного анализа его статьи, стóящей иных монографий, отмечу, что в ней импонирует сама идея автора о важности практики кормлений как инструмента установления – со всеми оговорками – неформальных связей между тяглецами и представителями коронной администрации. Рассматривая кормления как пусть и профанированный, лишённый исходного символизма акт дарообмена, автор допускает, что одаривание формировало (в той или иной степени) систему взаимной обязанности между сторонами, давая администраторам материальную выгоду, а населению – шанс на покровительство, в том числе при необходимости избежать невыгодных для него требований законодательства (в первую очередь в фискальной сфере).
Добровольность корма/почести – главное обстоятельство, позволяющее видеть в этой практике реминисценцию архаичного дарообмена. Разумеется, состояние общественных отношений и в петровской России, и в более ранние периоды XVII и даже XVI в. мало напоминало систему общественных отношений, зафиксированную антропологами у коренных народов Полинезии или Северной Америки. Но анализируя и оценивая кормления и почести прежде всего с их материальной стороны, понимая, что люди, осуществлявшие такого рода подношения, часто не имели выбора, находясь в зависимом положении от адресата подношений, мы забываем, что и «классический» дарообмен «символической», или «моральной» экономики никогда не был лишён материальной составляющей. По проницательному наблюдению П. Бурдьё, обмен дарами всегда оставался фикцией, скрывавшей за ритуалами «корыстный расчёт, который всегда присутствует даже в самом безвозмездном обмене», поскольку в конечном счёте «экономический и символический капитал так неразрывно связаны между собою, что в экономике добросовестности (т. е. в архаичной, докапиталистической экономике. – Д.Р.), где лучшую, если не единственную экономическую гарантию составляет добрая слава, уже одна демонстрация материальной и символической силы в виде солидных союзников сама по себе способна приносить материальные выгоды»26.
Исследование источников, зафиксировавших практику подношений кормов/почестей, неизменно показывает, что маркировавшие их слова, да и сами действия, воспринимались и различными группами общества, и верховной властью (законодателем) в качестве ценностной нормы, имели аксиологически нейтральный характер. Прежде всего, это подчёркивали все администраторы, попадавшие под обвинения в незаконных поборах с населения. «А в помянутой бытности моей в Ярославле, – писал в челобитной 1724 г. И. Д. Свешников, сидевший в Ярославской приказной избе в 1710–1714 гг. дьяком, – была мне от бурмистров дача… по их волям и по прежним обыкностям, а не ис принуждения… И о тех их приносах челобитья от них на меня во многое время нет»27. Якутский сын боярский Пётр Шестаков, находившийся у ясачного сбора в Охотском и Тауйском острогах в 1721 г., уверял следствие, что приносы «красными белками, и росамахами, и выдрами» он получал от ясачных людей «в почесть»28. Г. Е. Фирсов, допрошенный в 1725 г. за должностные злоупотребления, которые он совершил при службе дьяком в Устюге Великом в 1710–1716 гг., уверял следствие: «А в бытность его на Устюге… старосты по древнему своему обыкновению харчевыми припасы в почесть к нему приносили, и дрова, и свечи, и конские кормы, и деньгами, и харчами по малому числу в праздники и в государевы ангелы давали из воли своей»29.
Примечательно, что и дающие признавали нормальность подобных подношений. Об этом свидетельствует не только спокойный и будничный тон записей в расходных мирских книгах. Есть более конкретные и яркие свидетельства. Г. П. Енин привёл эпизод, связанный с жёстким противостоянием между севскими воеводами и пашенными солдатами и драгунами Комарицкой и Крупецкой волостей, имевшим место в самом начале самостоятельного правления Петра I, в 1695–1699 гг. Причиной конфликта стали непомерные материальные притязания воевод, вымогавших со служилых поселенцев, в том числе с помощью физических расправ, совершенно циклопические объёмы продуктов. Многолетние попытки добиться справедливости у московских властей, подачи челобитных, столкновения между чинами воеводской администрации и представителями земского самоуправления, мучения служилых на правеже и в ходе рейдов приказных людей по обывательским дворам, ответные избиения воеводских подьячих и солдат рисуют ситуацию крайне острого и затяжного противоборства. При этом пашенные солдаты и драгуны не отказывались в принципе от кормления воевод. Более того, они предлагали очень высокую ставку годового корма (для воеводы она исчислялась полутора тысячами четвертей разного «хлеба», сотнями пудов мяса, сотнями вёдер вина и прочими припасами), требуя лишь соблюдения фиксированных норм поставки и устранения воеводских служителей от её сбора. Это предложение и было одобрено царём весной 1699 г.30
Судя по всему, тяглые люди считали поставки кормов/почестей не только своим долгом, но и правом. В 1716 г., в следственной канцелярии лейб-гвардии капитана И. Г. Кошелева в рамках резонансного дела «о ссоре Курбатова с Соловьёвым» были допрошены архангелогородские земские бурмистры Иван Ушаков и Семён Дудин, занимавшие свои должности в 1711 и 1713 гг. соответственно. Следователей интересовали расходы, понесённые тяглецами Архангельска и Двинского уезда в пользу вице-губернатора А. А. Курбатова и его людей. Неоднократно допрошенные по отдельности и вместе, Ушаков и Дудин упорно отстаивали легитимность подношений: «А почестные подносы начальным людем и присланным за делами носили на господские праздники и на царские ангелы по прежнему обыкновению и по мирским приговорам»; «И те вышеписанные росходы держали по мирским приговорам и по прежнему издревле обыкновению. Да и после того… такие почестные подносы и земские росходы по мирским приговором были и ныне есть»; «да и спору де о тех вышеписанных росходех от мирских людей и ни от кого нет, для того, что оным живут из мирских зборов повсягодно, а не из ынтересов царского величества… и живут те росходы у них издревле»31.
Право дарить – давать корм/почесть «начальным людям» для названных бурмистров и стоящих за ними тяглецов покоилось на незыблемых основаниях: давности («старине») и мирском всеуездном приговоре – высшем акте земского самоуправления32. Примечательно, что, отстаивая своё право на частные вознаграждения администраторов, бурмистры напомнили следствию, что тратили на это мирские, а не государственные средства: эти расходы производились «из мирских зборов повсягодно, а не из ынтересов царского величества». Надо заметить, что и в приведённом примере, и во всех остальных, известных по материалам следственных дел, легитимность действий дающих признавалась и верховной властью. Во всяком случае, против адресантов кормов/почестей никогда не выдвигали обвинений.
Символика дара, хотя и в весьма редуцированном виде, прослеживается в практике подношения «почестей» и по другим признакам. Известно, что непременным «правилом игры» при обмене дарами являлась обязанность отдаривания. Отдаривания отложенного, не похожего на сделку при товарообмене – том рациональном договоре, сжатом «до одного момента»33, – но неизбежного. Как отмечал М. Мосс, это правило присуще дарообменным практикам и ритуалам практически всех архаических экономик: «В скандинавской и во многих других цивилизациях обмены и договоры осуществляются в форме подарков, теоретически добровольных, в действительности же обязательно вручаемых и возмещаемых»34.
В России XVII в. традиция/обязанность отдаривания фиксируется источниками, пусть и фрагментарно, на разных уровнях общественной иерархии. Прежде всего круговороту дарообмена был не чужд царский двор. Не касаясь в данном случае обычая содержания иноземных послов за счёт поставок от имени государя, напомню о другом – обычае «подачи», подробно проанализированной Т. Кондратьевой. Подача – это дары в виде продуктов с царского стола, которые жаловались либо непосредственным участникам застолья, либо посылались адресатам на дом в случаях, когда монарх трапезничал в узком семейном кругу. Подачи имели как подённый, так и праздничный характер, а их объём и качество зависели от статуса одаряемого, его «чести». Такая же традиция подач существовала при патриаршем дворе. Примечательно, что в соответствии с «долгом дарить и долгом отдаривать», «бояре, получив подачу, шли к царю благодарить его, “бить челом”, а в праздничные дни и на именины членов царской семьи подносили им калачи»35. Таким образом «эти обязательства (дарить и отдаривать. – Д.Р.) порождали непрерывную цепь постоянного обмена»36.
Культура дарообмена, существовавшая при царском дворе весь XVII в., вероятно, не могла не влиять на ситуацию при воеводских дворах. Имеющаяся в научной литературе информация подтверждает это предположение. В 1675 г. сольвычегодский воевода Я. П. Булычов справлял новоселье «в новой» избе. Среди прочих приглашённых на пир, устроенный по этому поводу, «хлеб ел» и мирской староста. В 1676 г. тотемский воевода кн. С. П. Вяземский звал «хлеба ести» мирских людей. Формальным поводом послужил приезд воеводского зятя кн. Ф. В. Морткина, встреченного местными жителями приносом в почесть хлеба и калачей37. Пир как одна из старейших и наиболее зримо выраженных форм дара, со всей ритуальной нагруженностью, может рассматриваться в приведённых примерах в качестве составной части церемонии дарообмена – отдаривания за дары, принесённые местными общинами: будь то строительство палат для воеводы в первом случае или принос «почести на приезд» воеводскому свойственнику во втором.
Широко практиковалось во второй половине XVII в. приглашение земских выборных на воеводские обеды по случаю именин царя, членов царской семьи и именин самих воевод и их родственников. Разнообразные случаи таких праздничных угощений, выявленных по материалам расходных мирских книг Пскова, Соли Вычегодской, Тотьмы, Устюга Великого в 1640–1690-х гг., привёл Г. П. Енин38. Разумеется, всякий раз подобные пиршества оборачивались для местных общин дополнительными расходами, и весьма существенными: дар в виде пира требовал отдарка в виде «почестного приноса». Рассматривая приглашения посадских и всеуездных старост, сотских, иногда таможенных, кружечных и ямских голов на воеводские дворы «хлеб есть» исключительно в качестве дополнительного источника материального обеспечения царских администраторов, историк совершенно не берёт во внимание ритуальной стороны таких акций. Между тем очевидно, что изобретая новую статью дохода, воеводы органично вписывали её в традицию обмена дарами, в присущую этому процессу цикличность: оказывая земским выборным честь, принимая их за своим столом, они были вправе ожидать компенсации, в которой старосты не могли им отказать не только из опасения возможных дальнейших притеснений.
Приведённые примеры относятся к XVII в., к предпетровской эпохе. Сохранялось ли что-то подобное в первой трети XVIII столетия? Учитывая высокий уровень континуальности между предпетровским и петровским периодами, инертность в сфере социальных коммуникаций на низовом уровне, полагаю, что формы отдаривания в виде угощений мирских представителей воеводами/комендантами могли практиковаться и в первые десятилетия XVIII в. Отсутствие описания подобных прецедентов в научной литературе может указывать не на то, что их не существовало, а на то, что историки не фиксировали на них внимания. Впрочем, к рубежу XVII–XVIII вв., а тем более позже, далеко не все администраторы могли считать нужным «говорить» с подвластным населением «на языке даров», что не мешало последнему пользоваться этим «языком». Ведь многое зависело от конкретной ситуации, особенно если мы имеем дело с традицией «на излёте», с мистерией, выхолощенной до внешней обрядовой формы. Тогда принятие или не принятие обряда оказывается зависимым от истолкования: «То, в чём получатель предпочитал усматривать обязательную дань, даритель старался представить добровольным подношением»39, и, полагаю, это справедливо не только применительно к символике обмена в международных отношениях эпохи.
Условно добровольный характер практики кормления и подношения «почестей» особенно отчётливо виден на контрасте с другой формой частных вознаграждений должностных лиц – взяткой. Различия проявляются уже на уровне слов. В речевом обиходе термин «взятка» («взяток») в значении «принудительный побор с зависимых лиц» – явление относительно новое, фиксирующееся историческими словарями с конца 1650-х гг.40 Уже самые ранние случаи употребления слова «взятка» создают вполне определённое смысловое поле его бытования: взятка как некий побор, сопряжённый с вымогательством и насилием и в любом случае противозаконный. Собственно говоря, термин «взятка» («взятье», «взял», «брал») и связанные с ним, синонимичные или конвойные «злоимание», «налога», «обида» («обиды»), «нападки», «смучил», «вымучил» и проч., прежде всего выражают семантику насилия. Характерны и тексты, в которых бытуют эти слова. Они не встречаются в расходных мирских книгах; их среда – доносы, челобитные, указы и материалы судебных и следственных дел.
Из этих текстов становится ясно, что значение слова «взятка» не совпадало с современным. Инициатором взяток всегда выступали администраторы (отсюда, кстати, направленность действия глагола «взять»: от принимающего к вынужденно дающему), а передача взятки часто не несла никакой выгоды для лица, вынужденного осуществить передачу материальных ценностей взяткополучателю. Вот лишь несколько примеров.
Посадив под арест крестьян, воевода Переславля-Залесского Григорий Арбенев в 1706 г. вымучил с них взятку в 5 руб.; перепало и подьячему воеводской канцелярии Фёдору Маркову, непосредственно получавшему деньги. За неправедные труды ему достался рубль41. Дьяк архангелогородской губернской канцелярии Фёдор Зуев в 1711 г. вымогал с уже упоминавшегося бурмистра Ивана Ушакова «с товарыщи» 100 руб.: «А буде не дадут ста рублев, – угрожал дьяк мирским выборным, – то он, Зуев, велит их убить на правеже до смерти». Ушаков выдал требуемую сумму, поскольку знал, что угроза дьяка – не пустые слова, «понеже на правеже убийство и дело показали: бит был бурмистр Филип Дарофеев, и переломили ногу, и от того в третей день умре»42. В июне 1717 г. майор Коптев, управитель вотчин Александро-Невского монастыря в Старорусском уезде, доносил кн. А. Д. Меншикову, что комиссар Свечин, подчинённый новгородского ландрата И. И. Мякинина, «взяв ведения моего крестьян, держит под караулом и чинит им обиду, которые мне объявляют, что-де берет с них взятки немалые, и по взятье свобождает»43. С помощью угроз и насилия повышал уровень своего благосостояния земский комиссар Уктусского дистрикта Степан Неелов, о чём в декабре 1722 г. сообщали генералу В. И. Геннину земские выборные Белоярской и Пышминской слобод: «Да он же, камисар Неелов, как ездил по слободам для переписи дворового числа, взял у нас денег рубль пятьдесят копеек неведомо за что при свидетелех… Да оной же, как ездил в Новопышминскую слободу на поварню… взял с нас из-за грозы масла коровья пуд. А что протчая взятков он… взял, и то явствует в записке у выборных белоярских… Да он же… взял с прошлого старосты Якова Бутакова в марте месяце денег из-за мучения десять рублев»44.
Как известно, сами тяглецы хорошо понимали разницу между «почестью» и взяткой и умели в случае необходимости манипулировать смыслами слов и оценками ситуаций. Упомянутые выше архангелогородские бурмистры Ушаков и Дудин, так последовательно и упорно доказывавшие правомочность и обыденность поставки кормов Курбатову, его людям и губернским чинам, без всяких сомнений дали показания против вице-губернатора по тем эпизодам, когда он, по их разумению, злоупотреблял своим положением и взимал что-то сверх считавшегося нормой. Дудин «во обличение Курбатова» сообщил о косьбе для него сена и сборе «излишних» денег: «И которое сено кошено ж у порта Архангелскова на взморье на взятых сенных покосех у волостных крестьян работниками, которыя по указу наряжены к городовому делу, и в воске того сена волосных крестьян, также и в зборех окладных и запросных податей, и приписке излишества сверх окладов и повелительных указов, и в земских ненадлежащих росходех излишних, отчего многая тягость и разорение происходит обывателем»45.
Готовые «кормить» администраторов, носить им «почестное» в каких-то установленных традицией для данной местности размерах и нормах, крестьяне и посадские крайне болезненно реагировали на превышение этих норм, на избыточные притязания кормленщиков. В таких случаях в челобитных всегда отмечался недобровольный, «вымученный» характер поставки, маркируя такую поставку термином «взятка»: «В прошлом 720 году сын боярской Афонасей Чернышев в бытность свою у нас в Невьянской слободе прикащиком напатками своими взял с меня… лошадь мерина рыже-пегова… да две четверти ржи. Да в прошлом 722 году он же взял с меня корову красную неведомо за что безвинно», – доносил один из крестьян-невьянцев46. Как взятку истолковал побор, полученный сборщиком канцелярии медового сбора подьячим Козьмой Локтевым, мирской челобитчик тамбовский казак Артемий Кузин (1706): «А указ он нам не объявил и взял с нас на Москве взятков четыре пуда меду да рубль денег»47.
Несколько иной смысл слова «взятка» сложился в законодательстве. В качестве термина юридического характера «взятка» начала фигурировать с конца 1670-х гг. Как установил Д. О. Серов, первое такое употребление слова появилось в указе от 28 февраля 1677 г. об организации деятельности таможенных голов и целовальников48. Правда, во всех трёх случаях упоминания этого термина в названном указе его содержание законодатель не раскрывает. Из контекста можно лишь уяснить, что взятка – это некое корыстное инициативное действие коронных администраторов или представителей земского самоуправления, мотивирующее их на совершение должностного преступления. При расследовании должностных правонарушений таможенных голов и целовальников воеводам угрожали опала и конфискация имущества, если они «хотя малую хитрость в сыску для взятков (т. е. ради взяток, вследствие взяток. – Д.Р.) учинят». Тем же воеводам и всяким «приказным людям» предписывалось не допускать по отношению к таможенным головам и целовальникам «никакия обиды, и тесноты, и налог… и ни в каких делах для своих взятков на них никаким умыслом» не «нападать». Наконец, земским старостам и «мирским людям», обязанным следить за деятельностью таможенных голов и целовальников, указ грозил наказанием и взысканием сумм таможенных недоборов, если земские выборные станут попустительствовать головам и целовальникам «для взятков своих»49.
Эта смысловая линия нашла своё развитие в серии указов 1710-х гг., направленных на защиту экономических интересов государства (против «повредителей государственного интереса»). В названном ряду первым был опубликованный 24 апреля 1713 г. именной указ, 4-й пункт которого устанавливал «повредителям государственного интереса» санкцию в виде смертной казни и конфискацию движимого и недвижимого имущества; та же кара ждала тех, кто стал бы покрывать преступников50. Указ не разъяснял, кто такие «повредители государственного интереса», не давал юридической квалификации этому преступлению, не определял его состав. Строго говоря, сам указ состоял из нескольких разнородных предписаний, связанных между собой лишь тем, что они были посвящены регулированию разных вопросов местного государственного управления. В научной литературе он более известен как указ об учреждении ландратских губернских коллегий, поскольку именно этому отводился самый пространный 3-й пункт документа.
Но, несомненно, в развитие, уточнение и пояснение 4-го пункта (о «повредителях государственного интереса») 25 августа того же года Пётр I издал новый указ. Из него становилось ясно, что «повреждение государственного интереса» есть умышленное («с умысла») нанесение материального ущерба казне, выражавшееся в махинациях и хищениях при сборе натуральных и денежных средств, при таможенных и кабацких откупах, в злоупотреблениях при заключении государственных подрядов с целью личного обогащения ответственных должностных лиц (для их «лукавых приобретений»). Ответственным чиновникам запрещалось участвовать в заключении подрядов (как от своего имени, так и через подставных лиц), а все дела, связанные с осуществлением фиска, вести «без всяких лукавых вымыслов и безпосульно», не принимая «взятков, и посулов… и кормов», в том числе за предоставление отсрочек в платежах, задолженностях (недоимках) и натуральных поставках. Нарушителям этих норм грозила та же санкция, которая предусматривалась апрельским указом: смертная казнь с конфискацией имущества. При этом указ отличал нарушение «государственных интересов и всего народа» от «партикулярных прегрешений». К последним законодатель относил «в челобитчиковых делах взятки и всякие в народе обиды». Санкция за такие преступления была мягче: «прежние штрафования» на усмотрение местных властей и Сената51.
В контексте настоящей статьи интерес представляет толкование слова «взятка», приобретающее в данном случае значение юридического термина. Во-первых, по букве закона видно, что «взятка» существует как бы в двух видах – как незаконный побор со стороны должностного лица, ведущий к нанесению ущерба государственному хозяйству, и как незаконный побор, ведущий к нанесению ущерба частным лицам. В первом случае взяткополучателю безусловно грозили санкции высшего порядка, во втором – некие штрафы, определение которых отдано на усмотрение тех или иных органов власти. Можно предположить, что в первом случае дело решалось в уголовно-правовой, а во втором – в гражданско-правовой плоскостях. Во-вторых, примечательно, что в цитированном указе «корм», явление легальное с точки зрения обычного права и вполне допустимое с позиций позитивного права, оказывается рядоположенным термином (и явлением?) со взяткой «первого вида». Наконец, в указе от 25 августа взятка «первого вида» ставится в один ряд, фактически приравнивается к понятию «посул»52. Последний являлся единственной криминализированной формой частного вознаграждения должностных лиц в русском праве ещё с конца XV в. Таким образом, с 1713 г. взятка «первого вида», как и посул, с формально-юридической точки зрения может рассматриваться как деяние, обусловливавшее совершение иных преступных деяний, приводивших к нанесению экономического ущерба государству.
Наконец, известный именной указ от 24 декабря 1714 г., сформулировавший общее понятие о преступлении («все, что вред и убыток государству приключить может, суть преступление»), подчеркнул недопустимость «никаких посулов казенных и с народа собираемых денег брать торгом, подрядом и прочими вымыслы»53, как будто поставив тем самым вне закона все формы частных вознаграждений должностных лиц.
Перечисленные указы, получившие обиходное наименование «запретительных», стали нормативной основой для работы надзорных и следственных органов, созданных в эти же годы. Деятельность их прежде всего была направлена на пресечение преступлений против экономических интересов государства: института фискалов54, розыскных («майорских») канцелярий55, Канцелярии подрядных дел56. Казалось бы, после такой законодательной проработки смысл термина «взятка» становился юридически прояснённым, а любые поборы администраторов с частных лиц, независимо от того, носили ли они добровольный или принудительный характер, должны были стать вне закона.
На практике этого не произошло. Новое законодательство de facto не отменило покоившегося на обычноправовых основаниях порядка подношения кормов и почестей – ведь легитимность земских приговоров и права тяглых общин на обладание и распоряжение собственной кассой никто не оспаривал. Тяглецы по-прежнему считали взяткой только вынужденные, «вымученные» сверхнормативные поборы, но не вообще подношения в адрес представителей власти. В свою очередь и представители власти на всех уровнях находили законным и морально допустимым получение частных вознаграждений. Самым недвусмысленным образом об этом высказался лейб-гвардии подполковник кн. В. В. Долгоруков, один из конфидентов царя Петра и, между прочим, руководитель розыскной канцелярии, расследовавший в 1714–1716 гг. преступную деятельность самого кн. А. Д. Меншикова. Цитата из письма князя кабинет-секретарю А. В. Макарову 14 января 1718 г. точно отражает настроения времени: «Изволь милостиво разсудить, хотя б кто меня в чем и подарил, а бес повреждения интересу государственного, мне кажетца, всякой в своем добре волен. Как я людей дарил, так и меня даривали, и впредь то будет»57.
Искушённый в текущем законодательстве и следственной практике, кн. Долгоруков деликатно развёл «повреждение государственного интереса», возникающего вследствие взятки, и право на дарение, интенционно подразумевающее легитимность «почести». Неподкупный генерал-майор В. И. Геннин в 1723 г. оправдал В. Н. Татищева, обвиняемого во взимании взяток, квалифицировав приносы местных старост, зафиксированные в расходных книгах, как «почести», не приведшие к нанесению ущерба интересам казны: «старосты в распросах сказали, что он (Татищев. – Д.Р.) им лготы чинить в завоцких работах не обещал, токмо что де по их сибирскому обыкновению в первой ево, Татищева, приезд принесли в почесть бес пристрастия и угрозы»58.
Сходным образом приговором Сената от 18 октября 1725 г. был отменён штраф в 140 руб., наложенный в 1721 г. на канцеляриста А. Фомина следственной канцелярией генерал-лейтенанта М. А. Матюшкина, посчитавшей принятые в 1711–1713 гг. Фоминым подношения взятками. Сенаторы сочли возможным согласиться с челобитьем Фомина, уверявшим, что деньги, взятые им с винных подрядчиков в указанные годы, приняты «в почесть», «за писменной ево труд» и «из доброй воли»[59]. Возможно, на решение Сената повлияло и то, что свои вознаграждения подьячий получил до выхода в свет вышеупомянутых «запретительных указов». Во всяком случае, бывали прецеденты, когда судьи принципиально учитывали эти аргументы. Например, так поступили сенаторы, прекратившие уголовное преследование дьяка Г. Е. Фирсова приговором от 4 августа 1725 г., поскольку ранее дьяка обвиняли, «напрасно причитая почестные приносы ко взяткам, которые он получал в бытность свою у дел в Устюжской провинции до запретителных указов»60.
Впрочем, наверное, надо отметить, что подобные оправдательные приговоры выносились после смерти Петра I сенаторами, многие из которых сами в своё время находились под следствием за преступления против «государственного интереса» и были уличены в получении взяток. При жизни царя далеко не всегда бралось в расчёт то обстоятельство, что частные вознаграждения должностные лица принимали до указов 1713–1714 гг. Так, ничто не помешало Матюшкину, завершившему следствие по делу Курбатова, включить в итоговый мемориал – по сути, обвинительное заключение – сумму в 1 085 руб., полученную бывшим вице-губернатором как кормленный доход («почести») в 1711–1713 гг. (до «запретительных указов»), квалифицировав её как взятку61. Таким же образом сочли взятками деньги и товары, полученные Я. Н. Римским-Корсаковым с комендантов и бурмистров Ингерманландской (Санкт-Петербургской) губ., а заодно и доходы от поставок в армию лошадей, подвод и фуража, проведённых через казённые подряды на подставных лиц, хотя бóльшая часть этих действий также осуществилась до указов 1713–1714 гг.62
Так или иначе, следует признать, что при всех недоговорённостях и выборочном применении на практике, указы 1713–1714 гг. закрепили криминализацию взятки как явления и усилили негативную аксиологическую окраску самого термина, прочно введя его в область юридической лексики.
Так что же представляла из себя взятка в понимании людей петровской эпохи? И что даёт нам междисциплинарное исследование взятки как термина и как явления? С позиций исторической семантики и аксиологической лингвистики совершенно очевидны различия между «взяткой» и «почестью». Первый термин однозначно бытовал в лоне негативной аксиологии, причём как в простонародном речевом обиходе, так и в законодательных актах и в текстах, рождённых в результате правоприменительной практики. Взятка во всех случаях осуждалась. Но осуждалась она по разным причинам, поскольку в этот термин вкладывался разный смысл. Для простолюдинов взятка связывалась с открытыми вымогательством и насилием, а потому оказывалась несправедливым побором. Для законодателя и его агентов она была противоправным деянием, поскольку влекла за собой ущерб государственным интересам. «Почесть» (равно как и «корм»), напротив, оставалась и в первой четверти XVIII в. аксиологически нейтральным понятием. Общество (и не только его тяглые слои) относилось к «почести» как к дару, явлению, морально не осуждаемому и с точки зрения права допустимому. Для простонародной среды существовало и юридическое, по сути, обычноправовое основание легитимности «почести» – дарения, которое не оспаривалось коронной властью.
С точки зрения истории права «взятка» и «почесть» также оказываются понятиями и явлениями не одного порядка, хотя грань между ними более размытая. Не ставя однозначно вне закона «кормы» и «почести» (хотя такое стремление вроде бы намечалось в указе от 24 декабря 1714 г.), законодатель не смог дать точной юридической квалификации взятке. Строго говоря, петровское законодательство едва ли даже выделяло взятку в самостоятельный состав преступления. Ведь должностных лиц осуждали не за получение взяток как таковых, а за то, что принятые ими частные вознаграждения, квалифицированные следствием и судом как взятки, влекли за собой нанесение ущерба государственным интересам в экономической сфере, приводили к злоупотреблениям должностным положением, вредящим государственному хозяйству. Законодателю был безразличен ущерб, причиняемый частным лицам, разве что за исключением тех случаев, когда таковой откровенно подрывал фискальную платёжеспособность населения или создавал критически значимую социальную напряжённость, т. е., в конечном итоге, наносил вред государству. Петровское законодательство не выделяло в особые составы преступления ни вымогательство, ни дачу взятки, ни пособничество в получении взятки, как это делает современный Уголовный кодекс РФ. Эти обстоятельства приводили к тому, что следователи при квалификации материальной поставки должностному лицу зачастую ориентировались не на юридическое определение, которого, по сути, не было, а на иные, в том числе политические критерии; судьи могли отменять ранее вынесенные приговоры, а осуждённые манипулировать смыслами, настаивая на получении «честных приносов», а не взяток, апеллируя к традиционным, а не юридическим понятиям (средства, полученные без открытого принуждения, не взятка, а дар).
Означает ли сказанное, что в петровское царствование, равно как и ранее, не существовало явлений, которые можно было бы охарактеризовать как взятки в современном смысле слова? Очевидно, что нет. Случаи получений должностным лицом имущества или услуг имущественного характера за совершение действий в пользу взяткодателя фиксируются источниками. Крестьяне или посадские могли по своей инициативе вознаграждать чиновников за, например, отсрочку в выплате налогов или недоимок, выгадывая свои интересы при поставке рекрутов и т. п., – именно такие случаи пытался пресечь законодатель. По корыстному сговору, возникшему в результате дачи взятки нужному администратору, заключались договоры поставок товаров и услуг – казённые подряды по завышенным ценам, что тоже пытался пресечь законодатель. За взятки, замаскированные под «почести», могли приобретаться управленческие должности. С помощью взяток, также выдаваемых за «почести», вышестоящие чиновники закрывали глаза на противоправную деятельность своих подчинённых. Но в позитивном праве эпохи для этих явлений не существовало чёткой юридической квалификации и адекватного вербального оформления. Участники практик частных вознаграждений должностных лиц и их преследователи говорили на разных языках, что давало возможность прибегать к смысловым и оценочным манипуляциям и выборочному применению норм текущего законодательства. Попытка «разобраться со словами», маркирующими отношения в столь чувствительной для всех акторов сфере, предпринималась современниками. Наиболее целостно и последовательно развести понятия дара и взятки попытался, в частности, в 1730-х гг. В. Н. Татищев, предложивший различать «мздоимание» и «лихоимание»63. Но его рассуждения не имели официального характера, а их анализ выходит за рамки хронологии настоящей статьи.
Конечно, понятийная «полифония», существовавшая в петровскую эпоху вокруг феномена взяточничества, была связана не только с неспособностью выработать подходящие юридические дефиниции, со слабостью юридической техники того времени. Думаю, что проблема заключалась ещё и в том, что среди тех, кто имел возможность участвовать в правотворчестве, оказалось не слишком много заинтересованных в изменении существовавших порядков. В научной литературе неоднократно отмечалось: то, что мы сегодня называем взяточничеством, являлось своего рода неформальным механизмом социальных коммуникаций, позволяющим компенсировать недостатки функционирования официальных государственных институций64. С этих позиций take and give practices устраивали если не всех, то большинство участников процесса. Пётр I, увидевший в мздоимстве своих администраторов системную угрозу «государственному интересу», был, пожалуй, одинок в стремлении пресечь таковую. Своими узаконениями он начал формирование новых «правил игры», весьма некомфортных для большинства, приводивших это большинство в недоумение. «Властители изменили рамки оценок и тем самым поставили чиновников перед необходимостью оправдывать свои действия», – заметила немецкая исследовательница С. Шаттенберг, правда, анализируя ситуацию начала XIX в.65
Но есть и ещё одно объяснение тому, что «грань между даром и данью была столь же неопределённой, как между даром и взяткой или между даром и товаром»66, разбираемся ли мы с самим явлением или с маркирующими его терминами. Право и необходимость дарить, принимать и отдаривать, лежащие в самом фундаменте социальности, относятся, вероятно, к тем базовым свойствам человеческой природы, которые невозможно изжить никакими «рациональными» нововведениями: принимая те или иные формы, загнанные глубоко под спуд модернизационных институтов и норм, они остаются поведенческими константами.
1 Чулков М. Д. Драгоценная щука // Чулков М. Д. Пересмешник / Сост. В. П. Степанов. М., 1987. С. 133.
2 Федунов В. В. Взятка как вид должностных преступлений в законодательстве России XV–XVIII вв. // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Юридические науки. Т. 24(63). 2011. № 2. С. 89–95; Гаврилов В. В. Борьба с коррупцией в России при Петре I и Екатерине II // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Юридические науки. Т. 24(63). 2011. № 2. С. 36–41; Алимпиев С. А. Эволюция уголовно-правовой нормы о получении взятки по законодательству России в дореволюционный период (IX–XIX вв.) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2006. № 13(68). Сер. Право. Вып. 8. Т. 1. С. 21–27.
3 В англоязычной традиции таким корректным словосочетанием является конструкция politics of give and take, или give and take practices в отличие от более жёстко определённых bribe и corruption.
4 Редин Д. А. Этюды по русской истории Нового времени (административный и социальный аспекты). Екатеринбург, 2019. С. 137–202.
5 ОР РНБ, Основное собрание рукописной книги. IV.278, л. 10 об.
6 Государственный архив Тюменской области, ф. И-47, оп. 1, д. 1093, л. 3.
7 Архив СПбИИ РАН, ф. 187, оп. 2, д. 143, л. 3.
8 РГАДА, ф. 340, оп. 1, ч. 1, д. 59, л. 100, 377.
9 Письма и бумаги прибыльщика Алексея Курбатова (1700–1720-е годы) / Сост. Д. Серов, А. Видничук, А. Жуковская, И. Федюкин. М., 2023. № 251. С. 503.
10 РГАДА, ф. 248, кн. 273, л. 232–233 об., 255 об., 509 об.
11 Мосс М. Опыт о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. Общество. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост. А. Б. Гофман. М., 2011. С. 141.
12 Енин Г. П. Воеводское кормление в России в XVII веке (содержание населением уезда органа государственной власти). СПб., 2000; Швейковская Е. Н. Государство и крестьяне России: Поморье в XVII веке. М., 1997; Швейковская Е. Н. Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI – начала XVIII века. М., 2012; Редин Д. А. Воеводское кормление в России XVIII в.: расходная книга тюменского оброчного старосты Е. Меншикова 1717 г. (Исследование и публикация источника) // Проблемы истории России. Вып. 10. Исторический источник и исторический контекст. Екатеринбург, 2013. С. 236–282.
13 Не стоит смешивать воеводское кормление с «кормлением от дел». При сходстве наименований это качественно разные явления, требующие отдельного разговора.
14 Писарькова Л. Ф. К истории взяток в России (По материалам «секретной канцелярии» кн. Голицыных) // Отечественная история. 2002. № 5. С. 33.
15 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л., 1947. С. 272.
16 Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки отечественной историографии. Л., 1990. С. 148–171; Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян. СПб., 1996. С. 448–484.
17 Данилова Л. В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. С. 180. Занятые поиском признаков феодальных отношений, советские исследователи даже в случае признания различий между собственно данью и полюдьем спешили объявить последнее если не феодальной рентой, то некой промежуточной формой между данью-контрибуцией и собственно рентой (Алексеев Л. В. Смоленская земля в IX–XIII вв.: Очерки истории Смоленщины и Восточной Белоруссии. М., 1980. С. 109).
18 Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 1908. С. 188–189.
19 Стефанович П. С. О дани в «трибутарном» государстве Руси // Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств. Материалы конференции. М., 2012. С. 263.
20 Фаизов С. Ф. Поминки-«тыш» в контексте взаимоотношений Руси–России с Золотой Ордой и Крымским юртом // Отечественные архивы. 1994. № 3. С. 49–55; Хорошкевич А. Л. Русь и Крым после падения ордынского ига: динамика трибутарных отношений // Отечественная история. 1999. № 2. С. 69–79; Никонов С. А. «Дар» и «поминок» в политических взаимоотношениях Пскова и Москвы второй половины XV – начала XVI века // Вестник Удмуртского университета. 2006. № 7. С. 63–77; Юзефович Л. А. Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал. СПб., 2007; Леонова А. Н. «Корм» как составная часть дипломатического дарообмена Московского государства XVI–XVII вв. // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 4(20). С. 212–215.
21 Бадмаев А. А. Дарообмен в социально-политических практиках забайкальских бурят во второй половине XVIII – первой половине XIX века // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. Т. 12. 2013. Вып. 7. С. 276–280; Конев А. Ю. Дар, дань и торговля: Антропология взаимодействия автохтонов Сибири и русских в XVII–XIX вв. // Этнографическое обозрение. 2017. № 1. С. 43–56; Конев А. Ю. Феномен «иноземчества», ясак и дарообмен: народы Поволжья, Урала и Сибири в России конца XVI – начала XVIII веков // Золотоордынское обозрение. Т. 7. 2019. № 4. С. 760–783; Самигулов Г. Х. Ясачные люди, иноземцы, ясак и дарообмен – практические размышления о теории // Золотоордынское обозрение. Т. 6. 2018. № 2. С. 342–369.
22 Сураганова З. К. Традиционный обмен дарами у казахов. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2007; Мартынова Е. П. Институт дарообмена у обских угров в антропологическом дискурсе // Вестник угроведения. Т. 11. 2021. № 3. С. 546–555.
23 Флоря Б. Н. Кормленые грамоты XV–XVI вв. как исторический источник // Археографический ежегодник за 1970 г. М., 1971. С. 72.
24 Пашкова Т. И. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века. Наместники и волостели. М., 2000. С. 45–47.
25 Davies B. The Politics of Give and Take: Kormlenie as Service Remuneration and Generalized Exchange, 1488–1726 // Culture and Identity in Moscovy, 1359–1584. UCLA. Slavic Studies. New Series. Vol. III. Moscow, 1997. S. 39–67. Эти идеи автор закрепил в более поздней монографии: Davies B. State Power and Community in Early Modern Russia. The Case of Kozlov, 1635–1649. N.Y., 2004.
26 Бурдьё П. Практический смысл / Пер. с фр. Н. А. Шматко. СПб., 2001. С. 232.
27 РГАДА, ф. 248, кн. 1284, л. 126.
28 Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 63. СПб., 1888. С. 291.
29 РГАДА, ф. 9, отд. 2, кн. 94, л. 425 об.
30 Енин Г. П. Воеводское кормление… С. 136–142.
31 РГАДА, ф. 340, оп. 1, ч. 1, д. 70, л. 2 об., 13 об., 15 об.
32 Богословский М. М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. Т. I. М., 1909. С. 229.
33 Бурдьё П. Указ. соч. С. 220.
34 Мосс М. Указ. соч. С. 136.
35 Кондратьева Т. Кормить и править: О власти в России XVI–XX вв. / Пер. с фр. З. А. Чеканцевой. М., 2006. С. 31.
36 Альтхоф Г., Штомберг-Рилинген Б. Язык даров. Логика и семантика обмена дарами в Европе до начала Нового времени // На языке даров. Правила символической коммуникации в Европе 1000–1700 гг. / Отв. ред. Г. Альтхоф, М. Бойцов. М., 2016. С. 13.
37 Швейковская Е. Н. Русский крестьянин… С. 300–301.
38 Енин Г. П. Воеводское кормление… С. 98–117.
39 Альтхоф Г., Штомберг-Рилинген Б. Язык даров… С. 25.
40 Словарь русского обиходного языка Московской Руси XVI–XVII веков. Вып. 2. СПб., 2006. С. 170.
41 РГАДА, ф. 26, оп. 1, ч. 1, д. 10, л. 183–191.
42 Там же, ф. 340, оп. 1, ч. 1, д. 70, л. 18 об.
43 Там же, ф. 198, оп. 1, д. 74, л. 285.
44 Государственный архив Свердловской области (далее – ГА СО), ф. 24, оп. 1, д. 5а, л. 2–2 об.
45 РГАДА, ф. 340, оп. 1, ч. 1, д. 70, л. 19–19 об.
46 ГА СО, ф. 24, оп. 1, д. 5а, л. 60.
47 РГАДА, ф. 26, оп. 1, ч. 1, д. 1, л. 362 об.
48 Серов Д. О. «Взятков не имал, а давали в почесть…». Взяточничество в России от царя Алексея Михайловича до царя Петра Алексеевича // Отечественные записки. 2012. № 2(47). С. 215; ПСЗ-I. Т. 2. № 679.
49 ПСЗ-I. Т. 2. № 679.
50 Там же. Т. 5. № 2673.
51 Там же. № 2707.
52 Употребление слов «взятка» и «посул» как синонимов единично известно и в конце XVII в., но такое фиксировалось в актах узкой направленности, например, в наказе 1686 г. окольничему Л. Неплюеву о разборе ратных людей Севского полка (ПСЗ-I. Т. 2. № 798), не влиявших столь масштабно ни на речевое бытование терминов в качестве синонимов, ни на правоприменительную практику.
53 ПСЗ-I. Т. 5. № 2871.
54 Учреждённый в 1711 г. фискалитет как служба при Сенате получил окончательный статус, полномочия и круг ведения в указе от 17 марта 1714 г. (ПСЗ-I. Т. 5. № 2786). О деятельности фискалов на первоначальном этапе существования службы см.: Серов Д. О. Фискальская служба и прокуратура России в первой трети XVIII в. Saarbrücken, 2012. С. 74–99.
55 Первая такая канцелярия под руководством лейб-гвардии майора кн. М. И. Волконского учреждена 25 июля 1713 г. (Серов Д. О., Фёдоров А. В. Дела и судьбы следователей Петра I. М., 2019. С. 61).
56 Учреждена под руководством лейб-гвардии капитана Г. И. Кошелева 15 марта 1715 г. (Редин Д. А. Канцелярия подрядных дел (к истории законодательно-административного регулирования государственных закупок в России петровского времени) // Вестник государственного и муниципального управления. Т. 9. 2020. № 3. С. 131–144; Редин Д. А. Регулирование госзакупок при Петре Первом (формирование системы контроля в сфере государственных финансов) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2022. Вып. 4. С. 129–144).
57 РГВИА, ф. 2583, оп. 1, кн. 24, л. 335–335 об.
58 Геннин В. Уральская переписка с Петром I и Екатериной I / Сост. М. О. Акишин. Екатеринбург, 1992. С. 146.
59 РГАДА, ф. 248, кн. 1947, л. 90.
60 Там же, кн. 1945, л. 29.
61 Письма и бумаги прибыльщика Алексея Курбатова… С. 509.
62 РГАДА, ф. 340, оп. 1, ч. 1, л. 376 об.–377.
63 Татищев В. Н. Избранные произведения / Под ред. С. Н. Валка. Л., 1979. С. 133–145.
64 «“Коррумпированное” поведение… выполняет системные функции, которые не могут быть выполнены другими, например, государственными, структурами» (Шаттенберг С. Культура коррупции, или К истории российских чиновников // Неприкосновенный запас. 2005. № 4(42) (URL.: http://magazines.russ.ru/nz/2005/42/sh4.html (дата обращения: 3.05.2024)).
65 Шаттенберг С. Культура коррупции…
66 Альтхоф Г., Штомберг-Рилинген Б. Язык даров… С. 25.
About the authors
Dmitry А. Redin
Institute of History and Archeology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, главный научный сотрудник
Russian Federation, YekaterinburgReferences
- Алексеев Л. В. Смоленская земля в IX–XIII вв.: Очерки истории Смоленщины и Восточной Белоруссии. М., 1980.
- Алимпиев С. А. Эволюция уголовно- правовой нормы о получении взятки по законодательству России в дореволюционный период (IX–XIX вв.) // Вестник Южно- Уральского государственного университета. 2006. № 13(68). Сер. Право. Вып. 8. Т. 1. С. 21–27.
- Альтхоф Г., Штомберг-Рилинген Б. Язык даров. Логика и семантика обмена дарами в Европе до начала Нового времени // На языке даров. Правила символической коммуникации в Европе 1000–1700 гг. / отв. ред. Г. Альтхоф, М. Бойцов. М., 2016. С. 8–28.
- Бадмаев А. А. Дарообмен в социально- политических практиках забайкальских бурят во второй половине XVIII – первой половине XIX века // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2013. Т. 12. Вып. 7. С. 276–280.
- Богословский М. М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. Т. I. М., 1909.
- Бурдьё П. Практический смысл / пер. с фр. Н. А. Шматко. СПб., 2001.
- Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо- Восточной Руси. М.; Л., 1947.
- Гаврилов В. В. Борьба с коррупцией в России при Петре I и Екатерине II // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Юридические науки. Т. 24(63). 2011. № 2. С. 36–41.
- Геннин В. Уральская переписка с Петром I и Екатериной I / сост. М. О. Акишин. Екатеринбург, 1992.
- Данилова Л. В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994.
- Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 1908.
- Енин Г. П. Воеводское кормление в России в XVII веке (содержание населением уезда органа государственной власти). СПб., 2000.
- Кондратьева Т. Кормить и править: о власти в России XVI–XX вв. / пер. с фр. З. А. Чеканцевой. М., 2006.
- Конев А. Ю. Дар, дань и торговля: Антропология взаимодействия автохтонов Сибири и русских в XVII–XIX вв. // Этнографическое обозрение. 2017. № 1. С. 43–56.
- Конев А. Ю. Феномен «иноземчества», ясак и дарообмен: народы Поволжья, Урала и Сибири в России конца XVI – начала XVIII веков // Золотоордынское обозрение. 2019. Т. 7. № 4. С. 760–783.
- Леонова А. Н. «Корм» как составная часть дипломатического дарообмена Московского государства XVI–XVII вв. // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 4(20). С. 212–215.
- Мартынова Е. П. Институт дарообмена у обских угров в антропологическом дискурсе // Вестник угроведения. Т. 11. 2021. № 3. С. 546–555.
- Мосс М. Опыт о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. Общество. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост. А. Б. Гофман. М., 2011.
- Никонов С. А. «Дар» и «поминок» в политических взаимоотношениях Пскова и Москвы второй половины XV – начала XVI века // Вестник Удмуртского университета. 2006. № 7. С. 63–77.
- Пашкова Т. И. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века. Наместники и волостели. М., 2000.
- Писарькова Л. Ф. К истории взяток в России (По материалам «секретной канцелярии» кн. Голицыных) // Отечественная история. 2002. № 5. С. 33–49.
- Письма и бумаги прибыльщика Алексея Курбатова (1700–1720-е годы) / Сост. Д. Серов, А. Видничук, А. Жуковская, И. Федюкин. М., 2023.
- Редин Д. А. Воеводское кормление в России XVIII в.: расходная книга тюменского оброчного старосты Е. Меншикова 1717 г. (Исследование и публикация источника) // Проблемы истории России. Вып. 10. Исторический источник и исторический контекст. Екатеринбург, 2013. С. 236–282.
- Редин Д. А. Этюды по русской истории Нового времени (административный и социальный аспекты). Екатеринбург, 2019.
- Редин Д. А. Канцелярия подрядных дел (к истории законодательно- административного регулирования государственных закупок в России петровского времени) // Вестник государственного и муниципального управления. Т. 9. 2020. № 3. С. 131–144.
- Редин Д. А. Регулирование госзакупок при Петре Первом (формирование системы контроля в сфере государственных финансов) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2022. Вып. 4. С. 129–144.
- Самигулов Г. Х. Ясачные люди, иноземцы, ясак и дарообмен – практические размышления о теории // Золотоордынское обозрение. 2018. Т. 6. № 2. С. 342–369.
- Серов Д. О. «Взятков не имал, а давали в почесть…». Взяточничество в России от царя Алексея Михайловича до царя Петра Алексеевича // Отечественные записки. 2012. № 2 (47). С. 211–223.
- Серов Д. О. Фискальская служба и прокуратура России в первой трети XVIII в. Saarbrücken, 2012.
- Серов Д. О., Фёдоров А. В. Дела и судьбы следователей Петра I. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2019.
- Словарь русского обиходного языка Московской Руси XVI–XVII веков. Вып. 2. СПб., 2006.
- Стефанович П. С. О дани в «трибутарном» государстве Руси // Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств. Материалы конференции. М., 2012. С. 260–267.
- Сураганова З. К. Традиционный обмен дарами у казахов. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2007.
- Татищев В. Н. Избранные произведения / под ред. С. Н. Валка. Л., 1979.
- Хорошкевич А. Л. Русь и Крым после падения ордынского ига: динамика трибутарных отношений // Отечественная история. 1999. № 2. С. 69–79.
- Фаизов С. Ф. Поминки-«тыш» в контексте взаимоотношений Руси- России с Золотой Ордой и Крымским юртом // Отечественные архивы. 1994. № 3. С. 49–55.
- Федунов В. В. Взятка как вид должностных преступлений в законодательстве России XV–XVIII вв. // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Юридические науки. Т. 24(63). 2011. № 2. С. 89–95.
- Флоря Б. Н. Кормленые грамоты XV–XVI вв. как исторический источник // Археографический ежегодник за 1970 г. М., 1971. С. 109–126.
- Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки отечественной историографии. Л., 1990.
- Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян. СПб., 1996.
- Шаттенберг С. Культура коррупции, или К истории российских чиновников // Неприкосновенный запас. 2005. № 4(42). (URL.: http://magazines.russ.ru/nz/2005/42/sh4.html (дата обращения: 3.05.2024)).
- Чулков М. Д. Драгоценная щука // Чулков М. Д. Пересмешник / сост. В. П. Степанов. М., 1987. С. 133–140.
- Швейковская Е. Н. Государство и крестьяне России: Поморье в XVII веке. М., 1997.
- Швейковская Е. Н. Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI – начала XVIII века. М., 2012.
- Юзефович Л. А. Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал. СПб., 2007.
- Davies B. The Politics of Give and Take: Kormlenie as Service Remuneration and Generalized Exchange, 1488–1726 // Culture and Identity in Moscovy, 1359–1584. UCLA. Slavic Studies. New Series. Vol. III. Moscow, 1997. S. 39–67.
- Davies B. State Power and Community in Early Modern Russia. The Case of Kozlov, 1635–1649. N.Y., 2004.
Supplementary files