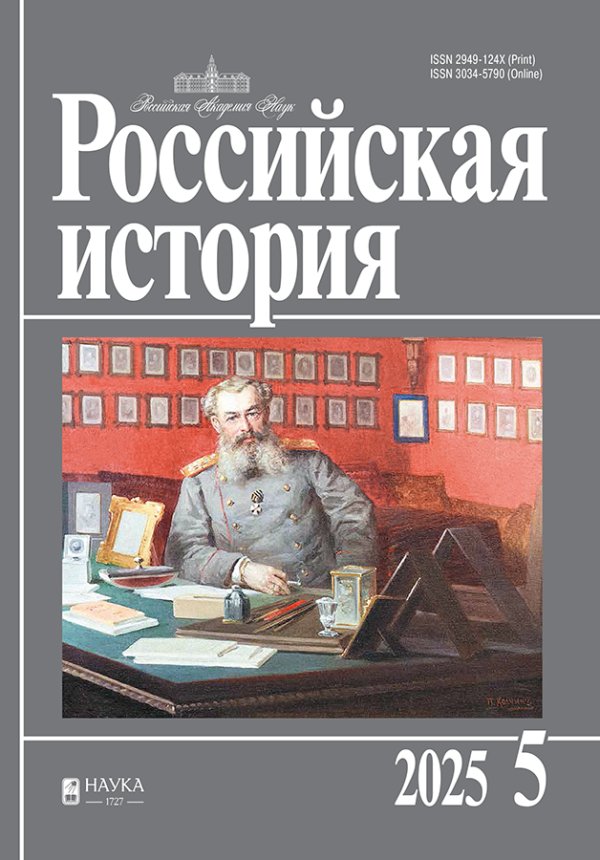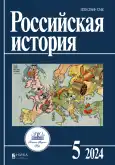Обсуждение первых фабричных законов Российской империи в столичной печати
- Авторы: Степанов В.Л.1
-
Учреждения:
- Институт экономики РАН
- Выпуск: № 5 (2024)
- Страницы: 52-75
- Раздел: История власти
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274779
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050045
- EDN: https://elibrary.ru/SLFZDI
- ID: 274779
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье дан обзор публикаций ведущих периодических изданий С.-Петербурга и Москвы по поводу фабричных законов 1882–1886 гг., которые обеспечивали охрану труда детей, подростков и женщин, регулировали отношения рабочих и владельцев предприятий, касавшиеся условий найма, выдачи заработной платы, наложения штрафов и т.п. Либеральная пресса призывала к дальнейшему развитию этого законодательства, а также к расширению прав рабочих вплоть до разрешения стачек с экономическими требованиями и создания профсоюзных организаций. Консервативные издания выступали против какой-либо самоорганизации фабричного населения и любых форм забастовочной борьбы. Некоторые из них («Русское дело», «Современные известия») критиковали принятые законы, ущемлявшие, по их мнению, интересы хозяев и не соответствовавшие тем отношениям, которые, якобы, издавна сложились между рабочими и нанимателями. Влиятельный издатель-редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков, напротив, требовал всемерного усиления государственной регламентации на промышленных предприятиях. Его идеи легли в 1880-е гг. в основу концепции «попечительства» – жёсткой административной опеки над «фабричным людом».
Полный текст
Первые фабричные законы были изданы в Российской империи в 1882–1886 гг. под воздействием таких факторов, как обострение социальных конфликтов в промышленности, гуманизация правосознания правящих кругов и образованного общества в целом, стремление либеральной бюрократии с помощью реформы трудового права ускорить модернизацию страны, заинтересованность части предпринимательской элиты в кадрах квалифицированных рабочих. Правда, принятое законодательство действовало не на всей территории страны, распространялось только на частные и акционерные фабрики и заводы, не затрагивая мелкие предприятия и промыслы. К тому же оно отличалось неясностью и расплывчатостью формулировок некоторых статей, что позволяло нанимателям обходить установленные требования. Контроль над их соблюдением оставался слабым, а уровень ответственности хозяев за нарушения – низким. Рабочие не имели права устраивать забастовки и создавать профсоюзы. Тем не менее в современной историографии эти акты рассматриваются в контексте социальных реформ, охвативших в последние десятилетия XIX в. всю Европу, и признаются составной частью правовой модернизации и индустриализации империи1. Однако их восприятие современниками, отразившееся на страницах периодической печати, редко привлекало внимание историков и никогда не становилось предметом специального исследования.
В первые пореформенные десятилетия различные проекты, предусматривавшие законодательное регулирование положения фабричных рабочих, неоднократно обсуждались в правительственных комиссиях, но всякий раз признавались слишком либеральными и недостаточно учитывавшими интересы предпринимателей. Ситуация изменилась под влиянием кризиса перепроизводства, который в 1882 г. охватил ведущие отрасли и перерос в депрессию, затянувшуюся до 1887 г. Владельцы предприятий сокращали объёмы выпускаемой продукции, снижали заработную плату, увеличивали штрафы и массово увольняли рабочих. Падение жизненного уровня «фабричного люда» вызвало социальный протест и способствовало нарастанию стачечной борьбы2. В этих условиях обострились противоречия между двумя группами промышленников. На заводах и фабриках Петербургской губ., которые, как правило, функционировали только в дневное время, применялась новейшая техника и использовался сравнительно высокооплачиваемый квалифицированный труд. Поэтому их хозяева не нуждались в найме несовершеннолетних и женщин. Столкнувшись с необходимостью свёртывания производства, они пытались «оздоровить» рынок за счёт конкурентов из Центрального промышленного района. Указывая на опасность закрытия своих предприятий и роспуска рабочих, петербургские фабриканты в первой половине 1880-х гг. не раз ходатайствовали о введении трудового законодательства. Московские промышленники, напротив, категорически возражали против какого-либо вмешательства в дела своих фирм. Их фабрики, действовавшие круглосуточно, технически были оснащены гораздо слабее петербургских. Нехватка машин компенсировалась неквалифицированным, дешёвым трудом крестьян окрестных деревень, применением ночных смен, работой детей, подростков и женщин. Поэтому всякое ограничение «свободы» на производстве москвичи считали пагубным для своих заведений, обвиняя петербуржцев в преследовании личных выгод3.
Либеральная печать, сообщая о многочисленных фактах бедственного положения фабричного населения, призывала ограничить произвол владельцев. «Каждый день уносит здоровье рабочих, – заявляла московская “Русская мысль”, – уродует их, отнимает жизнь, и государство имеет полное право, точнее сказать – на нём лежит святая обязанность вступить в борьбу с хлопчатобумажными баронами и суконными маркизами». В журнале требовали урегулировать отношения между нанимателями и работниками, установить нормированный рабочий день, запретить труд малолетних, призывали обеспечить занятым на производстве подросткам доступ к школьному обучению и учредить для надзора за соблюдением этих законов инспекцию из лиц, имеющих техническое или медицинское образование. По мнению редакции, «пример западноевропейских государств убедительно показывает, что от такого вмешательства государства нисколько не пострадало правильное развитие фабричной и заводской промышленности, а в жертву невежеству и корыстолюбию капиталистов нельзя приносить благосостояние большинства населения»4.
В «Вестнике Европы» утверждалось, что именно неустроенность быта и условий труда рабочих является источником популярности социалистических идей. Как считали в петербургском журнале, российское общество недостаточно заботилось об улучшении жизни «фабричного люда» и напрасно обольщалось мыслью об отсутствии в стране безземельных работников и пролетариата. От самих предпринимателей либеральные публицисты не ожидали каких-либо усилий в этом направлении, не надеясь на их согласие поступиться даже небольшой частью прибыли. Поэтому они уповали только на правительство, приводя в пример политику О. фон Бисмарка в Германии, где «рабочий вопрос окончательно поставлен на широкий фундамент “государственного социализма” по Лассалевскому образцу». Одновременно пропагандировалась организация при поддержке властей артелей рабочих и «чисто-ассоциационного производства в больших размерах»5.
Экономист И. И. Янжул в «Отечественных записках» сделал обзор британских законов о труде детей и женщин, отметив его высокий уровень и благотворное влияние на развитие промышленности и здоровье работников. Автор полагал, что, послужив «прототипом» для других стран Европы, они могут стать образцом и для «разумно устроенной государственной регламентации» в Росси6. Леворадикальное «Дело» опубликовало ряд материалов о быте рабочих и необходимости школьного образования малолетних на предприятиях7. В этом петербургском журнале были уверены в том, что «фабричное законодательство, сдерживающее эксплуатацию голого труда капиталом и развившееся в Западной Европе в целый юридический кодекс, вполне будет у места и у нас, в тех точках нашей экономической среды, которые аналогичны с западноевропейским фабричным режимом»8.
В московской газете «Русский курьер» констатировалось: «Вопрос об отношениях хозяина-нанимателя к рабочим является в настоящее время для нас вопросом величайшей важности, требующим скорого решения, если мы не желаем прийти к тому же грозному конфликту, к которому в рабочем вопросе пришли государства Запада. Прежде всего требуется самое обстоятельное законодательство, которое бы точно определяло размеры произвола, возможного со стороны нанимателя-капиталиста»9. Еженедельник «Земство», также издававшийся в Москве, помимо создания системы охраны труда на фабриках и заводах, призывал также «поднять задавленные тяжёлым экономическим гнётом нравственные силы рабочих, призвать их к самодеятельности, расчистить широкое, свободное поле для самопомощи, дозволив образование рабочих союзов, оказавших великую услугу рабочему люду за границей»10. В той же газете врач-гигиенист Ф. Ф. Эрисман, возглавлявший земскую комиссию по осмотру предприятий Московской губ., провозгласил законы, ограждающие жизнь и здоровье фабричного населения, «необходимым атрибутом всякого благоустроенного государства». Однако он рекомендовал правительству не спешить с их изданием, но прежде тщательно изучить условия жизни рабочих, поручив проведение необходимых обследований органам земского и городского самоуправления11.
Появление фабричного законодательства в России связано с именем видного либерального экономиста Н. Х. Бунге, возглавившего в мае 1881 г. Министерство финансов. Ранее в своих сочинениях он, ориентируясь на европейский опыт, активно доказывал необходимость охраны труда, развивал идеи социального партнёрства, писал о кооперативном и профсоюзном движении рабочих, их участии в прибылях предприятий12. Однако, возглавив министерство, Бунге, как и его предшественники, старался действовать осторожно, избегая грубого вторжения в производственные отношения, учитывал интересы фабрикантов и нередко шёл навстречу их требованиям, чтобы не нанести ущерб промышленности. Как сетовал Янжул, «Министерство финансов даже при почтеннейшем и честнейшем из людей Н. Х. Бунге держалось правила Фамусова из “Горе от ума”: “а что скажет княгиня Марья Алексевна?” или ближе к цели: “что скажет Н. А. Найдёнов и другие московские купцы?”»13.
В финансовом ведомстве был подготовлен законопроект, запрещавший труд малолетних (до 12 лет) и ночную работу детей 12–14 лет при ограничении их дневной смены восьмью часами. Для подростков 14–17 лет устанавливались 10-часовая смена днём и 6-часовая ночью. Фабрикантам предписывалось обеспечивать малолетним рабочим, не получившим начального образования, возможность посещать школу не менее двух часов в день, а если она отсутствовала в окрестностях предприятия, открывать её на свои средства. Для надзора за выполнением этих норм предстояло создать три округа (петербургский, московский, владимирский) во главе с фабричными инспекторами, которые подчинялись главному инспектору, состоявшему при Департаменте торговли и мануфактур Министерства финансов. Ввести закон в действие предполагалось с 1 июля 1882 г.14
В обществе этот проект породил как надежды, так и сомнения. Либеральный народник Я. В. Абрамов в «Отечественных записках» скептически отозвался о реформаторских способностях правительства: «Вопрос теперь в том, насколько имеющий явиться фабрично-заводской устав изменит к лучшему современное, поистине возмутительное положение вещей на наших фабриках и заводах: представит ли он собой радикальное разрешение множества вопросов и задач, возникающих из современного строя фабричного мира, или он явится одним из тех безжизненных детищ канцеляризма, которыми нас беспрерывно благодетельствуют всевозможные комиссии? Явится ли он действительной реформой, оставляющей глубокие следы в народной жизни, или всё значение его появления будет ограничиваться утолщением Свода законов?»15. Социолог Б. Ленский (Б. П. Онгирский) предсказывал, что новые правила получат «лишь крайне ограниченное, паллиативное значение», поскольку «фабричные законы могут у нас в России принести пользу только при том условии, если одновременно с ними будет облегчаться для населения приложение труда на месте посредством широких экономических мероприятий, направленных к уменьшению податных тягостей, к увеличению производительности кустарных промыслов и особенно земледелия»16.
Между тем Московское отделение Совета торговли и мануфактур и Московский биржевой комитет представили в Министерство финансов свои возражения, прежде всего против запрещения ночной работы подростков и установления возрастного ограничения до 17 лет. Не устраивало их и возложение на владельцев предприятий обязанности открывать при фабриках школы17. Проект Бунге обсуждался в Государственном совете весной 1882 г. с участием экспертов из числа предпринимателей Петербургского и Центрального промышленных районов. В итоге москвичи добились ряда уступок: министру финансов разрешалось в течение двух лет после издания закона допускать на работу детей с 10 лет; несовершеннолетними признавались только лица 12–15 лет – им запрещалось трудиться более восьми часов в день, выходить в ночные и воскресные смены, а также наниматься на вредные производства. Правда, министр финансов в течение двух лет мог в случае необходимости разрешать им работать ночью. Обязанности хозяев в деле образования малолетних были сведены лишь к предоставлению им возможности ежедневно находиться в школе в течение трёх часов. Вместе с тем министр финансов получал право по своему усмотрению распространять действие закона на отдельные ремесленные заведения18.
В этой редакции Александр III утвердил проект 1 июня 1882 г.19 Закон должен был вступить в силу 1 мая 1883 г., однако московские предприниматели ходатайствовали перед Министерством финансов об отсрочке ещё на год, ссылаясь на то, что иначе не только они попадут в сложное положение, но и семьи рабочих потеряют в период кризиса существенный источник дохода20. Бунге внёс соответствующее представление в Государственный совет, который согласился отложить введение закона в действие до 1 мая 1884 г.21 Весной 1884 г. финансовое ведомство признало и то, что возражения фабрикантов против принуждения их к устройству школ «заслуживают уважения», поскольку они не имеют для этого ни опыта, ни денежных средств22. Закон, утверждённый 12 июня 1884 г., подтвердил необходимость получения детьми начального образования в училищах, находящихся на предприятиях или в доступной близости, однако забота об этих заведениях возлагалась на фабричную инспекцию. Хозяевам лишь разрешалось по собственному желанию открывать у себя школы. При отсутствии начальных училищ в той или иной местности инспекторам следовало обращаться за содействием к уездному учебному начальству, которому поручалось заниматься их учреждением при материальной поддержке земских и городских органов, сельских обществ, церковно-приходских попечительств и частных лиц23.
Тем же законом вместо трёх фабричных округов создавались девять (Петербургский, Московский, Владимирский, Казанский, Воронежский, Харьковский, Киевский, Виленский и Варшавский). Отныне штат инспекции состоял из одного главного и девяти окружных инспекторов, а также их десяти помощников. От них во многом зависело проведение в жизнь новых законов. Бунге пригласил на службу людей, искренне старавшихся улучшить условия труда и быта рабочих. Первым главным инспектором стал инженер Е. Н. Андреев, которого вскоре сменил публицист и педагог Я. Т. Михайловский. В округа были назначены экономист И. И. Янжул (Москва), врачи П. А. Песков (Владимир) и В. В. Святловский (Харьков), педагог С. И. Миропольский (Воронеж) и др .24 Однако на малочисленную инспекцию легли чрезвычайно трудоёмкие задачи. Надзору 20 должностных лиц подлежали тысячи промышленных предприятий, рассредоточенных на огромной территории десятков губерний. Поэтому, несмотря на титанические усилия, инспекторам не удавалось в полном объёме справляться со своими обязанностями25.
Либеральная печать живо откликнулась на фабричные законы, тогда как консервативные издания долгое время хранили молчание. Пресса порицала отступление Министерства финансов от первоначального проекта под нажимом московских дельцов. «Русская мысль» считала, что власти упустили шанс провести более последовательную и радикальную реформу, которая в условиях промышленного кризиса – при избытке рабочих рук и повсеместном снижении заработной платы – отнюдь не ударила бы по интересам предпринимателей26. Сильное разочарование вызвало и двухлетнее ожидание вступления закона в силу. «Эту отсрочку мы не можем объяснить себе ничем иным, кроме чрезмерной заботливости правительства об интересах фабрикантов и заводчиков, от которой давно бы пора отрешиться, – возмущались в петербургском журнале “Русское богатство”. – Сколько лет уже правительство нянчится с крупной промышленностью, устраивает разные покровительственные тарифы, а наши фабриканты всё не могут выйти из пелёнок, и, подобно балованным ребятам, им всё мало»27. В редакции иронизировали над аргументами владельцев предприятий: «Здесь пускается в ход обыкновенно и “неокрепшая русская промышленность”, и невозможность конкурировать с Западной Европой, и даже теория государственного невмешательства и свобода народного труда. Это они-то, русские фабриканты и заводчики, живущие только “государственным вмешательством” в виде протекционных тарифов, субсидий и казённых заказов, пропагандируют теорию государственного невмешательства и свободного народного труда!»28.
Публицисты отмечали несовершенство принятых законов по сравнению с нормами трудового права Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии29. В московском журнале «Юридический вестник» Н. А. Каблуков указал на огромное значение британского акта 1847 г. о нормировании работы малолетних, предотвратившего «вырождение подрастающего поколения», для роста производства и накопления капитала. «Отнимая возможность эксплуатации детских сил, – писал экономист, – оно сберегает значительную массу населения от преждевременного истощения. Эти сбережённые силы, при условии более правильного развития их, становятся тем более способными понять и охватить процесс экономического развития в его целом и, следовательно, получают возможность дать такое направление своей деятельности, которое ускоряет ход развития в интересах всего населения. Чем больше этих сил и чем разностороннее они развиты, тем вероятнее быстрый и правильный путь развития народного благосостояния»30.
Критику в печати вызвали также робкие попытки правительства обеспечить начальное образование малолетних. Петербургская газета «Неделя» отмечала, что применение закона на практике ничего не изменит, так как дети не станут посещать близлежащие училища, теряя рабочее время, вызывая недовольство хозяев и рискуя потерять заработок31. «Вестник Европы» предлагал при отсутствии рядом школ обязать фабрикантов открывать их в своих заведениях, за исключением тех случаев, когда сопряжённые с этим расходы окажутся несоразмерны с величиной предприятия и числом задействованных на нём несовершеннолетних работников. В журнале полагали, что «каждая фабрика или завод должны быть рассматриваемы по отношению к детям как практическая, профессиональная школы, а потому к ним должны быть применяемы те же самые правила и условия, какие создаются для школ вообще». Поэтому надзор за малолетними рекомендовалось передать чиновникам не финансового, а учебного ведомства. По мнению «Вестника Европы», в идеале следовало вообще запретить приём на фабрики детей, не имеющих свидетельства об окончании курса народных училищ, и тем самым заставить родителей заботиться об образовании своего потомства32.
Особое внимание либеральная пресса уделила фабричной инспекции. «Русский курьер» назвал её «одним из благодетельнейших современных учреждений». Вместе с тем отмечались её малочисленность и узость сферы компетенции, ограниченной в то время лишь наблюдением за исполнением закона о работе малолетних. «Пример Германии, – утверждал “Вестник Европы”, – во всех отношениях поставленной в несравненно лучшие условия, чем Россия, свидетельствует о том, что цели надзора могут быть достигнуты только путём часто повторяющегося посещения фабрик, возможного, в свою очередь, особенно ввиду наших огромных расстояний и дурных путей сообщения, только при значительном числе местных агентов инспекции». Редакция заявляла, что «при хорошем составе инспекции менее опасны пробелы самого закона, и наоборот, даже идеально-совершенный фабричный закон останется мёртвой буквой, если в исполнение его будет внесена канцелярская, формалистическая рутина». В печати также обращалось внимание на отсутствие каких-либо «карательных постановлений» для хозяев, которым за нарушения грозил лишь необременительный штраф, налагавшийся мировым судьёй по представлению инспектора. Между тем, как полагали публицисты, за наиболее крупные проступки следовало назначать арест и даже тюремное заключение. Либеральные издания призывали увеличить состав и финансирование инспекции, расширить её полномочия, настаивали на необходимости гласности и общественного контроля в фабричном деле. В частности, речь шла о предоставлении представителям земских и городских учреждений (гласным, членам управ, врачам, учителям) права посещать предприятия, собирать там нужную информацию и доводить её до сведения инспекции33. «Русский курьер» предлагал даже разрешить органам местного самоуправления промышленных губерний назначать собственных инспекторов, подчинённых, правда, окружному инспектору34.
Несмотря на многочисленные замечания, в целом закон 1 июня 1882 г. вызвал одобрение в печати, которая рассматривала его как долгожданную «прелюдию» к решению рабочего вопроса. «Положим, это только начало и притом очень слабое, – писал Каблуков, – но и оно имеет помимо принципиального и практическое значение, так как избавит нас от поглощения малолетних детей фабриками и тем, с одной стороны, может косвенно повлиять на увеличение платы фабричным взрослым рабочим, ограничив предложение рабочих рук, а с другой стороны, заставит наших капиталистов позаботиться о более усовершенствованных приёмах производства и, стало быть, даст ещё новый толчок развитию капитализма и именно в направлении обобществления труда»35. В «Неделе» указывали, что, «радуясь появлению настоящего закона, главным образом как первому шагу к ограждению человеческих прав в фабричном мире, разумеется, нельзя не видеть в этом шаге большой умеренности, заставляющей желать дальнейшего развития»36. В московской газете «Русские ведомости» надеялись на лучшее: «Как бы то ни было, можно порадоваться, что фабричный закон скоро перейдёт в действительность. Недостатки и несовершенства, какие в ней есть, убедительнее выступят на деле, и ничто не помешает сделать поправки, указываемые опытом, если наше Министерство финансов пойдёт по тому направлению, которое становится всё более и более заметным в его политике»37. Ещё больший оптимизм демонстрировало «Русское богатство»: «Можно надеяться, что наше законодательство, раз вступивши на путь ограждения интересов трудящихся классов, сделает для них в этом отношении не меньше, чем сочли это нужным законодательства других европейских государств»38. По словам «Вестника Европы», отчёты инспекции за 1882–1883 гг., раскрывавшие неприглядную картину положения рабочих, подтверждали «необходимость и неотложность» его изменения, «только с большей последовательностью и решительностью»39. В том, что «неминуемо и в скором времени должны последовать новые законодательные постановления», не сомневалась и «Русская мысль»40.
Либеральные публицисты призывали к дальнейшему совершенствованию трудового права и распространению его норм на все промышленные регионы страны, чтобы упорядочить отношения между хозяевами и рабочими, обеспечить защиту трудящихся от несчастных случаев и последствий вредных производств, организовать для них медицинскую помощь, установить надзор за санитарным состоянием предприятий и т.п.41 Каблуков настойчиво рекомендовал изменить неравное юридическое положение сторон, когда владельцам фабрик и заводов разрешалось легально подавать коллективные прошения в правительство и ходатайствовать о своих нуждах через биржевые комитеты и отделения мануфактурных советов, в то время как рабочим категорически запрещались любые формы протеста, в частности, забастовки с экономическими требованиями рассматривались властями как бунт. «А между тем, – отмечал он, – предоставление рабочим законных путей и мер для отстаивания своих интересов представляет единственное средство предупредить те кровавые столкновения и поджоги, к каким прибегают рабочие, чтобы добиться изменения невыгодных для них условий». При этом им позитивно оценивалась роль европейских профсоюзов, добивавшихся повышения заработной платы и сокращения рабочего дня42.
Забастовка на Вознесенской бумагопрядильной фабрике и в особенности знаменитая Морозовская стачка на Никольской мануфактуре (декабрь 1884 г. – январь 1885 г.) вызвали сильный общественный резонанс. «В корне обеих этих историй, – утверждала “Неделя”, – оказывается та же односторонность фабричного устава и обычаев, на которую не раз указывала печать». В газете считали, что вспыхнувшие на предприятиях волнения «в сотый раз напоминают нам о необходимости не только ускорить движение нашего фабричного вопроса, но и решительно изменить самые приёмы его решения»43. «Русские ведомости» констатировали: «Главный источник фабричных беспорядков – это отсутствие надлежащей регламентации законодательным путём взаимных отношений фабричных вопросов и их хозяев и полное отсутствие в этой области специального правительственного надзора»44. «Русский курьер» также заявил: «Нельзя искренне не пожелать, чтобы существующие недостатки нашего фабричного законодательства были как можно скорее устранены»45. Не менее категорично выразился «Вестник Европы»: «Если необходимость коренной перемены в положении фабричных рабочих могла ещё подлежать в чьих-либо глазах какому-либо сомнению, то оно, по всей вероятности, устранено недавними событиями в губерниях Московской и Владимирской»46.
Подъём стачечной борьбы заставил высказаться и консерваторов. Издатель-редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков был убеждён в том, что «у нас нет пролетариата в специальном значении этого слова, нет, следовательно, и рабочего вопроса», а «того решительного антагонизма между хозяевами и рабочими, какие бывают в других странах, у нас не замечается»47. Правда, указывая на недопустимость стачек, он признавал, что во время промышленных кризисов обострение конфликтов на производстве требует вмешательства государства48. Причину забастовок в Иваново-Вознесенске и селе Никольском публицист усматривал «в произволе одной и разнузданности другой стороны», когда рабочих при фактическом бездействии властей обирали с помощью сокращения заработной платы, высоких штрафов и грабительских цен в лавках, провоцируя их тем самым на «противоправные» действия. По его словам, в итоге «фабричный люд» невольно «озлобляется» и «развращается», и хотя «никакого рабочего вопроса у нас, слава Богу, нет, но если такое положение дел, такая слабость и безответственность будут продолжаться, то явится, пожалуй, и рабочий вопрос, но только в иной форме, нежели на Западе»49. Позицию Каткова одобрили даже его постоянные оппоненты в «Вестнике Европы» и «Русских ведомостях»50.
Московская газета «Русь» И. С. Аксакова отозвалась о беспорядках на фабриках более примирительно. В ней напомнили о «чёрной туче промышленного кризиса», нависавшей над центральными губерниями и вызывавшей сокращение производства и массовые увольнения. «Не отрицая практикующихся, к несчастью, и иногда очень широко, злоупотреблений и притеснений рабочих на многих из наших заводов, – говорилось на её страницах, – мы тем не менее не решаемся видеть в них единственную причину волнений рабочих. Злоупотребления бывали и прежде. Администрация, которой, по всей вероятности, придётся иметь дело не с одними этими двумя случаями, должна иметь прежде всего в виду не столько внешний блеск быстрого и энергичного умиротворения, сколько величайшую осторожность в разборе этих сложных отношений. Стать на защиту угнетённых легко и приятно, но только глубокая справедливость к обеим сторонам может дать прочные гарантии, что этим угнетённым завтра же не будет ещё хуже, если, например, рабочие вследствие закрытия фабрики останутся вовсе без работы»51.
Впрочем, уже в следующем номере «Руси» появилась статья начальника службы эксплуатации Общества Юго-Западных железных дорог С. Ю. Витте «Мануфактурное крепостничество», в которой обосновывалась неотложность «скорейшего установления полных законов о рабочих и строгой инспекции для надзора за их исполнением». Автор настаивал на регулировании продолжительности рабочего дня, труда женщин и детей, на обеспечении техники безопасности и установлении ответственности предпринимателей за увечья и смерть на производстве и т. п. По его мнению, государству следовало также проявлять особую заботу об удовлетворении «духовных потребностей» трудящихся, предоставляя им возможность отправлять религиозные обряды, отмечать церковные и исторические праздники. «На это совсем не было обращаемо внимания на Западе, – писал Витте, – вследствие крайне материалистического направления, которое воцарилось там благодаря целому ряду исторических причин. Едва ли не в этом обстоятельстве заключается по преимуществу корень зла, проявляющегося в форме воинствующего социализма»52.
Депрессия в промышленности и забастовки ускорили разработку фабричных законов. Для их подготовки 14 февраля 1885 г. под председательством товарища министра внутренних дел В. К. Плеве была образована межведомственная комиссия из чиновников МВД, финансового и судебного ведомств, а также фабрикантов обеих столиц. В первую очередь участники заседаний обсудили запрещение ночных смен для женщин и подростков, о чём неоднократно ходатайствовали петербургские предприниматели. Однако их инициативы неизменно наталкивались на резкие возражения Московского отделения Совета торговли и мануфактур53. «Русские ведомости» утверждали, что «мотивы московской оппозиции скорее личного свойства» и обусловлены исключительно опасением понести убытки после кризиса, когда появится возможность увеличить выпуск продукции. Однако, как полагали в газете, «аргументы вроде того, что русский рабочий сделан из другого теста, что и фабрикант наш проникнут другим духом, что не следует нарушать добрых отеческих отношений на фабриках, едва ли кого-нибудь смогут убедить с тех пор, как эти “отеческие” отношения достаточно раскрылись»54.
Комиссия Плеве 16 марта поддержала петербургских промышленников, и 1 мая Бунге и временно управлявший МВД И. Н. Дурново внесли в Государственный совет предложение запретить с 1 октября ночные работы для подростков до 17 лет и женщин на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках, а также предоставить министрам финансов и внутренних дел право распространять эту меру на другие отрасли. 10 и 20 мая Государственный совет одобрил этот проект, однако счёл целесообразным осуществить его в виде опыта, а через три года объединить правила о труде малолетних и отмене ночных смен в одном законе. 3 июня 1885 г. это решение утвердил император55. Либеральные издания позитивно восприняли новый шаг в формировании системы трудового права. «Русская мысль» раскритиковала попытки московских предпринимателей отсрочить введение закона под предлогом недостатка времени для найма взрослых мужчин и увеличения числа машин, чтобы заменить женщин и подростков. В журнале объясняли подобные уловки нежеланием нести дополнительные расходы, так как женщинам платили вдвое меньше, чем мужчинам, а детям – на треть меньше, чем женщинам. При этом особо отмечалось, что «обязательная отмена ночной работы для детей и женщин, отмена, которая была всегда желательна и требуется самой элементарной гуманностью, всего удобнее могла быть осуществлена именно во время кризиса, когда и без запрещения на многих фабриках ночная работа прекращена, и когда почти на всех уменьшено число рабочих, а стало быть, представляется полная возможность с наименьшими пожертвованиями заменить отпущенными рабочими-мужчинами детей и женщин в ночной работе, где она ещё производится»56.
Соглашаясь с подобными соображениями, Катков уже на стадии подготовки и обсуждения проекта, несмотря на личные связи с московскими промышленниками, встал на сторону их противников. В передовицах своей газеты он напоминал, что ночные работы не практикуются в крупнейших европейских странах и на значительной части петербургских и лодзинских предприятий. Вопреки уверениям фабрикантов, публицист был убеждён, что эта мера не приведёт к увеличению стоимости производства и не подорвёт благосостояние рабочих. Он ссылался на опыт Великобритании, где после запрещения ночных смен для детей, подростков и женщин промышленность стала развиваться быстрее. По его словам, изнурительный труд без полноценного сна пагубно сказывался на качестве продукции, вёл к росту числа штрафов и тем самым вызывал недовольство «фабричного люда». Кроме того, по мнению Каткова, одновременно следовало принять и закон о продолжительности рабочего дня, чтобы хозяева не увеличивали его до 14–15 часов в сутки, как это делалось на предприятиях без ночных смен57.
«Русь» опубликовала статью кинешемского текстильного фабриканта А. Ф. Морокина, который благодарил правительство за «разумное распоряжение в распределении работ», удобное и полезное для здоровья подростков и женщин, получивших достаточное время для сна. Он полагал, что эта мера будет выгодна и владельцам заводов: объём выпускаемой продукции вряд ли сократится сколько-нибудь значительно, тогда как дневной труд отдохнувших людей всегда качественнее, чем ночной, а это позволит сократить брак на производстве и количество штрафов. Морокин сожалел лишь о том, что власти не решились на ещё более радикальную меру: «Новый закон допускает ночную работу только взрослым, а чем же виноват взрослый рабочий, когда на его плечи взвалят все ночные работы, что уже и делается в настоящее время? Его силы нужны для семейства, а закон позволяет впрягать его в самые трудные ночные работы на круглый год; от постоянной ночной работы может скорей истощиться организм, а следовательно и стать более восприимчивым к болезням»58.
С московскими промышленниками солидаризировался только петербургский «Экономический журнал», издававшийся с 1885 г. А. П. Субботиным. Редакция не возражала против издания закона, но заявляла, что его следовало проводить «очень осторожно и заблаговременно», тогда как принятая мера оказалась «довольно скороспелой», и теперь владельцам предприятий для перехода с ночных работ на дневные придётся перестраивать производство, возводить новые корпуса и устанавливать дополнительное оборудование. Обозреватели журнала предсказывали, что осуществить всё это за отведённые несколько месяцев будет крайне сложно, и в итоге на улице окажутся десятки тысяч безработных, что неминуемо вызовет снижение оплаты труда59. Уже после введения закона в действие отмечалось, что при переводе женщин на дневную смену продолжительность их рабочего времени увеличивалась до 14–15 часов, и тем самым создавалось «неудобное положение, вовсе нежелательное и парализующее те благие последствия, какие имел в виду законодатель»60.
Между тем комиссия Плеве подготовила проект «Правил о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих». При его обсуждении в марте 1885 г. предприниматели обеих столиц сочли нецелесообразным регламентировать в законе порядок распределения «штрафных денег», наделять инспекцию правом утверждать расценки на товары в фабричных лавках, чётко фиксировать в трудовом договоре обязанности рабочего, предупреждать его за две недели о предстоящем увольнении, а при немедленном расчёте выдавать ему выходное пособие в размере половины месячного заработка. Напротив, они предлагали предоставить хозяевам возможность расторгать договор с рабочим в случае затруднений при сбыте продукции61. Однако заседавшие в комиссии чиновники отклонили большинство этих пожеланий, и после окончательной корректировки в финансовом ведомстве Бунге и Дурново 14 мая 1885 г. внесли проект в Государственный совет, одобривший его после продолжительного обсуждения весной 1886 г. 3 июня Александр III утвердил новые правила, действовавшие вплоть до 1891 г. только в Петербургской, Московской и Владимирской губерниях62.
Отныне порядок найма и увольнения рабочих заносился в расчётные книжки, они получили право расторгать договоры в случае задержки зарплаты, побоев, тяжких оскорблений и т. п. Запрещалось оплачивать труд условными знаками или товарами, делать вычеты за долги, медицинское обслуживание, освещение мастерских и использование орудий производства, а также взимать проценты с тех сумм, которые выдавались на предприятии в долг. Устанавливались максимальные размеры штрафов, которые разрешалось взыскивать только за некачественную работу, прогулы и нарушение порядка, причём эти деньги передавались в особый фонд, предназначенный для удовлетворения нужд самих рабочих. Фабричной инспекции поручалось контролировать исполнение всех правовых норм, регулировавших трудовые отношения, утверждать заводские правила внутреннего режима, ассортимент и расценки в харчевых лавках, размер платежей за отведённые рабочим жилые помещения, за пользование банями, столовыми, чайными, предотвращать конфликты на предприятиях, призывать к ответу нарушителей закона и налагать на них штрафы.
В то же время резко ужесточались репрессивные меры против «бунтовщиков». За подстрекательство к стачкам они могли провести в тюрьме от четырёх до восьми месяцев, а за участие в них – от двух до четырёх месяцев (в случае применения насилия срок заключения удваивался). Самовольный отказ от работы до истечения договора грозил виновному арестом до месяца, за умышленное повреждение фабричного имущества полагалось лишение свободы от трёх месяцев до года. Для общего надзора за «благоустройством» в промышленных заведениях создавались губернские по фабричным делам присутствия под председательством губернатора. В их состав входили вице-губернатор, окружной прокурор, начальник жандармского управления, фабричный инспектор, члены от земских и городских учреждений. Однако в Петербурге, Москве и в тех городах, где действовали Совет торговли и мануфактур и его филиалы, деятелей местного самоуправления заменяли представители предпринимателей.
Общественность восприняла новые правила с энтузиазмом. «Наконец-то и наши рабочие дождались своего 19 февраля», – сказал один земский гласный прокурору Московского окружного суда П. Н. Обнинскому, который когда-то был мировым посредником первого призыва63. По словам самого прокурора, принятые постановления были направлены «исключительно к благу рабочего класса, к защите его первейших человеческих интересов, к улучшению его нравственности»64. «Экономический журнал» утверждал, что подобный акт «сделал бы честь любому европейскому законодательству»65. «Русский курьер» заявлял: «В законодательном регулировании отношений между рабочими и предпринимателями мы видим залог более правильного течения нашей общественной жизни, более человечного отношения к рабочему». Особенно позитивно в газете оценивалось расширение функций фабричной инспекции, поскольку именно от неё «зависит исполнение таких постановлений закона, которые ведут как к охране рабочего от произвола хозяина, так и к охране общественного порядка»66. В «Русской мысли» констатировали, что «закон этот вносит, наконец, некоторые определённые основания для взаимных отношений, зависевших доселе положительно от одного только произвола хозяев и управляющих»67. Как признавало «Дело», «основания закона 3 июня – основания здоровые, шаг вперёд в нашем законодательстве, шаг, при настоящих условиях нашего быта, очень почтенный, несомненно способный к жизненному, прогрессивному развитию, как всякое здоровое зерно»68. Более сдержанно выразился «Вестник Европы»: «В положении фабричных рабочих происходит перемена к лучшему, недостаточно лишь полная и решительная»69.
Тем не менее в печати отмечалось, что правила касались только отношений нанимателей и рабочих, не охватывая другие стороны промышленного производства. В них отсутствовали также положения о минимальном сроке найма, о вычетах из зарплаты и по исполнительному листу, за долги фабричным лавкам. Взыскания за брак, прогулы и нарушения режима налагались по усмотрению администрации предприятия, что создавало почву для злоупотреблений и начисления непомерных штрафов при желании уволить неугодного работника. Особое внимание публицисты, как и ранее, обращали на неравноправие двух сторон – относительно мягкие санкции (незначительные штрафы) для хозяев и суровые (арест и тюремное заключение) для рабочих, считая, что декларированная в законе защита их интересов может остаться «мёртвой буквой»70.
Сильные нарекания вызвал и состав губернских присутствий, которые «Вестник Европы» назвал «лишней спицей в колеснице фабричного надзора», поскольку включённые в их состав чиновники различных ведомств, обременённые своими основными служебными обязанностями, не имели ни знаний, ни времени, чтобы вникать в какие-либо другие проблемы. В журнале опасались, что, «подчинив фабричную инспекцию смешанному коллегиальному учреждению и введя в его среду (по крайней мере, в столицах) представителей той самой силы, которую предстоит сдерживать и умерять, закон 3-го июня 1886 года открыл двери и окна всем влияниям, враждебным правильной регламентации фабричного труда»71. В «Неделе» задавались вопросом: «Успех надзора возможен лишь тогда, когда этот надзор энергичен, а можно ли требовать особенной энергии от губернского присутствия при бесчисленности наших губернских по всяким делам присутствий? Не возобладает ли тут одна канцелярия?»72. Обнинский сожалел о том, что «младенцу, не выучившемуся ещё ступать, заготовлены оковы, закону, высокому и непогрешимому в идее, даны исполнители, способные только тормозить (в лучшем случае) его первые неизбежно колеблющиеся шаги». По его мнению, ни полицейским чинам, ни предпринимателям не место в новых структурах, для успешной деятельности которых вполне достаточно участия представителей губернской администрации и местного самоуправления73.
Либеральная печать призывала правительство не останавливаться на достигнутом и распространить действие правил на другие губернии, применять их на всех предприятиях независимо от размера, расширить штаты, полномочия и финансирование фабричной инспекции, принять законы о нормировании рабочего дня, об ответственности хозяев за несчастные случаи на производстве и за развитие школьного образования в промышленных заведениях. Кроме того, публицисты предлагали также поставить на правовую основу обеспечение техники безопасности, медицинской помощи, санитарии и гигиены труда, включая устройство бань, больниц, аптек, заботу о жилых помещениях и питании рабочих, а также организацию благотворительных учреждений – детских приютов, богаделен, читален, библиотек74. Обнинский предлагал объединить все фабричные законы в едином кодексе, «сгруппировав юридические нормы по отдельным производствам, и таким путём уничтожить возможность существующей эксплуатации и установить общую и единую охрану интересов жизни, здоровья и нравственности рабочих классов империи»75.
Катков, рассматривавший нормирование труда малолетних и отмену ночных смен для женщин и подростков лишь как частные меры, одобрительно отнёсся к подготовке нового законопроекта. «Можно думать, – надеялся он, – что с предпринимаемым теперь изменением фабричного законодательства уничтожатся причины неприязненных отношений между фабричными и рабочими, и имевшие место нынешней зимой столкновения не повторятся». В передовицах «Московских ведомостей» настоятельно рекомендовалось запретить открывать кабаки и трактиры рядом с предприятиями, чтобы не допускать пьянства на производстве. Особое значение придавалось при этом функциям и личным качествам инспекторов: «Нельзя не пожелать, чтобы для отправления столь важной обязанности были избраны вполне благонадёжные люди, чуждые тенденции. Если фабричная инспекция доверена будет людям с предвзятыми взглядами, то едва ли можно ожидать от её деятельности благих последствий»76.
Однако окончательная редакция закона далеко не во всём оправдала ожидания Каткова. «Ограничиваясь исключительно определением юридических и экономических отношений между хозяином и рабочими, – с разочарованием писал он, – правила эти оставляют в стороне санитарные условия жизни и работы фабричного рабочего. Разменявшись на юридические мелочи, крайне стеснительные как для хозяина, так и для рабочего, открывая широкий простор крючкотворству и чиновничьему произволу, правила эти ни словом не обмолвились об охране здоровья и жизни рабочих». Редактор «Московских ведомостей» обращал внимание на острую потребность в улучшении жилищных условий обездоленных пролетариев, которые нередко «скученными массами» ютились в казармах, не удовлетворявших самым скромным гигиеническим требованиям, что подрывало семейные отношения и оказывало «дурное действие» на нравственность людей. Катков убеждал читателей, что, лишь обеспечив им «оседлость», т.е. отдельные удобные помещения, пригодные для самостоятельной хозяйственной жизни, владелец привяжет их к своему предприятию, способствуя формированию постоянной и квалифицированной рабочей силы77.
А. С. Суворин в «Новом времени» указывал на «дилетантизм» малочисленных служащих фабричной инспекции, слабо знакомых с реалиями производственной деятельности, на огромный объём их обязанностей, позволявший большинству промышленных заведений уклоняться от какого-либо надзора, на недостаточное содействие судебных учреждений. Однако, заключал петербургский публицист, «вышеописанные неудобства не доказывают, впрочем, что новый закон был мертворождённым: он только мало ещё приспособлен к местным условиям России: сделать эти приспособления может только опыт и время. И в Англии прошло более шестидесяти лет прежде, нежели фабричное законодательство после различных частных поправок и изменений достигло известного совершенства»78.
Московские предприниматели не смирились с навязанным им законом 3 июня 1886 г. и активно выступали за изменение статей, касавшихся наложения штрафов, начисления заработной платы, порядка расторжения договоров, состава фабричных присутствий и т. п. Их критическое настроение подогревалось первыми признаками окончания депрессии и оздоровления промышленности, открывавшего возможности для расширения производства. Интересы владельцев предприятий всячески отстаивали местные консервативные издания, которые, по ироническому выражению экономиста М. И. Туган-Барановского, видели в фабричных законах «чуть ли не социализм»79. Они с негодованием отзывались о действиях инспекции и персонально Янжула, который пытался заставить хозяев выполнять установленные правила и, в частности, стал контролировать ассортимент и цены в фабричных лавках. Застрельщиком этой кампании в печати выступил С. Ф. Шарапов, основавший в начале 1886 г. газету «Русское дело». Он состоял секретарём учреждённого в 1885 г. Московского отделения Общества для содействия русской промышленности и торговли (ОДСРПиТ) и имел репутацию «купеческого трибуна»80.
Шарапов предостерегал от искусственного разжигания конфликта между трудом и капиталом: «С самым лучшим законом в руках можно посеять смуту и вызвать волнения рабочих даже там, где для этого нет никакой почвы, где отношения наиболее сердечны». Его возмущало, что в либеральной прессе «фабрикант, кто бы он ни был, носит чёрный ярлык злодея, бездушного эксплуататора, притеснителя, рабочий – белый или розовый ярлык угнетённой жертвы, страдающего младшего брата и т. п.», и в этой агитации активно используется авторитет правительственного учреждения. «Инспекция, ко всеобщему удивлению русских людей, – писал Шарапов, – окрасилась вдруг в ярко-либеральный цвет. К ней воспылали все интеллигентные сердца, в ней стали видеть вовсе не то, что она есть на самом деле (или чем должна была бы быть), именно бодрствующий деятельный орган государства, регулирующий отношения между фабрикантами и рабочими. В ней увидали только оплот бедствующего пролетария, страдальца-работника против произвола жирного, дикого и свирепого угнетателя, фабриканта»81. По словам публициста, инспекция вполне оправдала ожидания либералов, особенно в Московском округе, где Янжул распоряжался, «не обращая ни малейшего внимания ни на требования закона, ни на условия фабричной жизни», и «сумел оскорбить и возмутить весь московский промышленный мир, который, смеем думать, состоит не из одних же чёрных злодеев»82.
«Русское дело» поддержали «Современные известия» Н. П. Гилярова-Платонова, которые в «Новом времени» характеризовались как «официозный орган московских лавочников и кулаков»83. Обвиняя Янжула в самоуправстве и отсутствии «простого здравого смысла», газета заявляла, что «законодательное расширение личного произвола ничуть не прогресс, к какой бы сфере оно не применялось и какими бы добрыми намерениями не было одушевлено». Далее следовал риторический вопрос: «К чему же более ведёт это новое полицейское учреждение с широким личным произволом, к действительному ли ограждению прав рабочего и обузданию Тит Титычей или только к большей ещё деморализации?»84. Вскоре Янжул опубликовал в «Современных известиях» ответ критикам, оправдывая свои требования, которые «имеют за себя законное основание, никому никакого вреда не делают, а наносят только ущерб немногим из фабрикантов, привыкшим выручать через свои фабричные лавки чуть не всё то, что израсходовано в год на заработную плату»85. Но затем в газете появилась статья за подписью «Фабрикант», где в действиях инспектора усматривалось «много нежелательного, странного и, если угодно, опасного», так как они «вносят смуту и сеют сначала недоразумения, а затем и ещё нечто худшее в существующие добрые и вполне сердечные отношения к рабочим». В предисловии к этой публикации Гиляров-Платонов согласился с мнением автора, упрекнув Янжула в «кабинетной благонамеренности»86.
К нападкам на инспекцию присоединился даже либеральный «Русский курьер», ранее всегда превозносивший фабричное законодательство. Однако в сентябре 1885 г. при осмотре московского завода минеральных вод и шампанского, принадлежавшего издателю этой газеты Н. П. Ланину, Янжул выявил ряд нарушений закона о труде малолетних, составил протокол и передал дело в мировой суд, который признал предпринимателя виновным и наложил на него штраф87. Возмущённый владелец опубликовал в «Русском курьере» заметку, оспорив справедливость предъявленных претензий и обвинив инспектора в вымогательстве взятки88. Позднее, в разгар травли Янжула, Ланин перепечатал в своей газете статью из «Современных известий» и дополнил её собственными критическими замечаниями. По его словам, инспекция «не пользуется не только симпатиями среди фабрикантов и заводчиков, которых она главным образом касается, но и рабочих и даже малолетних рабочих, о благе которых она обязана заботиться». Он писал, что изгнание детей с предприятий лишило их заработка, привело к сокращению и удорожанию производства, создало угрозу существованию целых отраслей. Ланин сожалел о том, что «Министерство финансов дало своим мелким чиновникам право на такой безграничный произвол в их действиях и распоряжениях, которые весьма вредно могут отозваться на всём фабричном быте»89.
Эта кампания вызвала ответную реакцию либеральной прессы. «Экономический журнал» доказывал, что дело фабричного надзора «было поставлено умело, и в него внесена была живая струя, необычная для наших бюрократических учреждений». Поэтому только «ретроградная группа» могла видеть в инспекции «какое-то неудобное социальное начало» и обвинять её служащих «в социалистических тенденциях»90. Как писал «Вестник Европы», «западноевропейское фабричное законодательство представляет много шагов вперёд и ни одного крупного шага назад; нужно надеяться, что такова будет судьба и наших молодых фабричных законов, несмотря на ожесточённую агитацию против них, центром которой служит Москва, а главным орудием – некоторые московские газеты». В редакции полагали, что «настоящая цель газетных реакционеров – это такое изменение закона, после которого всегда было бы законно его неисполнение; это – узаконение порядка, стоящего вне закона». Журнал высоко оценивал деятельность инспекторов, сумевших в ряде случаев добиться улучшения условий труда и жизни рабочих, а также их отчёты, объективно отражавшие многочисленные нарушения фабричного устава, правил пожарной безопасности, медицинского обслуживания и т.п.91
Размышляя о надеждах предпринимателей обойти правила 3 июня 1886 г., Обнинский отмечал: «Самой заветной в этом направлении мечтой оказывается стремление удержать и восстановить ту хитросплетённую и столь излюбленную систему кабальных отношений рабочего к хозяину, которая прочно усвоена предшествующим бытом и против которой направлены самые решительные удары нового закона». И поскольку «тело и душу» его составляла фабричная инспекция, «надо оберегать это в высшей степени полезное, животворное учреждение», оказавшее «незабвенные заслуги» в предотвращении беспорядков. «А между тем, – сокрушался автор, – как мало сочувственных, ободряющих голосов шлёт ей то общество, на пользу которого она работает, и как мало протягивается оттуда рук помощи, чтобы честно поддержать её в непосильной борьбе! Зато в нареканиях, глумлениях, жалобах, доносах, анонимах и пасквилях недостатка нет». Обнинский подчеркнул, что все эти выпады – «только фантасмагория, только мыльный пузырь, только набор “страшных слов”, только косное желание стряхнуть с себя несносный, “ндраву моему препятствующий”, чужой контроль»92.
Как указывали «Русские ведомости», фабричные отчёты «представляют богатый материал для суждения об условиях роста нашей промышленности и положения рабочих», «свидетельствуют о том, что редкий инспектор ограничивался выполнением одной обязательной работы, что большинство из них, напротив, добросовестно вникало в экономический быт всего рабочего населения и подготовляло таким путём законодательное вмешательство против тех проявлений хищничества и произвола, которые им удавалось обнаружить». Заслугу инспекторов газета видела прежде всего в достижении главной цели, поставленной 1 июня 1882 г. – «положить предел изнурению детского организма и эксплуатации малолетнего и беззащитного фабричного населения собственными их родителями и промышленниками». Кроме того, отмечалась их особая роль в выявлении на практике отсутствия необходимых гарантий для начального образования несовершеннолетних работников93.
Фельетонист «Нового времени» назвал Шарапова «юным шалуном московской литературы», который, добившись разрешения издавать газету, «пришёл в восторг, словно ребёнок, получивший давно желанную, драгоценную игрушку», и «стал налетать на ни в чём не повинных людей». Поддавшись «нашёптам» местных предпринимателей, он обрушился на Янжула, с целью «опорочить “либерала”, ненавистного “крупным фабрикантам”»94. В другом фельетоне читателям сообщалось, что в Москве организовали выступления в прессе, чтобы «стереть с лица земли» фабричную инспекцию: «Но эта открытая, печатная борьба в одиночку ещё не страшна, страшен тот натиск, который готовится теперь в тиши одного из московских ресторанов. Московские и подмосковные фабриканты съехались на военный совет, обедают теперь и ужинают в компании, а в промежутках между ленивыми щами и “натуральными” раками точат зубы с антропофагическими целями. Что съесть инспекторов нужно, это для всех фабрикантов очевидно, только не решено ещё, под каким соусом»95.
Вскоре ситуация в правительственных кругах изменилась в пользу московских промышленников. В конце 1886 г. Бунге уступил министерский пост И. А. Вышнеградскому – учёному-механику, игравшему видную роль в деловых кругах и возглавлявшему ранее правления нескольких крупных акционерных обществ. Он ревностно заботился об интересах предпринимателей и нуждах промышленности. «Вестник Европы» предсказывал, что его назначение для фабричного дела станет «переменой верного на неверное»96. После вынужденного ухода Бунге многие открыто осуждали его политику. «С каким важным видом всезнания петербуржцы критиковали все его начинания, когда узнали, что он уволен!», – иронизировало «Русское богатство». В столице говорили, в частности: «Фабричный закон! Что такое фабричный закон! У ребятишек отняли заработок, да наставили новых чиновников!»97. Либеральные издания защищали бывшего министра. Как утверждал «Вестник Европы», регламентация труда рабочих в совокупности с рядом других социальных мероприятий, «внушённых заботливостью о народном благе» (отменой подушной подати, учреждением Крестьянского поземельного банка и т. п.), «составляет одно целое, проникнутое одной мыслью, одним духом»98. Журнал «Дело» напоминал, что «введение фабричного законодательства у нас откладывалось с года на год, благодаря протестам заводчиков и фабрикантов, и, чтобы положить хоть начало ему, потребовалось таким образом немало энергии»99.
Между тем промышленники центральных губерний с воодушевлением восприняли перемены в финансовом ведомстве. «Москва, игравшая роль пасынка за все тридцать лет действия пресловутой “новой” политики “молодых финансистов”, почувствовала, как прибыло у ней духа и надежд, – ликовал Шарапов, – и признала в И. А. Вышнеградском своего человека»100. 10 марта 1887 г. московское отделение ОДСРПиТ представило министру финансов записку, обвинив инспекцию в том, что она вступила на «ложный путь» вмешательства в сферы фабричной жизни, находящиеся за пределами её полномочий, и выставляла себя защитницей рабочих против хозяев-эксплуататоров, тогда как их отношения представляют собой не перманентный конфликт, а, напротив, «союз, основанный на сходстве интересов и различии способностей, дополняющих одно другое». При этом предприниматели оспаривали правомочность распоряжений инспекторов, касавшихся условий найма, расчётных книжек, размеров и сроков выдачи заработной платы, правил внутреннего распорядка, ассортимента товаров и цен в фабричных лавках и т. п. Во второй записке, направленной главе финансового ведомства 30 марта, перечислялись изменения, которые следовало сделать в законе 3 июня 1886 г., чтобы он «соответствовал в полной мере истинным нуждам как фабрикантов, так и рабочих, установляя между ними наиболее правильные отношения»101.
Шарапов, являвшийся одним из составителей этих записок, поспешил сообщить о них читателям «Русского дела». «Первая разъясняет с достаточной подробностью, – писал он, – в какую либеральную кабалу попала русская фабричная промышленность только потому, что в одно прекрасное утро либеральное Министерство финансов изволило взглянуть на русских промышленников как на шайку эксплуататоров и утеснителей младшего брата и поспешило отдать их на обуздание десятку профессоров, докторов и адвокатов, снабдив последних чуть ли не диктаторскими полномочиями». Инспекция, по его словам, сразу же воспользовалась этим: «Словно издеваясь над русской промышленностью, она без всякой сколько-нибудь оправдываемой здравым смыслом цели, без всякого зазрения совести гнёт, уродует и ломает фабричные отношения»102. По поводу второй записки Шарапов утверждал, что «во всех изменениях, приведённых в ходатайстве, сквозит одно желание: оберечь тот мир и согласие, которое ненарушимо царило между русским капиталом и трудом вплоть до того момента, пока в эти добрые, сердечные отношения не ворвалась непрошенная либеральная опека, смутившая высшие правительственные сферы и сумевшая выставить русского предпринимателя перед обществом и властью в самом чёрном цвете»103.
«Русская мысль» в ответ заявила, что фабриканты Центрального района «не знают уже и пределов в своих притязаниях на какое-то привилегированное положение в государстве», требуя от правительства всевозможной поддержки, но категорически возражая против какого-либо административного надзора за своими предприятиями. «Агитация против фабричной инспекции возрастает, – отмечалось в журнале. – Органы печати, защищающие интересы фабрикантов, ополчаются против инспекции всеми теми аргументами, какие покойными крепостниками приводились против отмены крепостной зависимости. Отношения, какие существовали между фабрикантами и рабочими до издания прошлогоднего закона, восхваляются совершенно так, как крепостники хвалили патриархальные отношения рабовладения». При этом предприниматели обладали определёнными рычагами воздействия на власть, тогда как на страже интересов рабочих стояла только малочисленная инспекция, состав и функции которой никак не зависели от её подопечных. «А между тем, – писала “Русская мысль”, – фабриканты уже подняли вопль против нового учреждения и требуют ограничения или отмены его прав. Почему же это, когда им самим всё дано: и всякое покровительство, и всякое представительство, официальное и неофициальное, и право подачи прошений скопом, – почему? Да именно потому, что они – сила, единственная общественная сила у нас, которая за последнее время только выиграла в значении»104.
Вышнеградский сочувственно отнёсся к запискам ОДСРПиТ, поскольку был «сильно предубеждён» против инспекции, называя её «больным органом» и «выдумкой Бунге». Новый министр собирался принять решительные меры. «Он говорит, – свидетельствовал академик В. П. Безобразов, – что это только сентиментальность, никуда не годная для фабричного дела: первый закон уже нанёс ущерб промышленности, нынешний 1886 г. сделает её просто невозможной. Фабриканты вопиют. Оставить так нельзя». В беседе с московским городским головой Н. А. Алексеевым Вышнеградский резко отзывался о действиях Янжула, который «мутит рабочих, настраивает против хозяев, со всех сторон его бранят – нет, этого больше я не потерплю и постараюсь сократить». Осенью он планировал внести в Государственный совет свои предложения о пересмотре правил 1886 г. и запросил для этого отзыв у Московского биржевого комитета, московских отделений Мануфактурного совета и ОДСРПиТ105. Желая избавиться от неугодного института, министр финансов сначала даже охотно откликнулся на предложение министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого передать инспекцию в ведение МВД106. Вышнеградский прямо сказал Алексееву: «Пусть из инспекторов сделают становых приставов!»107.
Слухи о подобном замысле встревожили либералов. Обнинский считал, что в случае его реализации «фабричная инспекция исчезнет с лица земли русской»108. По мнению «Вестника Европы», подобная перестановка привела бы к подчинению инспекции губернскому начальству и низвела бы её на степень технической полиции. «Неужели учреждение, так много сделавшее в короткое время, будет принесено в жертву своекорыстным жалобам и легкомысленным наветам? – вопрошали в журнале. – Неужели будет зачёркнута одна из лучших страниц законодательной деятельности восьмидесятых годов?»109. Иначе рассуждали в «Русской мысли»: «Действительно, может быть, лучше, чтобы фабричная инспекция была передана в то ведомство, которому принадлежит вообще охранение порядка, а призвание фабричной инспекции состоит именно в надзоре за соблюдением порядка как рабочими, так и фабричными распорядителями, и с финансами ничего общего не имеет». В журнале видели, как предприниматели влияли на политику Министерства финансов, и надеялись, что МВД «точнее разберёт, где кончается соблюдение на фабриках надлежащего порядка и где уже начинается простое живодёрство с корыстной целью»110. С этим соглашались и «Русские ведомости», писавшие, что «по справедливости» инспекция и должна состоять в ведении МВД111.
В августе 1887 г. Вышнеградский посетил Нижегородскую ярмарку, где ему вручили записку от имени «всероссийского купечества». Впоследствии Шарапов признался, что именно он сочинил её по поручению своих московских покровителей112. В этой петиции среди прочего звучали жалобы на «совершенно бесполезные затруднения для русской промышленности», происходившие от инспекции «ввиду несовершенств её организации и по непригодности её персонала». Ссылаясь на «долгое, спокойное и патриархальное прошлое русских производств», фабриканты порицали закон 3 июня 1886 г., отдавший их предприятия на милость некомпетентных лиц, преследующих «непонятные цели» и вносящих «раздор и разлад» в отношения между нанимателями и рабочими. Кроме того, в записке выражалась тревога по поводу возможной передачи инспекции из Министерства финансов, поскольку предприниматели не хотели иметь дело с МВД. Вышнеградский признал «основательность» претензий к инспекции, а также «умеренность и справедливость» пожеланий московского отделения ОДСРПиТ о пересмотре закона, пообещав удовлетворить это ходатайство113.
«Современные известия» объявили, что на ярмарке произошёл «серьёзный и, так сказать, душевный обмен мыслей между торгово-промышленными деятелями и высшим представителем и охранителем их польз, нужд и интересов», который «посвятил свои силы и труды поднятию и развитию экономического благосостояния страны». По словам газеты, визит министра финансов «укрепил несомненную надежду, что отечественные интересы находятся в руках, которые не разожмутся ради заграничной популярности или внутренних влияний, направленных к достижению не общих, а частных целей»114. В том же духе высказалась и петербургская консервативная газета «Гражданин» кн. В. П. Мещерского: «Теперь впервые, после многих лет сошлись русский финансист на Нижегородской ярмарке с русскими торговцами и промышленниками, сошлись – и заговорили о своих делах и нуждах на простом, всякому русскому понятном языке и, по-видимому, разошлись, поняв друг друга»115.
Со своей стороны, либеральная пресса осудила демарш предпринимателей и позицию министра. «Русская мысль» писала, что «вообще едва ли возможна какая-либо редакция закона об отношениях между фабрикантами и рабочими, которая могла бы удовлетворять фабрикантов, исключая разве той редакции, какую имел закон прежний, который единственным правом рабочих признавал право наниматься, а в остальном говорил только об их обязанностях. Таков именно и есть хозяйский идеал»116. В «Неделе» с явным сарказмом повторяли слова записки о «спокойном патриархальном прошлом» отечественной промышленности, заявляя: «Недовольство фабричной инспекцией, которая сразу пролила свет в разные углы застарелого “тёмного царства”, вполне понятно, но, конечно, ему знают цену в тех сферах, где вырабатываются правительственные меры»117. «Новое время», как и ранее, признавало некоторые недостатки и промахи инспекторов. «Но, чтобы прошлое русских производств до учреждения инспекции было не только “патриархальное”, но и “спокойное”, – это сущая напраслина, – считали в газете. – Кто же не помнит тех многочисленных случаев беспокойств и очень крупных, которые и были ближайшей причиной учреждения фабричной инспекции в видах установления нормальных и более обеспечивающих мир отношений между нанимателями и рабочими?»118.
Тем временем Вышнеградский учёл просьбу предпринимателей и отказался от своего намерения уступить инспекцию МВД, признав его «несвоевременным и неудобным»119. В ноябре 1887 г. по соглашению министров финансов и внутренних дел состоялось учреждение новой комиссии во главе с Плеве для пересмотра правил 3 июня 1886 г.120 Однако её работа затянулась на долгие годы, и в итоге закон, утверждённый 8 июня 1893 г., внёс лишь незначительные изменения в действовавшие правовые нормы121. И всё же Вышнеградскому удалось частично выполнить свои обещания. Из состава инспекции были удалены лица, вызывавшие наибольшее раздражение, включая Янжула. Кроме того, 2 января 1890 г. Вышнеградский и новый министр внутренних дел И. Н. Дурново внесли в Государственный совет представление о кодификации и сведении законов 1 июня 1882 г. и 3 июня 1885 г. в один акт, сделав в проекте многочисленные уступки фабрикантам122. На заседаниях 24 февраля и 9 апреля 1890 г. Государственный совет не принял некоторые предложения министров и внёс свои коррективы. Тем не менее в новой редакции закона, подписанного императором 24 апреля, прежние требования смягчались: министр финансов получал право по соглашению с министром внутренних дел разрешать при необходимости на предприятиях труд детей старше 10 лет и ночную работу в стекольном производстве, инспекция могла допускать малолетних к работе в воскресные и праздничные дни, а губернатор или фабричное присутствие – ночные смены женщин и подростков 15–17 лет123.
В печати по-разному оценивали этот закон. «Северный вестник» назвал его «значительным шагом вперёд» и «существенным улучшением нашего фабричного законодательства», чему «нельзя не порадоваться». Правда, при этом выражалась надежда на то, что разрешения на допущение подростков и женщин к ночным работам будут выдаваться «лишь с крайней осмотрительностью»124. «Вестник Европы» признал целесообразность поправок, внесённых Государственным советом в первоначальный проект, которые позволили избежать коренной ревизии правовых норм 1882–1885 гг. Однако в журнале осудили продление до девяти часов рабочего дня малолетних, а также наделение губернских присутствий правом разрешать ночные смены125. В «Русской мысли» указывали на то, что новый закон не завершил регламентацию труда подростков и женщин, но осложнил её «допущением целого ряда изъятий из тех общих постановлений, которым ныне придаётся значение постоянных»126.
Дискуссия в столичной печати выявила различные подходы к решению назревшей социальной проблемы. Либеральные издания приводили многочисленные неприглядные факты фабричной жизни и призывали к законодательной регламентации всех её сторон, полагая, что только таким способом можно защитить рабочих от произвола хозяев. Несмотря на все недостатки актов 1882–1886 гг., они рассматривались как первый этап в создании полноценного кодекса охраны труда. Вместе с тем, ориентируясь на опыт западных стран, либералы возражали против жёсткого административного диктата на предприятиях, выступали за привлечение земской общественности к содействию фабричной инспекции, за расширение прав рабочих вплоть до разрешения стачек с экономическими требованиями и создания профсоюзных организаций. Но подобные меры, воспринимавшиеся высшей бюрократией как недопустимые «вольности», в царствование Александра III не имели шанса на реализацию.
Консервативная пресса уделяла фабричному законодательству гораздо меньше внимания. «Московские ведомости» и «Русь» заинтересовались им только после Иваново-Вознесенской и Морозовской стачек. Причём Катков в данном случае солидаризовался с либералами, требовавшими усиления регулирующей роли государства на предприятиях. Правда, в отличие от них, он возражал против каких-либо «послаблений» рабочим, настаивая на недопустимости их самоорганизации и любых форм забастовочной борьбы. Его идеи легли в 1880-е гг. в основу концепции «попечительства» – жёсткой административной опеки над фабричным населением. «Русское дело» и «Современные известия» включились в полемику лишь после издания правил 3 июня 1886 г., положивших конец всевластию фабрикантов и существенно расширивших полномочия инспекции. Отстаивая интересы московских промышленников, Шарапов и Гиляров-Платонов критиковали законы 1882–1886 гг., ущемлявшие, по их мнению, интересы хозяев, нарушавшие принцип «свободы труда» и не соответствовавшие тем отношениям, которые якобы издавна сложились между рабочими и нанимателями. Требования фабрикантов и кампания в печати оказали влияние на политику Вышнеградского и руководства МВД, которые пошли на ряд уступок предпринимателям. Совершенствование фабричного законодательства надолго затормозилось и возобновилось лишь во второй половине 1890-х гг.
1 Puttkamer Jo., von. Fabrikgesetzgebung in Russland vor 1905. Regierung und Unternehmerschaft beim Ausgleich ihrer Interessen in einer vorkonstitutionellen Ordnung. Köln; Weimar; Wien, 1996. S. 13, 437.
2 Россия в революционной ситуации на рубеже 1870–1880-х годов. М., 1983. С. 149–159; 197–218; Куприянова Л. В. «Рабочий вопрос» в России во второй половине XIX – начале XX в. // История предпринимательства в России. Кн. 2. М., 1999. С. 358–362.
3 Туган-Барановский М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М., 1997. С. 391, 392; Шелымагин И. И. Фабрично-трудовое законодательство в России (2-я половина XIX века). М., 1947. С. 62, 63.
4 Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1880. № 4. Отд. 2. С. 25, 26; № 8. Отд. 2. С. 33, 34; № 11. Отд. 2. С. 40; 1881. № 4. Отд. 2. С. 24–26; № 5. Отд. 2. С. 73, 74; № 8. Отд. 2. С. 41–44.
5 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1878. № 12. С. 833; Абрамов П. Образование и обеспечение быта рабочих в России // Там же. 1879. № 1. С. 321, 326, 327; Письма из Германии // Там же. 1881. № 10. С. 858.
6 Янжул И. И. Детский и женский фабричный труд в Англии и России // Отечественные записки. 1880. № 2. Отд. 1. С. 427–459; № 3. Отд. 1. С. 97–126; № 4. Отд. 1. С. 427–459.
7 Новые книги // Дело. 1880. № 10. Отд. 2. С. 111–117; Шашков С. С. Русский рабочий // Там же. 1881. № 5. Отд. 1. С. 179–209; № 6. Отд. 1. С. 217–241; Ленский Б. Фабрика и школа // Там же. 1882. № 5. Отд. 2. С. 36–57.
8 Новые книги // Дело. 1880. № 10. Отд. 2. С. 112.
9 Русский курьер. 1880. 22 октября. № 288.
10 Внутреннее обозрение // Земство. 1881. 14 января. № 7. С. 22.
11 Эрисман Ф.Ф. К вопросу о санитарно-фабричном законодательстве // Земство. 1881. 9 декабря. № 54. С. 8, 9.
12 Степанов В. Л. Рабочий вопрос в социально-экономических воззрениях Н. Х. Бунге // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1987. № 3. С. 18–22.
13 Янжул И. И. Из воспоминаний и переписки фабричного инспектора первого призыва. СПб., 1907. С. 193.
14 РГИА, ф. 1149, оп. 9, 1882 г., д. 58, л. 57 об.–59 об.
15 Абрамов Я. В. Из фабрично-заводского мира // Отечественные записки. 1882. № 3. Отд. 2. С. 2.
16 Ленский Б. Указ. соч. С. 56, 57.
17 РГИА, ф. 1149, оп. 9, 1882 г., д. 58, л. 82–85.
18 Там же, л. 117–126 об., 137–146 об.
19 ПСЗ-III. Т. 2. СПб., 1886. № 931.
20 РГИА, ф. 1149, оп. 10, 1883 г., д. 29, л. 2–4 об.
21 Там же, л. 8–8 об., 12–14; ПСЗ-III. Т. 3. СПб., 1886. № 1509.
22 РГИА, ф. 1149, оп. 10, 1884 г., д. 57. л. 27–28.
23 Там же, л. 311–326 об., 330–334 об.; ПСЗ-III. Т. 4. СПб., 1887. № 2316.
24 Володин А. Ю. История фабричной инспекции в России. 1882–1914 гг. М., 2009. С. 40–49.
25 Микулин А. А. Фабричная инспекция в России. 1882–1906. Киев, 1906. С. 33.
26 Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1882. № 5. Отд. 2. С. 96, 97.
27 Внутреннее обозрение // Русское богатство. 1882. № 8. С. 96.
28 Там же. 1883. № 10. С. 204.
29 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1882. № 8. С. 722; Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1882. № 5. Отд. 2. С. 96, 97.
30 Каблуков Н. А. Экономическая хроника // Юридический вестник. 1883. № 5. С. 71–72; № 9. С. 157.
31 Неделя. 1882. 4 июля. № 27; 1884. 22 июля. № 30.
32 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1882. № 8. С. 723, 724; Из общественной хроники // Там же. 1884. № 7. С. 448; Внутреннее обозрение // Там же. № 11. С. 375, 376.
33 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1882. № 8. С. 725; Внутреннее обозрение // Там же. 1884. № 11. С. 371–373. См. также: Неделя. 1882. 4 июля. № 27; Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1884. № 4. Отд. 2. С. 97–99; Русские ведомости. 1882. 4 июня. № 150; 4 июля. № 180; Внутреннее обозрение // Русское богатство. 1882. № 8. С. 94.
34 Русский курьер. 1882. 4 июля. № 181.
35 Каблуков Н. А. Указ. соч. № 5. С. 92.
36 Неделя. 1882. 4 июля. № 27.
37 Русские ведомости. 1882. 4 июня. № 150.
38 Внутреннее обозрение // Русское богатство. 1883. № 10. С. 203.
39 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1884. № 11. С. 377.
40 Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1882. № 5. Отд. 2. С. 97; Внутреннее обозрение // Там же. 1884. № 4. Отд. 2. С. 97.
41 Неделя. 1882. 4 июля. № 27; Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1882. № 8. С. 726; Русские ведомости. 1882. 4 июня. № 150; 4 июля. № 180; Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1884. № 4. Отд. 2. С. 97.
42 Каблуков Н. А. Указ. соч. № 9. С. 158.
43 Неделя. 1885. 13 января. № 2; 20 января. № 3.
44 Русские ведомости. 1885. 10 января. № 9.
45 Русский курьер. 1885. 11 января. № 10.
46 Из общественной хроники // Вестник Европы. 1885. № 2. С. 897.
47 Москва, 15 февраля // Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1884 год. М., 1898. С. 89–91; Москва, 29 мая. Б. // Там же. С. 287–289. Об отношении Каткова к рабочему вопросу подробнее см.: Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия (М. Н. Катков и его издания). М., 1978. С. 91–102.
48 Москва, 15 февраля // Катков М.Н. Собрание передовых статей… 1883 год. М., 1898. С. 84–87.
49 Москва, 18 января // Катков М.Н. Собрание передовых статей… 1883 год. М., 1898. С. 45–46.
50 Из общественной хроники // Вестник Европы. 1885. № 2. С. 897; Русские ведомости. 1885. 3 марта. № 60.
51 Русь. 1885. 12 января. № 2.
52 Там же. 19 января. № 3.
53 РГИА, ф. 1152, оп. 10, 1885 г., д. 286, л. 23–32 об.
54 Русские ведомости. 1885. 9 апреля. № 95.
55 РГИА, ф. 1152, оп. 10, 1885 г., д. 286, л. 2–22, 33–35; ПСЗ-III. Т. 5. СПб., 1887. № 3013.
56 Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1885. № 10. Отд. 2. С. 96–98.
57 Москва, 12 февраля // Катков М.Н. Собрание передовых статей… 1885 год. С. 81–83; Москва, 22 февраля. Б. // Там же. С. 103–105; Москва, 19 апреля // Там же. С. 187–188; Москва, 4 июня // Там же. С. 266–268; Москва, 25 июня. А. // Там же. С. 301–303; Москва, 18 июля // Там же. С. 347–349.
58 Морокин А.Ф. О ночных работах на фабриках и заводах // Русь. 1885. 23 ноября. № 21.
59 Экономическое обозрение // Экономический журнал. 1885. № 7. С. 19, 20.
60 Там же. № 11. С. 30.
61 РГИА, ф. 1152, оп. 10, 1886 г., д. 211, л. 55–59 об.
62 Там же, л. 2–15 об., 98–111, 117–126; ПСЗ-III. Т. 6. СПб., 1888. № 3769.
63 Обнинский П. Н. Новый закон об организации фабричного надзора в Москве // Юридический вестник. 1887. № 1. С. 115–117.
64 Там же. 1886. № 12. С. 739.
65 Экономическое обозрение // Экономический журнал. 1886. № 14. С. 12.
66 Русский курьер. 1886. 23 июня. № 170; 25 июля. № 202.
67 Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1886. № 8. Отд. 2. С. 201.
68 Внутреннее обозрение // Дело. 1886. № 3–4. Отд. 2. С. 113–114.
69 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1886. № 10. С. 807.
70 Там же. С. 797–801; Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1886. № 8. Отд. 2. С. 202–207; Внутреннее обозрение // Русское богатство. 1886. № 9. С. 176–179.
71 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1886. № 10. С. 802, 803; Внутреннее обозрение // Там же. 1887. № 1. С. 368; Внутреннее обозрение // Там же. № 3. С. 362.
72 Неделя. 1886. 8 июня. № 23.
73 Обнинский П. Н. Указ. соч. 1886. № 11. С. 591; № 12. С. 734.
74 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1886. № 10. С. 805, 806; Внутреннее обозрение // Там же. 1887. № 1. С. 367; Внутреннее обозрение // Дело. 1886. № 3–4. Отд. 2. С. 113; Русские ведомости. 1886. 26 июля. № 202; Мануйлов А. А. Очерк нашего фабричного быта (на основании отчётов фабричных инспекторов за 1885 год) // Юридический вестник. 1887. № 3. С. 546–554; Обнинский П. Н. Указ. соч. 1886. № 12. С. 740; Экономическое обозрение // Экономический журнал. 1886. № 14. С. 14, 15; Финансовое обозрение // Там же. 1887. № 11–12. С. 142.
75 Обнинский П. Н. Указ. соч. 1886. № 12. С. 741.
76 Москва, 22 февраля. Б. // Катков М.Н. Собрание передовых статей… 1885 год. С. 103–105; Москва, 19 апреля // Там же. С. 187–188.
77 Москва, 6 марта. Б. // Катков М.Н. Собрание передовых статей… 1887 год. М., 1898. С. 122–124.
78 Новое время. 1886. 27 сентября. № 3800.
79 Туган-Барановский М. И. Указ соч. С. 401, 402.
80 Русское дело. 1890. 11 марта. № 8.
81 Там же. 1886. 1 ноября. № 28–29.
82 Там же. 23 ноября. № 31; 1887. 12 апреля. № 2.
83 Новое время. 1886. 7 июня. № 3688.
84 Современные известия. 1886. 4 ноября. № 304.
85 Там же. 9 ноября. № 309.
86 Там же. 17 ноября. № 317.
87 Янжул И. И. Из воспоминаний и переписки… С. 87–89.
88 Русский курьер. 1885. 15 сентября. № 254.
89 Там же. 1886. 5 ноября. № 305.
90 Фабричная инспекция в России // Экономический журнал. 1887. № 4. С. 36, 37, 46.
91 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1887. № 1. С. 366, 367, 369; № 3. С. 369.
92 Обнинский П. Н. Указ. соч. 1887. № 1. С. 117, 118; № 2. С. 336; № 4. С. 702–705, 710, 714, 715.
93 Русские ведомости. 1886. 9 ноября. № 308; 18 ноября. № 317.
94 Новое время. 1886. 15 ноября. № 3849.
95 Там же. 22 ноября. № 3856.
96 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1887. № 3. С. 362.
97 Внутреннее обозрение // Русское богатство. 1887. № 1. С. 215.
98 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1887. № 1/2. С. 828.
99 Внутреннее обозрение // Дело. 1887. № 1. Отд. 2. С. 14.
100 Русское дело. 1887. 3 апреля. № 1.
101 Экономические заметки: к вопросу о фабричной инспекции // Русское обозрение. 1893. № 4. С. 1087–1113.
102 Русское дело. 1887. 12 апреля. № 2.
103 Там же. 18 апреля. № 3.
104 Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1887. № 6. Отд. 2. С. 147.
105 Янжул И. И. Из воспоминаний и переписки… С. 176; Дневник академика В. П. Безобразова // Русская старина. 1913. № 5. С. 273, 276.
106 Балабанов М. С. Борьба фабрикантов против охраны труда // Архив истории труда в России. Т. 11/12. Пг., 1924. С. 119–122.
107 Янжул И. И. Из воспоминаний и переписки… С. 176.
108 Обнинский П. Н. Указ. соч. 1887. № 4. С. 705.
109 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1887. № 5. С. 363, 364.
110 Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1887. № 6. Отд. 2. С. 149–151.
111 Русские ведомости. 1887. 18 августа. № 226.
112 Русское дело. 1890. 11 марта. № 8.
113 Злоба торгового дня: докладная записка торгующего на Нижегородской ярмарке купечества господину управляющему Министерства финансов и ответ на неё. М., 1887. С. 9, 10, 14, 15.
114 Современные известия. 1887. 19 августа. № 227.
115 Гражданин. 1887. 20 августа. № 67.
116 Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1887. № 9. Отд. 2. С. 186–187.
117 Неделя. 1887. 23 августа. № 34.
118 Новое время. 1887. 19 августа. № 4120.
119 Балабанов М. С. Указ. соч. С. 123, 124.
120 Там же. С. 127–130.
121 ПСЗ-III. Т. 13. СПб., 1897. № 9767.
122 РГИА, ф. 1149, оп. 11, 1890 г., д. 7, л. 2–49 об.
123 Там же, л. 65–70 об., 72–81, 92; ПСЗ-III. Т. 10. Отд. 1. СПб., 1892. № 6742.
124 События и новости // Северный вестник. 1890. № 6. Отд. 2. С. 81–83.
125 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1890. № 5. С. 365–368.
126 Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1890. № 5. Отд. 2. С. 173.
Об авторах
Валерий Леонидович Степанов
Институт экономики РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Володин А.Ю. История фабричной инспекции в России. 1882–1914 гг. М., 2009.
- Куприянова Л.В. «Рабочий вопрос» в России во второй половине XIX – начале XX в. // История предпринимательства в России. Кн. 2. М., 1999. С. 343–437.
- Шелымагин И.И. Фабрично-трудовое законодательство в России (2-я половина XIX века). М., 1947.
- Россия в революционной ситуации на рубеже 1870–1880-х годов. М., 1983.
- Степанов В.Л. Рабочий вопрос в социально-экономических воззрениях Н.Х. Бунге // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1987. № 3. С. 17–26.
- Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия (М.Н. Катков и его издания). М., 1978.
- Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М., 1997.
- Шелымагин И.И. Фабрично-трудовое законодательство в России (2-я половина XIX века). М., 1947.
- Puttkamer Jo., von. Fabrikgesetzgebung in Russland vor 1905. Regierung und Unternehmerschaft beim Ausgleich ihrer Interessen in einer vorkonstitutionellen Ordnung. Köln; Weimar; Wien, 1996.
Дополнительные файлы