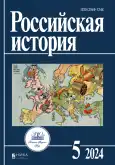The People’s Commissariat of Justice and the development of Soviet legislation: from the revolutionary struggle to legality
- Authors: Fedoseenkov N.N.1
-
Affiliations:
- «Nauka» Publishers
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 119-126
- Section: Institutions and communities
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274791
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050078
- EDN: https://elibrary.ru/SKVZJK
- ID: 274791
Cite item
Full Text
Abstract
The role of the People's Commissariat of Justice (NKYu) of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) in the development of early Soviet legislation has drawn the attention of researchers previously but remains underexplored. Therefore, it is crucial to analyze codification work led by NKYu as part of the 1922 reform and afterwards, study the specific features of those efforts, clarify the positions of legal scholars who drafted the first Soviet codes, examine the challenges they encountered, as well as the different perspectives on the new legislation at the time.
Full Text
Роль Наркомата юстиции (НКЮ) РСФСР в контексте работы над ранним советским законодательством уже попадала в поле зрения исследователей1, но до сих пор остаётся малоизученной. В связи с этим представляется важным проследить ход кодификационной работы, которая проводилась под руководством ведомства при проведении реформы 1922 г. и в последующие годы, показать её особенности, уточнить позиции правоведов, работавших над первыми советскими кодексами, выяснить, с какими проблемами они столкнулись, какие существовали в то время точки зрения на новое законодательство.
НКЮ оказался в числе 13 основных органов управления нового государства, созданных при формировании Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР в ноябре 1917 г. Его первым руководителем стал Г. И. Оппоков (А. Ломов), окончивший экстерном юридический факультет Московского университета, но не имевший опыта работы по специальности. Однако он не успел вступить в должность, так как был командирован в Москву для установления там советской власти. 16(29) ноября временным заместителем наркома по делам юстиции назначили П. И. Стучку – видного и плодовитого теоретика и практика, возглавлявшего следственно-юридический отдел Петроградского военно-революционного комитета и юридический отдел ВЦИК. Подавляющее большинство сотрудников прежнего Министерства юстиции участвовало в забастовке государственных служащих, однако это его не смутило. Стучка считал, что «судебное ведомство сразу освободится от массы неспособных карьеристов наверху, а в низах произойдёт то естественное обновление, которое необходимо для будущей великой демократии»2.
Исходя из этого он приступил к ускоренной комплектации наркомата кадрами, стремясь привлечь лояльных новой власти чиновников. Разработанный им план «Об отмене прежнего деления Комиссариата юстиции на департаменты» предполагал создание шести отделов: личного состава и судоустройства, законодательных предположений и кодификации, публикации законов, административно-хозяйственного, тюремного и секретариата. Однако 12 декабря вакантный пост наркома занял представитель партии левых эсеров И. З. Штейнберг. При нём появилась коллегия, в которую вошли три большевика (Стучка, М. Ю. Козловский, П. А. Красиков) и левые эсеры А. А. Шрейдер и В. А. Алгасов. Изменилась и структура ведомства: добавился седьмой и, как казалось, ключевой отдел кодификации, который возглавил Шрейдер.
С этого времени в НКЮ начался период острой идейной борьбы. Однако разработка нового законодательства шла в одном направлении. Так, под руководством Шрейдера был составлен «План Свода законов русской революции»3, появилось также «Советское уголовное уложение». С одной стороны, левые эсеры воспринимали революционный свод как новое издание «Свода законов Российской империи», который следовало лишь привести в соответствие с «республиканским строем»4. Некоторые современные исследователи считают левоэсеровский проект компромиссным в условиях перехода от старого законодательства к новому5. С другой – Шрейдер оговаривал необходимость развития «революционного самосознания»6 и не избегал «левой» политической риторики, причём не только в целях компромисса с более радикальными большевиками. В этой связи неудивительно, что и Свод, и Уложение исходили из приоритета коллективных, общественных интересов над потребностями отдельной личности (заложив в этом смысле основы будущего советского законодательства)7. Кроме того, в нормах Уложения вместо термина «подданный» фигурировал «гражданин», что соответствовало декрету «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», согласно которому все звания и наименования гражданских чинов ликвидировались и вводилось общее наименование «гражданин Российской Республики»8.
Тем не менее проекты Свода и Уложения не опубликовали и в итоге отклонили. Предполагают, что это произошло из-за «ярко выраженного антагонизма между Штейнбергом и Лениным»9, но здесь скорее можно говорить о позиции большевистской партии в целом (к примеру, резко отрицательно оценили Уложение Стучка10 и Д. И. Курский). С января 1918 г. влияние большевиков в НКЮ начало усиливаться, а в марте, после выхода левых эсеров из состава правительства, ведомство возглавил Стучка – их самый активный оппонент. В его коллегию также вошли юрист Н. В. Крыленко, занимавшийся в первые послереволюционные месяцы армейскими делами, и Курский, ранее руководивший наркоматом по юридическим делам Московской губ.11
В августе Стучку сменил Курский, который демонстрировал меньше радикализма, уверенно утверждая, что комиссариату необходимы сотрудники с юридическим образованием12. Это означало ставку на старых специалистов, особенно в вопросах законотворчества. К концу года коммунисты составляли лишь около 20% служащих учреждения, прочие с июля, после удаления из его состава ещё остававшихся левых эсеров, числились беспартийными. Начался переход от неосуществимых проектов к непосредственной работе под руководством СНК и партии.
Творческая деятельность в обновлённом наркомате сконцентрировалась в отделении государственного права, которое возглавлял М. А. Рейснер – юрист с преподавательским и научным опытом. В условиях нехватки законов, которые отвечали бы сложившейся политической ситуации, НКЮ на несколько лет превратился в орган, который консультировал, уточнял формулировки, давал оценку решениям народных судов и трибуналов, одновременно подступая к более глобальной задаче – выработке законодательства.
Для этого следовало организовать деятельность аппарата. 22 марта 1918 г. коллегия после бурного обсуждения приняла постановление «О более точном распределении работ между отделами Комиссариата». Структура учреждения обновлялась, теперь в него входили отделы судоустройства и личного состава, законодательных предположений и кодификации, публикации законов, административно-хозяйственный и тюремный, а также секретариат. Отделом гражданского права руководил Стучка, государственного права – Рейснер. 13 мая коллегия приняла решение о создании новых отделов – следственного и ликвидационного. Последний проводил в жизнь политически важный для того времени декрет «Об отделении церкви от государства». Стратегией деятельности НКЮ занимались в отделе судоустройства и личного состава. Его возглавил сам Курский, взявший на себя ответственность за разработку законодательства в области судоустройства и судопроизводства и его увязку с позицией партии. Так, утверждение 30 ноября положения «О народном суде РСФСР»13 привело к торжеству концепции большевиков, выступавших за «единый народный суд», запретив использовать в судопроизводстве дореволюционные законы. Поскольку наркомату приходилось отдавать приоритет текущей работе, большую роль в его структуре играл секретариат, который, отвечая на многочисленные запросы, занимался толкованием декретов. Такая структура в основном сохранялась до реформы 1922 г.
Отметим, что представители НКЮ играли активную роль в разработке декретов, принимали деятельное участие во всевозможных комиссиях, имевших отношение к законодательству, работали над двумя первыми советскими кодексами – законов об актах гражданского состояния и законов о труде. Данные законодательные акты не только заложили основы нового семейного и трудового права, но и доказали профессионализм сотрудников наркомата, способность ведомства объединять для необходимой работы старые и новые кадры независимо от их политических убеждений. Исследователи видят в этом немалую заслугу Курского14.
В 1919 г. Совнарком и НКЮ, несмотря на заявления о приоритете местного самоуправления, активно повели политику централизации. Курский подчёркивал, что «отступления от норм законности и чрезвычайные органы носят временный характер на период борьбы с контрреволюцией»15. Как попытку осуществлять связь с чрезвычайными органами и давать оценку их работе можно воспринимать создание Особой межведомственной комиссии при ВЧК во главе с Крыленко, который занимался революционными трибуналами и организовал Центральную коллегию обвинителей при Революционном трибунале ВЦИК, считающуюся предшественницей прокуратуры. Ответственные сотрудники НКЮ, помимо основной служебной нагрузки, выполняли поручения ЦК РКП(б), Совета обороны и Реввоенсовета. Ведомство и его глава нередко работали под прямым руководством Ленина. Известно письмо последнего Курскому: «Необходимо тотчас, с демонстративной быстротой, внести законопроект, что наказания за взятку (лихоимство, подкуп, сводка для взятки) должны быть не ниже десяти лет тюрьмы и, сверх того, десяти лет принудительных работ»16. Но в Совнаркоме наркомат занимал достаточно скромное положение, и личных контактов наркома с председателем правительства было сравнительно немного. В годы Гражданской войны торжествовал принцип «революционной целесообразности», НКЮ не имел возможности, да и не стремился что-либо ему противопоставить.
Исследовательская деятельность НКЮ в это время приостановилась, в середине 1919 г. даже перестал выходить журнал «Пролетарская революция и право». Исключением стала работа группы А. Г. Гойхбарга, предпринявшей попытку систематизации уголовного законодательства. Она разработала «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР», среди прочего обобщившие практику трибуналов и народных судов. Её руководитель до революции поддерживал социал-демократическое движение, возглавляя отдел кодификации и законодательных предположений НКЮ, некоторое время оставался беспартийным, но заработал репутацию инициативного юриста, лояльного большевикам. В начале 1919 г. он вступил в РКП(б) и сыграл существенную роль в создании законодательства, привлекая к этой работе лучших специалистов. В то же время он считал, что право как таковое постепенно отомрёт, и фактически выступал за торжество правового нигилизма17.
В 1920 г. вышло постановление «Об отделах Народного комиссариата юстиции». Их число увеличилось до 11, и первым значился отдел судоустройства, который возглавил Курский. Сотрудники этого отдела занимались организацией народных судов, революционных трибуналов, органов следствия, обвинения и защиты и наблюдали за их деятельностью18. Важнейшую роль для судей в то время играл обще-консультационный отдел, дававший заключения по правовым вопросам. Он контролировал деятельность юрисконсультов, по существу выполняя их функции в отсутствие стабильного законодательства и сложившейся судебной традиции.
Кроме того, в 1920 г. состоялся III съезд деятелей советской юстиции (ранее он назывался съездом «областных и губернских комиссаров юстиции»). НКЮ намеревался привлечь к работе широкие круги общественности, началась разработка положения «О народном суде РСФСР». Создание таких судов связывали с революционным творчеством масс19. Они действительно появились во времена безвластия как стихийная попытка сохранить правопорядок. Ленин подчёркивал, что это прежде всего «органы привлечения именно бедноты поголовно к государственному управлению», «орган власти пролетариата и беднейшего крестьянства», наконец, «орудие воспитания к дисциплине»20.
Система народных судов, созданная к лету 1918 г., состояла из двух уровней: «мировой» юстиции (местных судов и уездных съездов местных судей) и «общей» юстиции (окружных судов и кассационного суда в столице). Суды появлялись под сильным влиянием левых эсеров, практиковались демократические выборы судей и даже выборы их уездными, городскими, районными или волостными советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Важную роль в разъяснении правоприменительной практики имели уездные советы (съезды) местных судей – там практики занимались толкованием самых разных вопросов21. В систему судов «общей» юстиции входили окружные суды, охватывавшие по несколько уездов. Члены таких судов избирались местными советами. Они составляли судебный округ (ещё в соответствии с прежним законодательством) и действовали коллегиально: в решении гражданских дел участвовали трое судей и четверо заседателей, уголовных – судья и 12 заседателей.
Считалось, что окружные суды менее близки к революционным реалиям и в условиях национализации земли и промышленных предприятий и ограничения частной собственности неизбежно должны отмереть, поскольку дело шло к сокращению количества подсудных им «крупных» исков. Кроме того, НКЮ стремился унифицировать систему судов и сделать её более управляемой. Риски, связанные с уничтожением окружных судов, осознавались: Курский утверждал, что и в системе народных судов возможно увеличение количества заседателей до 1222. Скорее всего, вытеснение окружных судов объяснялось тем, что они занимались делами, превышавшими компетенцию судов местных, неизбежно вступая в конкуренцию с ревтрибуналами.
21 октября 1920 г. Президиум ВЦИК утвердил окончательный вариант Положения, в котором указывалось, что «при решении дел народный суд применяет декреты рабоче-крестьянского правительства, а в случае отсутствия соответствующего декрета или неполноты такового руководствуется социалистическим правосознанием»23. Это был новый термин, менее радикальный, чем «революционное правосознание».
Законотворческая деятельность оживилась в конце зимы 1921 г., после прекращения крупных боевых действий. Статьи о законности стали появляться в массовой прессе. Тогда же открылся Институт советского права, задача которого заключалась в «осознании сложной системы Советского права»24. Летом на страницах газеты «Известия ВЦИК» разгорелась дискуссия о проблемах советской юстиции, в которой приняли участие представители местных судебных органов и НКЮ25. Она шла и в прессе, и на заседаниях коллегии наркомата, и постепенно трансформировалась в не менее активную дискуссию о новых кодексах, которые принимались в 1922 г.
Тем временем ведомству приходилось конкурировать с другими органами. Подчас возникали конфликтные ситуации, о чём свидетельствует докладная записка временно исполнявшего должность заведующего отделом судоустройства А. А. Лисицына. Он указал на слабость органов юстиции и отсутствие централизации, что не позволяло полноценно выполнять профессиональные задачи. Кроме того, «власть имущие» ведомства (наркоматы финансов и продовольствия, Рабоче-крестьянская инспекция) не оказывали НКЮ должной поддержки, создавалось впечатление, что в восприятии многих государственных деятелей «юстиция – маленькое дело»26. Это не устраивало сотрудников наркомата и часть профессионального сообщества.
В такой ситуации осуществлялась реформа 1922 г., в организации которой, в особенности в подготовке кодексов, НКЮ сыграл значительную роль. Параллельно, в соответствии с установками IX съезда Советов, принявшего резолюцию об укреплении «революционной законности»27, происходило расширение кадрового состава ведомства. Декрет 1 февраля 1923 г. утвердил «Положение о Народном комиссариате юстиции». На него возлагалось общее руководство всеми судебными учреждениями, включая прокуратуру и органы следствия, а его глава становился одновременно прокурором республики28. Роль НКЮ в складывавшейся системе власти упрочилась.
Сам наркомат отныне состоял из коллегии, в которой председательствовал нарком, и шести отделов: судоустройства и надзора; административно-финансового; законодательных предложений и кодификаций; прокуратуры; культов и издательского. Кадровый состав ведомства условно можно поделить на три части: «старые партийцы», «спецы» и «выдвиженцы». В основных отделах трудились беспартийные, лишь меньшинство из них выражали симпатии к большевикам29. Привлечение к работе квалифицированных профессиональных юристов (в том числе бывших сотрудников Министерства юстиции) позволило организовать передачу опыта от них к молодым специалистам, как правило, не имевшим образования, но проявившим организационные способности и хорошо понимавшим политические установки.
С годами ситуация менялась: НКЮ неизбежно встраивался в вертикаль власти, которой руководили партийные органы, его деятельность политизировалась. В этом процессе заметную роль сыграл Крыленко, с декабря 1922 по 1929 г. заместитель наркома юстиции РСФСР, а также старший помощник прокурора РСФСР; он вёл активную работу в качестве государственного обвинителя, теоретика и публициста. Будучи старым большевиком, Крыленко занимал в партии более высокое положение, чем коллеги по наркомату. Он соединял принцип «революционной законности» с актуальными политическими задачами, направленными на торжество классовых принципов: «Революционная законность есть тот метод единообразного проведения указанных партией директив, который партия требует обязательно проводить от всех своих организаций по всей периферии сверху донизу»30.
Штабом проведения преобразований в НКЮ (в том числе связанных с переходом к нэпу и его регулированием) и после 1922 г. оставался отдел законодательных предположений и кодификации. Он занимал в системе ведомства достаточно независимое положение. Во время работы над важными законами по его инициативе собирались межведомственные комиссии, в которые входили ответственные работники ВСНХ, наркоматов, Госбанка, деятели науки. Именно в этот отдел поступали законопроекты всех ведомств, подлежавшие внесению на обсуждение правительства, и принимались они к рассмотрению только после одобрения этой инстанцией. Даже нарком не всегда мог напрямую руководить отделом, приходилось искать компромисс с его сотрудниками.
В связи с задачами индустриализации и коллективизации объём компетенций НКЮ расширился. Согласно Положению о НКЮ, утверждённому постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 3 июня 1929 г.,31 главной функцией наркомата стало проведение единой судебной политики на территории РСФСР. Кроме того, ему поручались «общее руководство деятельностью органов юстиции, а также разработка мероприятий по упрощению и улучшению их организации», «руководство деятельностью и наблюдение за ней всех органов расследования в области борьбы с преступностью», совместная работа с НКВД СССР. НКЮ даже пришлось уделять немало внимания контролю над хлебозаготовками. Так, новый глава ведомства Н. М. Янсон 25 октября 1929 г. подписал циркуляр, в котором говорилось: «Категорически предлагается: 1) не позднее 10 ноября представить в прокуратуру Республики исчерпывающие доклады о ходе хлебозаготовительной кампании и об участии в ней органов прокуратуры; 2) в дальнейшем на 20 и 5 числа каждого месяца представлять доклады о дальнейшем разворачивании хлебозаготовок; 3) ответственность за своевременную и полную информацию возлагается на край-, облпрокуроров»32. Подобных материалов было немало: НКЮ принял активное участие в переходе от нэпа к новым формам экономической жизни.
В то же время в Положении говорилось о подчинении учреждения ВЦИК, его Президиуму и СНК РСФСР. Подразумевалось и подчинение партийным органам. Таким образом НКЮ лишился инициативы в разработке стратегии развития юридических органов и правовой системы, в нём формировался коллектив профессионалов, способных стать квалифицированными исполнителями. В принятии стратегических решений представители НКЮ участвовали лишь эпизодически, на уровне личных инициатив Курского, Крыленко, Янсона и др.
В новом Положении устанавливалось руководство ведомства – нарком и два его заместителя: прокурор Республики и председатель Верховного суда. Таким образом, помимо коллегии, появилась «большая тройка», у каждого из членов которой имелся собственный небольшой аппарат. В конце 1920-х гг. в связи с расширением функций Прокуратуры и Верховного суда зашла речь об упразднении НКЮ. 27 февраля 1930 г. на рассмотрение 28-го пленума Верховного суда СССР был внесён проект резолюции по «Основам судоустройства СССР и союзных республик», в котором говорилось, что, поскольку функции НКЮ частично распределены между Верховным судом и Прокуратурой, а законодательная инициатива может быть передана другим высшим органам, для существования ведомства нет оснований33. Появились предложения об объединении НКЮ и НКВД в единую структуру или передаче задач ключевого для НКЮ отдела законодательных предположений и кодификации во ВЦИК34. Даже Положение 1929 г., включившее Верховный суд в систему НКЮ, не пресекло споров. Однако благодаря ему наркомат как таковой сохранился.
Укрепление органов защиты правопорядка опиралось на поддержку в разных слоях общества; многие в начале 1920-х гг. видели спасение в укреплении логичного, понятного строя, основанного на законах. Писатель И. Г. Эренбург выразил мнение, особенно распространённое в среде интеллигенции: «Самое главное было… убедиться, что происходящее – не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачёвщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей»35. Чтобы революция не превратилась в «пугачёвщину», прежде всего необходимы были законы и работающие на их основе органы защиты правопорядка. Важную роль в запуске этого механизма сыграл Наркомат юстиции. В этом не только политическое, но и социальное его значение.
1 См., например: Садков В. Н. Наркомат юстиции РСФСР и советское законодательство (1917–1922 гг.). Дис. … канд. ист. наук. М., 1996.
2 Стучка П. И. Избранные работы по марксистско-ленинской теории права. Рига, 1964. С. 283.
3 Шрейдер А. А. От Народного комиссариата юстиции // Правда. 1918. № 225. С. 2.
4 Антонова Л. И. Революционная кодификация законодательства (1920–1930-е гг.) // Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. 2008. № 4. С. 137.
5 См.: Трошкина Д. Э. Государственные преступления в проекте Уголовного уложения 1918 года // NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. Т. 48. 2023. № 3. С. 529–539.
6 ГА РФ, ф. 353, оп. 2, д. 164, л. 36.
7 Щелконогова Е. В. Советское уголовное уложение и Уголовный кодекс РФ: сравнительно-правовой анализ // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 128.
8 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917–1918. № 3. Ст. 31.
9 Концевой И.А. «Левый эсер, которого странным ветром занесло в революцию…»: И. З. Штейнберг в советском правительстве // Петербургский исторический журнал. 2021. № 1. С. 120.
10 Стучка П. И. Избранные работы… С. 243.
11 Интересно отметить, что все входившие в состав коллегии ведомства в разное время учились на правоведов.
12 См., например: Курский Д. И. Ближайшие задачи Народного комиссариата юстиции // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 1. С. 3.
13 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918. № 85. Ст. 885.
14 См.: Максимова О. Д. Роль Д. И. Курского в формировании идей советского права и в законотворчестве // Правоведение. 2014. № 4. С. 225–236.
15 Курский Д. И. Избранные речи и статьи. М., 1958. С. 88.
16 Ленин В.И. ПСС. Изд. 5. Т. 50. М., 1970. С. 70.
17 См.: Гойхбарг А. Г. Основы частного имущественного права (очерки). М., 1924. С. 58.
18 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. М., 1943. С. 675.
19 См.: Токарев Ю. С. Роль Советов в судебном строительстве (октябрь 1917 – июнь 1918 гг.) // Проблемы государственного строительства в первые годы Советской власти (Труды ЛОИИ). Вып. 14. Л., 1973. С. 240–247.
20 Ленин В.И. ПСС. Изд. 5. Т. 35. М., 1974. С. 197.
21 Семенко А. В. Становление системы народных судов РСФСР в 1917–1922 гг. // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. № 4. С. 88.
22 Курский Д.И. О едином народном суде // Курский Д. И. Избранные статьи и речи. С. 55.
23 Декрет ВЦИК от 21.10.1920 «Положение о Народном Суде Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» // Собрание узнаконений и распоряжений правительства за 1920 г. М., 1943. С. 599–608.
24 Известия ВЦИК. 1921. 1 июня.
25 Там же. 14 июня.
26 Садков В. Н. Наркомат юстиции РСФСР… С. 149.
27 IX Всероссийский съезд Советов (19–27 января 1924 г.): стенографический отчёт. М., 1921. С. 64.
28 Известия ВЦИК. 1923. 4 февраля.
29 См., например: Садков В. Н. Наркомат юстиции РСФСР… С. 154.
30 XVI съезд ВКП(б): стенографический отчёт. Ч. 1. М.; Л., 1930. С. 353.
31 Собрание узаконений РСФСР. М., 1929. № 41. Ст. 434.
32 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: документы и материалы. Т. 1. Май 1927 – ноябрь 1929. М., 1999. С. 736–737.
33 Кожевников М. В. История советского суда. Изд. 2. М., 1957. С. 258.
34 Мелкумян В. Нужна реорганизация Наркомюста // Советская юстиция. 1930. № 6. С. 15–17.
35 Цит. по: Бородкин Л. И. «Порядок из хаоса»: концепции синергетики в методологии исторических исследований // Новая и новейшая история. 2003. № 2. С. 127–136.
About the authors
Nikolay N. Fedoseenkov
«Nauka» Publishers
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
член-корреспондент Российской академии художеств, директор
Russian Federation, MoscowReferences
- Антонова Л.И. Революционная кодификация законодательства (1920–1930-е гг.) // Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. 2008. № 4.
- Бородкин Л.И. «Порядок из хаоса»: концепции синергетики в методологии исторических исследований // Новая и новейшая история. 2003. № 2.
- Кожевников М.В. История советского суда. Изд. 2. М., 1957.
- Концевой И.А. «Левый эсер, которого странным ветром занесло в революцию…»: И.З. Штейнберг в советском правительстве // Петербургский исторический журнал. 2021. № 1.
- Максимова О.Д. Роль Д.И. Курского в формировании идей советского права и в законотворчестве // Правоведение. 2014. № 4.
- Садков В.Н. Наркомат юстиции РСФСР и советское законодательство (1917–1922 гг.). Дис. … канд. ист. наук. М., 1996.
- Семенко А.В. Становление системы народных судов РСФСР в 1917–1922 гг. // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. № 4.
- Токарев Ю.С. Роль Советов в судебном строительстве (октябрь 1917 – июнь 1918 гг.) // Проблемы государственного строительства в первые годы Советской власти (Труды ЛОИИ). Вып. 14. Л., 1973.
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: документы и материалы. Т. 1. Май 1927 – ноябрь 1929. М., 1999.
- Трошкина Д.Э. Государственные преступления в проекте Уголовного уложения 1918 года // NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. Т. 48. 2023. № 3. С. 529–539.
- Щелконогова Е.В. Советское уголовное уложение и Уголовный кодекс РФ: сравнительно-правовой анализ // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 128.
Supplementary files