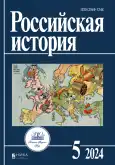Soviet agriculture in the 1930s: results of socialist reconstruction
- Autores: Ilinyh V.А.1
-
Afiliações:
- Institute of History, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Edição: Nº 5 (2024)
- Páginas: 127-141
- Seção: Institutions and communities
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274807
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050082
- EDN: https://elibrary.ru/SKTLGQ
- ID: 274807
Citar
Texto integral
Resumo
The purpose of the article is to determine the short- and medium-term economic consequences of the socialist reconstruction of the USSR agriculture carried out in the 1930s. The main attention is paid to determining the extent to which the tasks set before the beginning of its deployment were solved. It is concluded that by the end of the 1930s the grain and livestock problems remained unsolved in the USSR, it was not fully possible to replace small-scale commodity production with large mechanized production, the level of material welfare of collective farmers remained low. In general, only the task of supplying the population and industry with cotton and sugar beets was solved.
Texto integral
К числу базовых задач отечественной аграрной историографии относится изучение сельского хозяйства – одной из важнейших сфер, демонстрирующих эффективность экономического строя государства. К числу наиболее значимых проблем в рамках этой темы относятся последствия осуществления форсированной коллективизации.
В советской историографии наиболее существенный вклад в изучение сельского хозяйства 1930-х гг. внесли И. Е. Зеленин, М. А. Вылцан, Н. Я. Гущин1. По их мнению, массовая коллективизация создала условия для поступательного развития аграрной экономики. Однако к концу первой пятилетки началось сокращение сельскохозяйственного производства по ряду основных показателей (валовые сборы, поголовье скота). Политическое и организационно-хозяйственное укрепление колхозов и совхозов с середины 1930-х гг. позволило преодолеть возникшие в начале десятилетия трудности, провести техническую реконструкцию и существенно нарастить производство аграрной продукции. Достигнутый к концу десятилетия уровень производства превзошёл уровень мелкотоварного и капиталистического сельского хозяйства дореволюционной России. Продовольственную проблему удалось в основном решить.
В постсоветской историографии возобладала более критичная оценка. Интересно, что лучше всего оказалась изучена аграрная экономика начала 1930-х гг. В работах В. В. Кондрашина, Р. Дэвиса и С. Уиткрофта сделан вывод о том, что форсированная коллективизация привела к глубокому кризису данной сферы. Его вызвали прежде всего сверхнормативное отчуждение продукции, отсутствие у колхозников стимулов к труду, крайне неудовлетворительная организация производства в колхозах и совхозах2.
Изучению сельского хозяйства во второй половине 1930-х гг. уделялось существенно меньшее внимание. Проблемы его развития рассматривались в немногочисленных трудах, посвящённых аграрной истории отдельных регионов России3. Так, детально исследована динамика сельскохозяйственного производства в Сибири. Известно, что в 1933–1934 гг. в регионе началось преодоление кризиса отрасли. Наращивалось производство продукции полеводства и животноводства. Тем не менее достигнутые к 1938 г. показатели численности скота существенно уступали уровню десятилетней давности. Посевные площади увеличились по сравнению с доколхозным периодом, однако зерновую проблему в Сибири решить не удалось. Урожайность хлебов оставалась низкой и неустойчивой. Вызванное угрозой новой мировой войны утяжеление налогово-податного обложения деревни привело к рецессии аграрной сферы региона4.
Цель настоящей статьи – на основе анализа динамики развития сельского хозяйства и его организационно-производственной структуры выявить кратко- и среднесрочные последствия социалистической реконструкции аграрного сектора экономики СССР. Основное внимание при этом будет уделено определению степени решения поставленных перед её началом задач.
Формулировка цели исследования требует дать определение его базовому понятию. Аграрные преобразования 1930-х гг. традиционно обозначаются как коллективизация. Однако данный термин, который в узком значении сводится к объединению единоличных крестьянских хозяйств в колхозы, а в широком охватывает колхозное строительство в целом, слишком ограничен для целей описания всего многообразия изменений, охвативших организацию сельскохозяйственного производства, обмен и распределение его продукции. Эти изменения следует определять как социалистическую реконструкцию сельского хозяйства, в рамках которой произошла радикальная смена аграрного строя страны.
Глубокий кризис конца 1910-х – начала 1920-х гг. удалось преодолеть при помощи нэпа. Крестьяне, получившие хозяйственную свободу, достаточно быстро восстановили посевные площади и поголовье продуктивного скота. Однако экономическое и политическое давление государства на зажиточные слои деревни привело к замедлению темпов развития и консервации мелкотоварности крестьянского хозяйства. В конце 1920-х гг. сталинское руководство пришло к выводу, что оно препятствует модернизации страны5.
Выходом из положения должна была стать социалистическая реконструкция аграрного сектора экономики, которая предполагала организацию в сжатые сроки крупных социалистических сельхозпредприятий. По мнению большевистских теоретиков, это позволило бы внедрить новейшие технические достижения, применить агрикультурные новации и существенно повысить производительность сельского хозяйства. Достигнутое в результате этих мер наращивание валового и товарного производства позволило бы многократно увеличить объёмы аграрного экспорта, доходы от которого шли на развитие промышленности. В задачи колхозов и совхозов входило не только наращивание экспорта, но и повышение материального благосостояния городского и сельского населения, удовлетворение внутренних потребностей страны в продуктах питания и сырье6. Социалистическая реконструкция должна была быстро решить обострившиеся проблемы: зерновую, животноводческую и сырьевую.
Форсированная коллективизация началась в 1929 г. К концу 1931 г. в колхозы вступило более 60% крестьянских дворов7, однако затем темпы снизились. Вытеснить единоличные хозяйства из сельхозпроизводства не получилось. Успеха удалось достичь лишь в земледелии: в 1931/32 хозяйственном году единоличники засевали 20% от общей площади посева, тогда как колхозы – 68%. Однако в отношении продуктивного скота картина оказалась иной: летом 1932 г. в колхозах содержалось 24,9% поголовья крупного рогатого скота (КРС) (в том числе 14,5% коров), 23,2% овец и коз, 27,7% свиней, а в единоличных хозяйствах – соответственно 33, 35,9, 34 и 25%. Составной частью советской аграрной экономики стали личные приусадебные хозяйства (ЛПХ), которых планы социалистического строительства не предусматривали. В ЛПХ колхозников коров содержалось больше, чем в единоличных (38,7%), свиней – примерно столько же (25%), а крупного и мелкого рогатого скота – меньше (31,2 и 27,9%).
Наряду с коллективизацией развернулось широкомасштабное совхозное строительство. Однако доля совхозов и иных государственных хозяйств в посевных площадях равнялась 10%, в поголовье КРС в целом – 8,7, коров – 8,1, овец и коз – 13,8, свиней – 16,6%8. Удельный вес совхозов в валовом производстве (в стоимостном выражении) в 1932 г. составил 10,6%, ЛПХ колхозников – 14,4, единоличных хозяйств – 23,9, колхозов – 51,1%9.
На начало июля 1934 г. уровень коллективизации достиг 71,4%. Оставшиеся 6,3 млн единоличников смогли адаптироваться к сложившимся политико-экономическим условиям и отказывались вступать в колхозы. Руководство страны сочло ситуацию недопустимой и приняло решение усилить административное давление и налогообложение. Уровень коллективизации к началу июля 1936 г. достиг 90,5%10, численность единоличных хозяйств значительно сократилась. Снизился и их вклад в производство: в 1935 г. они засевали уже лишь 5,2% от общей площади посева, в них содержалось 14% КРС, 15,4% овец и коз, 8,7% свиней.
Ведущее место в продуктивном животноводстве заняли личные хозяйства. На 1 января 1935 г. в личном секторе – на подворьях колхозников и иных категорий населения – размещались 48,3% поголовья КРС (из них 60,4% коров) и 49% свиней – больше, чем на предприятиях социалистического сектора (37,6, 25,7 и 42% соответственно). Последние лидировали лишь по овцам и козам (45,8 против 38,8%). Совхозы (за счёт подсобных хозяйств отделов рабочего снабжения) имели относительно высокую долю в поголовье свиней (21,5%). Колхозы абсолютно преобладали лишь в растениеводстве: в 1935 г. на их долю приходилось 78,7% посевных площадей, тогда как у совхозов – 12,2%, а личного сектора – всего 3,9%11.
К концу 1930-х гг. роль единоличников удалось свести к минимуму. В 1937 г. их доля в валовом производстве (в стоимостном выражении) составляла 1,5%. В то же время личный сектор за счёт более высоких темпов развития упрочил лидирующие позиции в животноводстве. К началу 1938 г. удельный вес ЛПХ населения в поголовье КРС вырос до 61% (в том числе коров – до 73), овец и коз – 52, свиней – 62%. Доля личного сектора в общей площади посева оставалась незначительной (4,5%), однако ЛПХ оказались ведущими производителями картофеля и овощей (49 и 46% от общей площади посадок данных культур) и занимали заметное место в выращивании продовольственных бахчевых культур, кормовых бахчей и корнеплодов, конопли (36, 24 и 15%). Благодаря всему этому они держали почётное второе место по удельному весу в валовом производстве – 26,3%. Колхозы оставались ведущей формой организации аграрного производства (62,9% «вала»), однако этот рост обеспечило лишь лидерство по посевам (86%). На долю совхозов приходилось 9,3%, их доля и в площади посевов, и в общей численности скота снизилась (в свинопоголовье – до 11%)12.
В конце 1930-х гг. в организационно-производственной структуре сельского хозяйства произошли изменения, однако они не повлекли радикальных сдвигов. Социалистический сектор уступал по темпам развития личному. Одну из причин этого власти видели в отвлечении трудовых ресурсов в ЛПХ. Многие колхозники предпочитали крайне низко оплачиваемой работе на колхозных полях и фермах труд на своих подворьях, который не только давал более стабильный доход, но и позволял выжить в голодные годы. При этом многие из них превышали размеры приусадебного участка и количество скота, определённые уставом сельхозартели13.
В связи с этим в 1939 г. началась кампания по ограничению ЛПХ. У их владельцев изымались «излишки» скота и земли, существенно ограничивались нормативные размеры личных хозяйств рабочих и служащих14, повышалось их налогообложение. Следствием возросшего административного и налогово-податного гнёта стало «ужатие» ЛПХ, снижение доли личного сектора в поголовье скота и, как следствие, валовом производстве сельхозпродукции (до 23,2% в 1940 г.). Завершение коллективизации (к 1 июля 1940 г. её уровень достиг 96,9%) привело к фактическому исчезновению единоличников (0,3%)15. Удельный вес колхозов увеличился до 67,2%, а совхозов – не изменился. Но, несмотря на ослабление ЛПХ, они оставались основными производителями молока и картофеля, значительной части овощей и мясной продукции. Таким образом, в полной мере заменить мелкотоварное производство крупным обобществлённым не удалось. Более того, ЛПХ оказались ещё более мелкотоварными, нежели крестьянские хозяйства периода нэпа.
Форсирование коллективизации в значительной степени определялось задачей скорейшего решения зерновой проблемы. Колхозы и совхозы должны были не только быстро заменить крестьянские хозяйства, но и существенно увеличить производство зерна, однако добиться этого не удалось. В 1929/30 сельскохозяйственном году посевы зерновых увеличились на 6%, в 1930/31 г. – на 2,6%, а в 1932 г. снизились на 4,5%. В итоге хлебная нива выросла лишь на 3,8%. Отметим, что за это время посевы технических культур возросли на 69% (табл. 1). Высокие темпы наращивания площади их посадок объясняются более экономически выгодными условиями выращивания. Заготовительные цены на технические культуры были выше, чем на зерновые, для их производителей предусматривались снабжение сортовыми семенами или посадочным материалом, выдача продуктов переработки (жмыхов, хлопковаты, растительного масла, сахара и др.), а также продажа хлеба и других продовольственных товаров по государственным ценам, установленным на невысоком уровне16.
Таблица 1. Посевные площади во всех категориях хозяйств в 1929–1934 гг. (тыс. га)
Культуры | 1929 г. | 1930 г. | 1931 г. | 1932 г. | 1933 г. | 1934 г. |
Зерновые | 96 012 | 101 761 | 104 406 | 99 700 | 101 554 | 104 677 |
Технические | 8 800 | 10 466 | 14 039 | 14 877 | 11 981 | 10 710 |
в том числе хлопок | 1 056 | 1 583 | 2 137 | 2 172 | 2 052 | 1 937 |
сахарная свёкла | 771 | 1 036 | 1 394 | 1 538 | 1 211 | 1 183 |
Весь посев | 118 050 | 127 218 | 136 285 | 134 435 | 129 693 | 131 379 |
Составлено по: Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. С. 238, 241.
В 1930 г. был собран рекордный за всю предыдущую советскую историю урожай: 83,5 млн т (по официальным данным). Однако в 1931 и 1932 гг. сбор снизился до 69,5 и 69,9 млн. Причинами этого стали менее благоприятные погодные условия и нехватка рабочего тягла. Общее число рабочих лошадей в СССР с июля 1929 г. по июль 1932 г. сократилось на 31%17. Большинство колхозных лошадей находились в истощённом состоянии из-за неудовлетворительного ухода и нехватки кормов, и поставки тракторов не смогли компенсировать эти потери. Но наиболее негативное влияние на результаты посевных кампаний оказывало падение трудовой дисциплины. Минимизация оплаты труда колхозников стала причиной массовых отказов от выхода на производство или работы «спустя рукава».
Согласно опубликованным сведениям, валовой сбор зерновых в 1930–1932 гг. оказался выше показателей предыдущего трёхлетия на 2,5%. Однако позднее выяснилось, что данные официальной статистики завышались. Предназначенные для служебного пользования документы Центрального управления народно-хозяйственного учёта Госплана СССР содержали значительно более низкие цифры производства: зерна в указанные годы собрали на 6,3% меньше, чем в 1927–1929 гг. В то же время государственные хлебозаготовки в 1930/31–1932/33 гг. увеличились по сравнению с 1927/28–1929/30 гг. на 77%18. Таким образом, товарность зернового хозяйства резко выросла, однако она имела внеэкономический принудительный характер.
Наращивание государственных хлебозаготовок позволило резко увеличить объёмы вывоза зерна из страны. Если в 1930 г. экспорт хлебопродуктов составил 4 764 тыс. т, то в 1931 г. – 5 956 тыс., что в 1,8 и 2,2 раза соответственно превысило предыдущий максимум, достигнутый в 1923/24 г. (табл. 2)19. Сверхнормативное отчуждение и вывоз необходимого для внутреннего потребления хлеба стали причиной массового голода в деревне и острого дефицита продовольствия в городах. В этих условиях руководству СССР пришлось резко снизить объём экспорта зерна, уменьшив его в 1932 г. по сравнению с предыдущим годом почти втрое.
Таблица 2. Экспорт зерна из СССР в 1926–1940 гг. (тыс. т)
Год | Объём экспорта | Год | Объём экспорта |
1926/27 | 2 099 | 1934 | 769 |
1927/28 | 289 | 1935 | 1 517 |
1929 | 178 | 1936 | 321 |
1930 | 4 764 | 1937 | 1 277 |
1931 | 5 056 | 1938 | 2 054 |
1932 | 1 727 | 1939 | 277 |
1933 | 1 684 | 1940 | 1 155 |
Составлено по: Внешняя торговля СССР за 1918–1940 гг. ... Ч. 1. С. 110, 144, 179, 199.
Таким образом, зерновая проблема в СССР ещё больше обострилась, её решение (как и решение иных проблем аграрного производства) пришлось перенести на отдалённый срок. Основным способом виделось организационно-хозяйственное укрепление колхозов и совхозов.
В 1933 г. началось восстановление зернового хозяйства. Этих культур в 1934 г. посеяли на 5% больше, чем в 1932 г., и на 9% больше, чем в 1929 г. (табл. 1). Валовое производство в 1933 г. по официальным данным увеличилось по сравнению с предыдущим годом почти на 30% (хотя в 1934 г. сбор незначительно снизился)20. Благодаря этому в начале 1935 г. удалось отменить карточки на хлеб и другие виды продовольствия. Во второй половине 1930-х гг. в связи с внедрением севооборотов, которые фактически игнорировались ранее, посевная площадь зерновых несколько снизилась (табл. 3). Существенно увеличился уровень механизации: к 1940 г. сев механизировали на 56%, уборку – на 46%21.
Таблица 3. Посевные площади в СССР в 1935 и 1938 гг. и в РСФСР* в 1938 и 1940 гг. во всех категориях хозяйств (тыс. га)
Культуры | СССР | РСФСР | ||
1935 г. | 1938 г. | 1938 г. | 1940 г. | |
Зерновые | 103 440 | 102 411 | 71 453 | 70 143 |
Технические | 10 642 | 10 960 | 6 146 | 6 201 |
в том числе хлопок | 1 954 | 2 083 | 234 | 244 |
сахарная свёкла | 1 225 | 1 180 | 341 | 336 |
Овощебахчевые и картофель | 9 337 | 9 385 | 6 178 | 5 953 |
Составлено по: Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. С. 1367–1369; Посевные площади СССР. 1938 г. ... С. 21–22, 23–24, 41, 93, 95, 111, 119; Посевные площади СССР: статистический сборник. Т. 1. М., 1957. С. 20, 22, 24, 26.
* Сведения по РСФСР приведены с включением Карельской АССР (Карело-Финской ССР), но без учёта Крымской АССР.
Среднегодовой валовой сбор зерновых в амбарном весе за годы второй пятилетки составил 72,9 млн т (в 1925–1929 гг. – 73,3 млн т). Негативное влияние на динамику хозяйства оказывали ежегодные недороды на части территории страны: в 1935 г. – на Юго-западе Сибири, в 1936 г. – в Поволжье, на Урале, в Казахстане и ряде районов Центрально-Чернозёмной полосы, в 1937 г. – в Астраханской обл. Неурожаи усугублялись несоблюдением агротехники. Исключением стал 1937 г., принёсший рекордный за 1920–1930-е гг. сбор: 97,4 млн т при урожайности 9,3 ц/га в амбарном весе22. Как следствие, с 1932 г. резко сократились объёмы экспорта. Относительного максимума (2 млн 54 тыс. т) они достигли в послеурожайном 1938 г., в остальные годы вывоз был существенно меньше (табл. 2).
Несмотря на недород, доля отчуждения хлеба государством у сельхозпроизводителей лишь увеличивалась. Минимальные размеры плановых хлебозаготовок в годы второй пятилетки (23 млн 246 тыс. т в 1933/34 г.) на 45% превышали нэповский максимум, достигнутый в 1929/30 г. В 1937/38 г. объём заготовок был на 78% больше, чем в 1929/30 г.23 Сверхнормативное изъятие приводило к нехватке семян. Также резко сокращались выдачи зерна в счёт оплаты труда: в колхозах, пострадавших от неурожая, она ограничивалась небольшим натуральным авансом во время уборки. Следует отметить, что хлеб являлся основным продуктом питания сельских жителей, отсутствие запасов зерна означало наступление массового голода24. Распределение полученных от государства натуральных ссуд в недородных районах позволяло его предотвратить, однако локальные голодовки случались. Недостаток зерна в неурожайных районах сказывался и на снабжении работников совхозов.
Зерновое производство, как, впрочем, и другие отрасли советского растениеводства, характеризовалось неустойчивой и низкой урожайностью. Несоблюдение оптимальных севооборотов вызвало падение плодородия почв. Резко возросли потери при уборке. На совещании передовых комбайнёров и комбайнёрок 1 декабря 1935 г. И. В. Сталин заявил, что достигнутые в развитии зернового хозяйства результаты не отвечают растущим потребностям страны, и поставил задачу «года через три-четыре» довести ежегодное производство хлеба до 7–8 млрд пудов25. Генсек имел в виду потенциальный (биологический) урожай, определявшийся перед началом уборки. Амбарный же урожай, т. е. собранный в зернохранилища, оказывался значительно меньше из-за потерь во время уборки и обмолота.
Поставленной Сталиным цели удалось добиться лишь в 1937 г. Биологический урожай тогда составил 7,3 млрд пудов, тогда как в 1935 г. – 5,5 млрд, 1936 г. – 5, 1938 г. – 5,8, 1939 г. – 6,2 млрд. В амбарном весе урожаи 1938 и 1939 гг. составили соответственно 73,6 и 73,2 млн т26. Основной причиной снижения сборов снова оказались неблагоприятные природно-климатические условия, усугубленные низким уровнем агротехники. Недобор зерна оказал влияние на снабжение населения. 14 ноября 1939 г. Наркомат торговли СССР информировал вышестоящие инстанции, что «торговля хлебом и мукой в настоящий момент происходит с большим напряжением, а в отдельных краях и республиках – с перебоями»27.
В 1940 г. производство зерна оказалось выше, чем в предыдущие два года (6,7 млрд пудов в биологическом весе в границах до сентября 1939 г.), но так и не достигло минимального уровня сталинских контрольных цифр. Высокий урожай в последнем предвоенном году собрали в традиционных земледельческих районах – на Украине, в Краснодарском крае, в то время как для Юго-западной Сибири и Северо-восточного Казахстана год оказался недородным. В амбарном весе урожай 1940 г. составил 86,9 млн т28.
Снижение валовых сборов государство снова компенсировало увеличением налогово-податного бремени. В результате при меньшем валовом сборе объём плановых хлебозаготовок в 1940/41 г. превысил уровень 1937 г. в 1,4 раза. В Новосибирской обл. даже в условиях катастрофического неурожая колхозам пришлось сдать на 14% больше29. В недородных районах начался голод.
Значительно бóльшие успехи оказались достигнуты в сфере производства хлопка. Основными районами хлопководства являлись Узбекистан, Туркмения и Таджикистан. Посевы в них выросли в 1930 г. на 50%, в 1931 г. – ещё на 35%. Однако если в 1929 г. с каждого га собрали 8,2 ц, а максимальный сбор в 1920-х гг. составлял 9,2 ц/га (в 1925 г.), то в начале 1930-х гг. урожайность снизилась до 6–7 ц/га, понизились и темпы роста валового сбора (+29% в 1930 г. и +16% в 1931 г.). В 1932 г. посевы хлопка увеличились менее чем на 2%, сбор с гектара упал до 5,9 ц, а валовой сбор – на 1,6%30. Это объяснялось общей бесхозяйственностью коллективного хозяйства на этапе его становления. Полностью заменить традиционные методы производства передовыми технологиями не удалось. Так, если тракторная вспашка под хлопчатник росла, что позволило существенно увеличить посевную площадь, то другие операции механизировались минимально или не механизировались вообще. В 1932 г. минеральные удобрения внесли лишь на 3,7% посевной площади хлопка. Расширение посевов, не сопровождавшееся совершенствованием технологии, вело к ухудшению обработки почвы. Ирригационная система не поддерживалась в должном состоянии. Семена были засорены31.
Тем не менее СССР удалось добиться хлопковой независимости. Если в 1927/28 г. удельный вес заграничного хлопка составлял 43% всей переработки промышленности, то в 1932 г. – только 5,2%, причём почти такой же объём экспортировался32.
Далее площадь посевов хлопчатника снизилась из-за отказа от использования под выращивание культуры непригодных сельхозугодий, а к концу 1930-х гг. возросла благодаря освоению новых земель, но так и не достигла максимального уровня 1932 г. Несмотря на это, в 1940 г. площадь пашни (2 080 тыс. га) превышала показатель 1929 г. вдвое. Среднегодовой валовой сбор в годы второй пятилетки составил 18,4 млн ц (в 1925–1929 гг. – 6,7 млн, в 1930–1932 гг. – 12,2 млн). В 1938–1940 г. в среднем в год собирали 26,6 млн ц хлопка-сырца33. Факторами наращивания сборов являлись крупномасштабное ирригационное строительство, механизация пахоты, сева и междурядной обработки. Крупные колхозы оказались лучше приспособлены для товарного выращивания хлопка, нежели дехканские хозяйства. Стимулом для развития отрасли стало также значительное увеличение в 1935 г. заготовительных цен и введение премий-надбавок за сдачу государству сверхплановой продукции. Однако одновременно началась монокультуризация севооборотов, которая привела к распространению вредителей и болезней, что негативно сказалось на урожайности культуры. Нерациональным оказалось использование воды при поливах. На заготпункты нередко сдавался недозрелый и влажный, а как следствие низкокачественный хлопок.
Существенных достижений удалось добиться в выращивании сахарной свёклы. Основными районами промышленного свеклосеяния являлись Украина и Центрально-Чернозёмная полоса. Посадки культуры в 1930–1931 гг. ежегодно увеличивались на 35%. Благоприятные погодные условия 1930 г. привели к беспрецедентному росту урожайности: валовой сбор превысил предыдущий максимум, достигнутый в 1927 г., более чем на треть. 1931 г. оказался хуже – урожайность снизилась с 135,3 до 86,4 ц/га, сбор – с 140,2 до 120,5 млн ц (табл. 1)34, – но всё же мог считаться удовлетворительным. А вот следующий, 1932 г. стал кризисным. Прирост посевов составил лишь 10%, сбор с одного гектара (64,3 ц) был меньше, чем в самом недородном для данной культуры 1929 г. (81,1), валовой сбор снизился по сравнению с предыдущим годом на 46%35. Свекловичные районы одновременно являлись и зернопроизводящими, из-за чего операции по выращиванию свёклы и хлебов могли совпадать по времени. Как следствие, рабочих рук не хватало, в том числе в связи с увеличением площади посадок, что приводило к затягиванию сельхозработ. Плохая погода, недостаточная прополка, массовое заражение посевов вредителями и истощение почвы привели к падению урожайности.
В середине 1930-х гг. посадки сахарной свёклы снизились. Основной причиной этого стал отказ от монокультуры в свеклосеющих хозяйствах и внедрение в них севооборотов. Урожайность и объёмы производства при этом выросли. Если в 1925–1929 гг. среднегодовой валовой сбор культуры составлял 84,4 млн ц, а в 1930–1932 гг. – 108,8 млн, то в годы второй пятилетки – 150,5 млн, а в 1938–1940 г. – 181,1 млн ц36.
Выращивание культуры относилось к числу наиболее механизированных. В 1940 г. по зяблевой вспашке и посеву уровень механизации составил 96%, междурядной обработке – 79, подкормке на тракторной тяге – 86, подкопке – 83%37. Колхозное производство также оказалось более производительным, чем единоличное крестьянское. Проблемой свеклосеяния оставалась относительно низкая и неустойчивая урожайность. Отчасти это объяснялось недостаточным внесением на поля удобрений и затягиванием сроков выполнения сельхозработ.
В целом сырьевую проблему в части производства хлопка и сахарной свёклы к концу 1930-х гг. удалось решить. Однако потребности населения и промышленности в продуктах их переработки имели тенденцию к возрастанию.
На животноводческую отрасль негативное влияние оказал кризис начала 1930-х гг. Следствием форсированной коллективизации стало значительное снижение поголовья скота. К середине лета 1932 г. численность КРС в целом по сравнению с 1929 г. сократилась на 39,3%, в том числе коров – на 30,9; свиней – 43; овец и коз – 65% (табл. 4). Основными причинами беспрецедентного сброса стада стали сначала массовый забой скота крестьянами перед вступлением в колхоз или уходом в город, а затем начавшийся голод. Кроме того, планы государственных скотозаготовок систематически превышали как нормативы, так и реальные возможности владельцев скота. У единоличников и колхозников часто отбирали единственную корову. В колхозах и совхозах, куда принудительно передавался обобществлённый скот, отмечался значительный уровень падёжа как взрослых животных, так и – в первую очередь – молодняка из-за ненадлежащего ухода и нехватки кормов.
Таблица 4. Поголовье продуктивного скота в СССР в 1929–1934 гг. во всех категориях хозяйств (тыс. голов на июнь–июль)
Год | Крупный рогатый скот | в том числе коровы | Овцы и козы | Свиньи |
1929 | 67 112 | 30 360 | 146 976 | 20 384 |
1930 | 52 486 | 26 693 | 108 758 | 13 559 |
1931 | 47 916 | 24 413 | 77 692 | 14 443 |
1932 | 40 561 | 21 028 | 51 141 | 11 611 |
1933 | 38 380 | 19 551 | 50 244 | 12 068 |
1934 | 42 437 | 19 555 | 51 949 | 17 456 |
Составлено по: Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. С. 511.
Восстановление животноводства началось лишь в 1934 г. (табл. 4, 5). Однако достигнутые к концу 1930-х гг. показатели существенно уступали уровню конца 1920-х гг. Так, летом 1938 г. овец и коз насчитывалось меньше, чем летом 1928 г., на 30%, коров – на 18, КРС в целом – на 10%. И лишь поголовье свиней превышало уровень 1928 г. на 18%38. При этом бóльшая часть стада продуктивного скота содержалась в личных хозяйствах.
Продуктивность колхозно-совхозного животноводства из-за недостатка специализированных помещений, низкого уровня кормопроизводства, неудовлетворительного ухода за животными росла крайне медленно. Высоким оставался падёж, особенно молодняка, резко возраставший в неурожайные годы. Абсолютно преобладал ручной труд. В личных хозяйствах скот содержался в лучших условиях, но в недородные годы кормообеспечение ухудшалось во всех группах, что приводило к снижению продуктивности скота. Надои и товарный выход молока уменьшались. В то же время сверхнормативный забой животных приводил к взрывному, но недолгому увеличению производства мяса. Забитый в ЛПХ скот в начале зимнего сезона компенсировал потери других продуктов питания. Однако уже к концу зимы – началу весны продовольственная ситуация в деревне ухудшалась. В посленеурожайный год предшествующий сброс поголовья вёл к общему сокращению производства животноводческой продукции и снижению уровня потребления. Из-за огромного урона поголовью даже в высокоурожайном 1937 г. мяса, молока и шерсти произвели на 39, 16 и 42% меньше, чем в 1928 г.
Таблица 5. Поголовье продуктивного скота в СССР* в 1935–1938 гг. и в РСФСР** в 1938 и 1941 гг. во всех категориях хозяйств (тыс. голов, на 1 января)
Год | Крупный рогатый скот | в том числе коровы | Овцы и козы | Свиньи |
СССР | ||||
1935 | 38 869 | 19 031 | 40 771 | 17 116 |
1936 | 46 000 | 20 000 | 49 900 | 25 900 |
1937 | 47 500 | 20 900 | 53 800 | 20 000 |
1938 | 50 921 | 22 685 | 66 595 | 25 716 |
РСФСР | ||||
1938 | 31 263 | 14 845 | 41 174 | 14 430 |
1941 | 27 848 | 14 247 | 51 234 | 12 090 |
Составлено по: Животноводство СССР… С. 108; Численность скота в СССР: статистический сборник. М., 1957. С. 8, 15, 22, 30.
* Сведения по СССР приведены в границах до 1939 г. Данные за 1939–1941 гг. в границах после 17 сентября 1939 г. не выявлены.
** Сведения по РСФСР приведены с включением Карельской АССР (Карело-Финской ССР), но без учёта Крымской АССР.
Снижение валового производства частично перекрывалось увеличением товарности. Наиболее товарными являлись специализированные совхозы. В колхозах товарность также была выше, чем в крестьянских хозяйствах периода нэпа, однако она в значительной степени имела внеэкономический характер. ЛПХ населения, напротив, отличались меньшей товарностью. Часть произведённой в них продукции также отчуждалась в виде обязательных поставок. В 1937 г. государственные заготовки мяса выросли по сравнению с 1932 г. в 1,2 раза, молока и молочных продуктов – в 2,6, шерсти – в 1,9 раза39.
На вышеупомянутом совещании передовых комбайнёров Сталин указал на растущие потребности населения в мясе и молочных продуктах, для удовлетворения которых «необходимо… иметь хорошо поставленное животноводство с большим количеством скота, мелкого и крупного»40. Однако налогово-податной и административный прессинг на личные хозяйства привёл к снижению численности поголовья по большинству видов. К началу 1941 г. в РСФСР свиней стало на 16%, КРС в целом – на 11, коров – на 4% меньше, чем в начале 1938 г., и лишь количество овец и коз увеличилось на 24% (табл. 5). В итоге ситуация в животноводстве к началу войны усугубилась, отрасль, несмотря на наращивание объёмов заготовок, не могла удовлетворить спрос на свою продукцию, что привело к ухудшению снабжения ею стремительно увеличивавшегося городского населения.
В конце 1930-х гг. возникли проблемы со снабжением горожан картофелем. Колхозы РСФСР в 1938–1940 гг. снизили его посадки на 20%41, в ЛПХ они также сократились. Причиной явилась трудоёмкость данной культуры в сочетании с дефицитом трудовых ресурсов.
Большевистские теоретики предполагали, что социалистическая реконструкция сельского хозяйства приведёт не только к многократному увеличению производства аграрной продукции, но и позволит повысить материальное благосостояние основных масс крестьянства. Однако форсированная коллективизация дала противоположный эффект. В основных зернопроизводящих регионах СССР она вызвала массовый голод, а недоедание (латентная форма голода) охватило практически всю территорию страны. Большинство жителей более «благополучных» сельских районов питались главным образом картошкой и низкокачественным хлебом, объёмы потребляемого не обеспечивали физиологического минимума42.
Государство предприняло ряд мер по устранению голода. На первом съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 г. Сталин поставил задачу в 2–3 года «сделать всех колхозников зажиточными»43. Значимая роль в этом отводилась развитию ЛПХ. Полученные от них доходы должны были компенсировать низкий уровень оплаты труда в колхозах. Органам власти на местах и колхозам вменялось в обязанность ликвидировать «бескоровность» колхозников, оказывая им помощь в приобретении и выращивании молодняка. В 1935 г. был принят новый Примерный устав сельхозартели, предусматривавший более высокие предельные нормативы содержания скота и площади приусадебных посадок членов колхозов. Ограничения снимались и с развития личных хозяйств рабочих и служащих – их предельные размеры уравняли с нормами для колхозников44. Благодаря этому темпы развития личного сектора экономики выросли. В 1935–1937 гг. поголовье овец и коз в ЛПХ колхозников увеличилось в 2,1 раза, свиней – в 1,9, КРС в целом – в 1,6, коров – в 1,4 раза. Посадки на приусадебных участках членов колхозов с 1934 по 1938 г. выросли в 1,7 раза45.
Личное хозяйство давало бóльшую часть потребляемых колхозниками продуктов питания, за исключением хлеба. По данным бюджетных обследований в 1936/37 гг. удельный вес продуктов, полученных колхозниками из ЛПХ, в общем объёме составил: молока – 99%, мяса – 98, овощей – 83, картофеля – 75, зерновых – 6,4%. Более того, за счёт реализации продукции, выращенной на подворье, даже в благоприятные для колхозного производства годы формировалось около половины всех денежных доходов колхозных семей46. В годы недородные из-за минимизации оплаты труда в колхозах ЛПХ становились основным источником поступления и продуктов питания, и денег.
Ещё более высокими темпами развивались ЛПХ проживавших в сельской местности рабочих и служащих. За 1935–1937 гг. численность овец и коз здесь увеличилась в 3,9 раза, КРС в целом – в 2,4, коров – в 2,2, свиней – в 2 раза. Площадь приусадебных посадок выросла на 30%47.
Содействовать достижению зажиточности должно было увеличение оплаты труда в колхозах, однако росла она медленно. В 1932 г. выдача зерна на 1 трудодень составляла 2,3 кг, в 1935 г. увеличилась до 2,4 кг, а в 1936 г. снизилась до 1,6 кг48 из-за неурожая. В ряде недородных районов РСФСР тогда начался голод49. Так, в мае 1937 г. руководство Омской обл. обратилось в ЦК ВКП(б) и СНК СССР с просьбой о выделении продовольственной ссуды для неурожайных районов. Оно сообщало «о полном отсутствии хлеба во многих колхозах», о том, что «на почве отсутствия хлеба развиваются заболевания, установлены многие случаи употребления в пищу трупов павших животных (районы: Вагайский, Дубровинский, Исетский, Упоровский, Омутинский и др.)»50.
В условиях высокого урожая 1937 г. выдача зерна на трудодень выросла до рекордных 4 кг. Колхозный двор в среднем по стране получил 17,4 ц хлеба, в зерновых районах страны – 22,6, в РСФСР – 21,1 ц. Помимо этого колхозникам выплачивали деньги. В 1937 г. выдача по трудодням на один двор составила 376 руб. В республиках Средней Азии относительно небольшая выдача зерна компенсировалась высокой денежной оплатой. Так, в Узбекской ССР на 1 колхозный двор полагалось 4,9 ц хлеба и 2 034 руб. В РСФСР выплачивалось существенно меньше – в среднем 231 руб., в том числе на Северном Кавказе – 644 (максимальное значение), на Верхней Волге – 88 (минимальное). По данным бюджетов колхозников по 17 областям европейской части РСФСР, за второе полугодие 1937 г. доля денежных поступлений от выдачи на трудодни составляла лишь 9% от общей суммы их денежных доходов51.
1937 г. стал для колхозников самым благополучным годом десятилетия. Однако достигнутый тогда уровень среднедушевого потребления по молоку и молочным продуктам, мясу и салу уступал уровню потребления сельского населения в 1923/24 г. – не самом благополучном из нэповских лет (соответственно на 48 и 13%), приблизился к нему по хлебу и хлебопродуктам (98%), а превзошёл лишь по картофелю (на 15%)52.
Затем натуральная оплата труда снизилась. В 1938 г. выдача на один колхозный двор по стране составила 10 ц зерном, в 1939 г. – 8,3, в 1940 г. – 9 ц, на один трудодень – 2,2, 1,8 и 1,6 кг соответственно. Это средние данные, следует иметь в виду, что в части колхозов натуроплата оставалась незначительной. В 1938 г. в РСФСР без выдачи зерна остались 2,8% колхозов, в 39,7% хозяйств выдача на трудодень фактически сводилась к натуральному авансу, не превышая 1 кг53.
Сопоставимые сведения о денежной оплате колхозников в конце 1930-х гг. отсутствуют, поскольку до 1937 г. включительно по данному показателю учитывали только колхозников, а затем в подсчёт зачислили трактористов МТС. В 1938 г. средняя денежная оплата на 1 колхозный двор в СССР в целом равнялась 480 руб., в 1939 г. – 479, в 1940 г. – 462 руб. В Узбекистане денежная оплата в 1938 и 1939 гг. снизилась до 1 978 и 1 804 руб. даже с учётом трактористов54. В 1940 г. в Новосибирской обл. доля выплат по трудодням составляла 15,9% от общей суммы денежных доходов колхозников55.
В результате зажиточными колхозники так и не стали, напротив, снижение оплаты труда и ограничение размеров ЛПХ привело к ухудшению их материального положения. В 1940/41 г. недородные районы Юго-западной и Северо-западной Сибири поразил сильный голод. Катастрофическая засуха не только минимизировала натуроплату труда, но и привела к недороду в ЛПХ «второго хлеба» – картофеля. Пик голода, как всегда, пришёлся на конец зимы – начало весны. Большинство колхозников к этому времени исчерпали изначально скудные запасы зерна и картофеля, съели мясо забитого осенью в связи с угрозой бескормицы скота, а у оставшихся личных коров наступил перерыв лактации56.
Таким образом, в краткосрочной перспективе социалистическая реконструкция привела к глубокому кризису во всех отраслях сельского хозяйства, массовому голоду в деревне и острому дефициту продовольствия в городах. С 1933 г. началось медленное восстановление сельского хозяйства. Однако в среднесрочной перспективе зерновая, животноводческая и в целом продовольственная проблемы так и остались нерешёнными. Не удалось в полной мере заменить мелкотоварное производство крупным механизированным, низким оставался уровень материального благосостояния колхозников. Удалось лишь справиться с задачей обеспечения промышленности хлопком и сахарной свёклой.
1 Зеленин И. Е. Зерновые совхозы СССР (1933–1941 гг.). М., 1966; Вылцан М. А. Советская деревня накануне Великой Отечественной войны (1938–1941 гг.). М., 1970; Гущин Н. Я. Сибирская деревня на пути к социализму (социально-экономическое развитие сибирской деревни в годы социалистической реконструкции народного хозяйства. 1926–1937 гг.). Новосибирск, 1973; Гущин Н. Я., Кошелева Э. В., Чарушин В. Г. Крестьянство Западной Сибири в довоенные годы (1935–1941). Новосибирск, 1975; Вылцан М. А. Завершающий этап создания колхозного строя. М., 1978; Зеленин И. Е. Совхозы СССР в годы довоенных пятилеток. 1928–1941. М., 1982; История советского крестьянства. В 5 т. Т. 2. Советское крестьянство в период социалистической реконструкции народного хозяйства. Конец 1927–1937. М., 1986; Т. 3. Крестьянство накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938–1945. М., 1987.
2 Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М., 2008; Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода. Сельское хозяйство СССР. 1931–1933. М., 2011; Кондрашин В. В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и её результаты (1929–1933). М., 2014.
3 Лыкова Е.А., Проскурина Л. И. Деревня российского Дальнего Востока в 20–30-е годы ХХ века. Коллективизация и её последствия. Владивосток, 2004; Надькин Т. Д. Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М., 2010; Аграрная политика советского государства и сельское хозяйство Сибири в 1930-е гг. / Отв. ред. В. А. Ильиных, О. К. Кавцевич. Новосибирск, 2011; Сельское хозяйство Сибири в ХХ веке: проблемы развития и кризисы / Отв. ред. В. А. Ильиных, О. К. Кавцевич. Новосибирск, 2012; и др.
4 Сельское хозяйство Сибири в ХХ веке… С. 88, 91–92, 103–104; Аграрная политика советского государства… С. 566–567, 602–603.
5 См.: Проекты преобразования аграрного строя Сибири в ХХ веке: выбор путей и методов модернизации / [В. А. Ильиных и др.]. Новосибирск, 2015. С. 39–40.
6 Там же. С. 43–44.
7 История советского крестьянства. Т. 2. С. 196.
8 Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. М., 1936. С. 511; Социалистическое строительство СССР: статистический ежегодник. М., 1935. С. 367.
9 РГАЭ, ф. 1562, оп. 41, д. 65, л. 55.
10 Колхозы во второй сталинской пятилетке: статистический сборник. М.; Л., 1939. С. 1–3.
11 Животноводство СССР за 1916–1938 гг.: статистический сборник. М.; Л., 1940. С. 108; Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. С. 1369.
12 Животноводство СССР… С. 108; Посевные площади СССР. 1938 г.: статистический справочник. М.; Л., 1939. С. 21–22; РГАЭ, ф. 1562, оп. 41, д. 65, л. 110.
13 См.: Ильиных В. А. Личное приусадебное хозяйство рабочих и служащих Сибири в 1930-е годы: динамика и тенденции развития // Уральский исторический вестник. 2022. № 3. С. 150.
14 Очерки истории крестьянского двора и семьи в Западной Сибири. Конец 1920-х – 1980-е годы / Под ред. В. А. Ильиных. Новосибирск, 2001. С. 59–60.
15 РГАЭ, ф. 1562, оп. 41, д. 65, л. 55 (данные в границах СССР до 1939 г.).
16 Ильиных В. А. Становление и функционирование контрактационной системы в Сибири (конец 1920-х – начало 1930-х гг.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2014. Самара, 2015. С. 364.
17 Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. С. 511.
18 Там же. С. 270; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: документы и материалы. Т. 3. Конец 1930–1933 / Под ред. В. П. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 2001. С. 854; Ильиных В. А. Хроники хлебного фронта: заготовительные кампании конца 1920-х гг. в Сибири. М., 2010. С. 340; Ильиных В. А., Лапердин В. Б. Хлебозаготовки в Сибири в 1930-е годы. Новосибирск, 2020. С. 496.
19 Внешняя торговля СССР за 1918–1940 гг.: статистический обзор. Ч. 1. М., 1960. С. 84.
20 Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. С. 239.
21 Сельское хозяйство СССР: статистический сборник. М., 1960. С. 420.
22 Социалистическое строительство СССР: статистический ежегодник. М., 1934. С. 12, 203; РГАЭ, ф. 1562, оп. 41, д. 65, л. 63; Народное хозяйство СССР в 1958 г.: статистический ежегодник. М., 1959. С. 352.
23 Ильиных В.А., Лапердин В. Б. Хлебозаготовки в Сибири… С. 496, 498, 499.
24 Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 годов… С. 55.
25 Правда. 1935. 4 декабря.
26 РГАЭ, ф. 1562, оп. 329, д. 1409, л. 1, 15–17; Ильиных В. А. Сельскохозяйственная статистика в Сибири (1920–1930-е гг.). Новосибирск, 2022. С. 143.
27 Продовольственная безопасность Урала в ХХ веке. 1900–1984 гг. Т. 2. 1929–1984 гг. / Под ред. Г. Е. Корнилова, В. В. Маслакова. Екатеринбург, 2000. С. 177.
28 РГАЭ, ф. 1562, оп. 329, д. 1409, л. 1, 15–17; Ильиных В. А. Сельскохозяйственная статистика в Сибири… С. 143.
29 Ильиных В.А., Лапердин В. Б. Хлебозаготовки в Сибири… С. 499, 500.
30 Социалистическое строительство СССР… М., 1934. С. 177, 211.
31 Сельское хозяйство от VI к VII съезду Советов. М., 1935. С. 143; Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода… С. 300–304.
32 Тулепбаев Б. А. Решение хлопковой проблемы в СССР // Вопросы истории. 1966. № 9. С. 10.
33 Посевные площади СССР: статистический сборник. Т. 1. С. 6; РГАЭ, ф. 1562, оп. 41, д. 65, л. 56, 63; Социалистическое строительство СССР… М., 1934. С. 177, 211; Победы социалистического сельского хозяйства. М., 1939. С. 88.
34 Социалистическое строительство СССР… М., 1934. С. 211.
35 Там же; Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода… С. 278–279.
36 РГАЭ, ф. 1562, оп. 41, д. 65, л. 56, 63; Социалистическое строительство СССР… М., 1934. С. 177, 211.
37 Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 4. М., 1955. С. 670.
38 Животноводство СССР… С. 4.
39 Победы социалистического сельского хозяйства. С. 125.
40 Правда. 1935. 4 декабря.
41 Посевные площади СССР... 1938 г. С. 121; Посевные площади СССР. Т. 1. С. 22.
42 См.: Исупов В. А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века. Новосибирск, 2000. С. 83–84.
43 Трагедия советской деревни… Т. 3. С. 705.
44 См.: Очерки истории крестьянского двора… С. 55–57; Ильиных В. А. Личное приусадебное хозяйство… С. 147.
45 Животноводство СССР… С. 108; Социалистическое строительство СССР. М., 1936. С. 294; Посевные площади СССР. 1938 г. ... С. 21.
46 Вылцан М. А. Завершающий этап создания… С. 200, 202, 204.
47 Животноводство СССР… С. 108; Сельское хозяйство СССР. С. 1369; Посевные площади СССР. 1938 г. ... С. 21.
48 История советского крестьянства. Т. 2. С. 377.
49 Подробнее см.: Осокина Е. А. Легенда о мешке с хлебом: кризис снабжения 1936/37 года // Отечественная история. 1998. № 2. С. 92–107; Леконцев О. Н. Голод 1936 г. в Кировской области и Удмуртской АССР // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2012. № 3. С. 21–27; Корнилов Г. Е. Демографическая ситуация на Урале в середине 1930-х гг. // Гуманитарные науки в Сибири. Т. 23. 2016. № 4. С. 60–66.
50 Политика раскрестьянивания в Сибири. Вып. 2. Формы и методы централизованных хлебозаготовок. 1930–1941 гг. / Отв. ред. В. А. Ильиных, О. К. Кавцевич. Новосибирск, 2002. С. 224.
51 РГАЭ, ф. 1562, оп. 41, д. 65, л. 55; Колхозы во второй сталинской пятилетке. С. 109–110; Вылцан М. А. Завершающий этап создания… С. 204.
52 Вылцан М. А. Завершающий этап создания… С. 208.
53 РГАЭ, ф. 1562, оп. 41, д. 65, л. 58; История советского крестьянства. Т. 3. С. 106–107.
54 История советского крестьянства. Т. 3. С. 107.
55 Гущин Н.Я., Кошелева Э. В., Чарушин В. Г. Крестьянство Западной Сибири… С. 175. Доля поступлений от работы в МТС составляла 3,1% от общей суммы денежных доходов, от работы по найму в сторонних организациях – 7,7, от продажи продукции ЛПХ (в том числе в счёт контрактации) – 59,2%.
56 Аграрная политика советского государства… С. 588–589.
Sobre autores
Vladimir Ilinyh
Institute of History, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Autor responsável pela correspondência
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, заведующий сектором аграрной и демографической истории
Rússia, NovosibirskBibliografia
- Зеленин И.Е. Зерновые совхозы СССР (1933–1941 гг.). М.: Наука, 1966. 247 с.
- Вылцан М.А. Советская деревня накануне Великой Отечественной войны (1938–1941 гг.). М.: Политиздат, 1970. 200 с.
- Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму (социально-экономическое развитие сибирской деревни в годы социалистической реконструкции народного хозяйства. 1926–1937 гг.). Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1973. 517 с.
- Гущин Н.Я., Кошелева Э.В., Чарушин В.Г. Крестьянство Западной Сибири в довоенные годы (1935–1941). Новосибирск; Наука. Сиб. отд-ние, 1975. 284 с.
- Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. М.: Наука, 1978. 263 с.
- Зеленин И.Е. Совхозы СССР в годы довоенных пятилеток. 1928–1941. М.: Наука, 1982. 239 с.
- История советского крестьянства. В 5 т. Т. 2. Советское крестьянство в период социалистической реконструкции народного хозяйства. Конец 1927–1937 / Ответ. ред. И.Е. Зеленин. М.: Наука, 1986. 448 с.
- История советского крестьянства. В 5 т. Т. 2. Т. 3. Крестьянство накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938–1945 / Ответ. ред. М.А. Вылцан. М.: Наука, 1987. 447 с.
- Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М.: РОССПЭН, 2008. 518 с.
- Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода. Сельское хозяйство СССР. 1931–1933. М.: РОССПЭН, 2011. 542 с.
- Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и её результаты (1929–1933). М.: РОССПЭН, 2014. 349 с.
- Лыкова Е.А., Проскурина Л.И. Деревня российского Дальнего Востока в 20–30-е годы ХХ века. Коллективизация и её последствия. Владивосток: Дальнаука, 2004. 188 с.
- Надькин Т.Д. Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М.: РОССПЭН, 2010. 311 с.
- Аграрная политика советского государства и сельское хозяйство Сибири в 1930-е гг. / Отв. ред. В.А. Ильиных, О.К. Кавцевич. Новосибирск: ИИ СОРАН, 2011. 608 с.
- Сельское хозяйство Сибири в ХХ веке: проблемы развития и кризисы / Отв. ред. В.А. Ильиных, О.К. Кавцевич. Новосибирск: ИИ СОРАН, 2012. 408 с.
- Проекты преобразования аграрного строя Сибири в ХХ веке: выбор путей и методов модернизации / ответ ред В.А. Ильиных. Новосибирск: ИИ СОРАН, 2014. 298 с.
- Ильиных В.А. Личное приусадебное хозяйство рабочих и служащих Сибири в 1930-е годы: динамика и тенденции развития // Уральский исторический вестник. 2022. № 3. С. 144-152.
- Очерки истории крестьянского двора и семьи в Западной Сибири. Конец 1920-х – 1980-е годы / Под ред. В.А. Ильиных. Новосибирск: ИДМИ, 2001. 188 с.
- Ильиных В.А. Становление и функционирование контрактационной системы в Сибири (конец 1920-х – начало 1930-х гг.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2014 г. Самара, 2015. С. 419-423.
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: документы и материалы / Под ред. В.П. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. Т. 3. Конец 1930 – 1933. М.: РОССПЭН, 2001. 1006 с.
- Ильиных В.А. Хроники хлебного фронта: заготовительные кампании конца 1920-х гг. в Сибири. М.: РОССПЭН, 2010. 343 с.
- Ильиных В.А., Лапердин В.Б. Хлебозаготовки в Сибири в 1930-е годы. Новосибирск: СО РАН, 2020. 507 с.
- Ильиных В.А. Сельскохозяйственная статистика в Сибири (1920–1930-е гг.). Новосибирск: СО РАН, 2022. 202 с.
- Продовольственная безопасность Урала в ХХ веке. 1900–1984 гг. Т. 2. 1929–1984 гг. / Под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова. Екатеринбург: Академкнига, 2000. 456 с.
- Тулепбаев Б.А. Решение хлопковой проблемы в СССР // Вопросы истории. 1966. № 9. С. 3-14.
- Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века. Новосибирск: Сиб. хронограф, 2000. 242 с.
- Политика раскрестьянивания в Сибири. Вып. 2. Формы и методы централизованных хлебозаготовок. 1930–1941 гг. / Отв. ред. В.А. Ильиных, О.К. Кавцевич. Новосибирск: Новосибирск: РИЦ НГУ, 2002. 253 с.
Arquivos suplementares