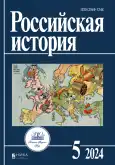Autumn militia in defense of Moscow (October 1941 – January 1942): from workers’ and fighter battalions to regular units of the Red Army
- Authors: Drozdov K.S.1
-
Affiliations:
- Center for the History of the Peoples of Russia and Interethnic Relations of the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences (IRI RAS)
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 142-162
- Section: Institutions and communities
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274826
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050097
- EDN: https://elibrary.ru/SKSWAU
- ID: 274826
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines the key moments in the history of the creation and formation of three Moscow volunteer divisions. They arose on the basis of the workers'/Communist and extermination battalions of Moscow in October 1941 as the last reserve on the near approaches to the capital. For a comprehensive study and analysis of the process of transformation of Moscow militia formations into regular units of the Red Army (November 1941- January 1942), not only new documents from the Central Archive of the Ministry of Defense (CAMO), but also unique interviews with former militia members from the Mints Commission of the Scientific Archive of the IRI RAS were used for the first time. An attempt has been made to reconstruct and show not only the military-organizational aspect of this process, but also an equally important humanitarian one, which can be reflected in the course of studying the military everyday life of that time.
Full Text
О создании дивизий народного ополчения (ДНО) в Москве в октябре–декабре 1941 г.1 немало написано ещё в 1960–1980-х гг.2 Однако они до сих пор остаются в тени летнего ополчения, и даже современные исследователи, обращаясь к данной теме, как правило, воспроизводят советский нарратив, не добавляя ни новых источников, ни хотя бы свежего аналитического взгляда3. Как следствие, целостная история формирования осенью 1941 г. добровольческих частей из рабочих/коммунистических и истребительных батальонов, их роли в обороне столицы и последующей трансформации в кадровые части РККА до сих пор не написана4. Между тем ставшие доступными исследователям источники, прежде всего из ЦАМО РФ, ЦГА Москвы и научного архива ИРИ РАН, позволяют значительно расширить понимание данной темы.
В частности, в архиве ИРИ сохранились многочисленные интервью и воспоминания рабочих, служащих, учащихся, которые осенью 1941 г. стали командирами, бойцами и политработниками 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии (3-я МКСД), а также бойцов истребительных батальонов отдельных районов столицы, которые в дальнейшем стали основой формирования для 4-й и 5-й Московских стрелковых дивизий (4-я и 5-я МСД)5. В материалах, собранных сотрудниками «Комиссии Минца» в 1942–1947 гг. по горячим следам тех событий и ранее не публиковавшихся, достаточно подробно освещён начальный период создания добровольческих частей. На их основе, а также с учётом уже опубликованных и выявленных в других архивах документов я предлагаю реконструкцию ключевых моментов истории осеннего ополчения Москвы.
После вяземской катастрофы (начало октября 1941 г.) советскому командованию ценой невероятных усилий удалось восстановить Западный фронт: найти последние неиспользованные резервы в действующей армии и столице, вывести на основные укрепрайоны можайской линии обороны более или менее боеспособные части и завязать на малоярославецком, можайском и волоколамском направлениях упорные оборонительные бои против танковых и механизированных дивизий вермахта. Тем не менее к середине октября можайская линия оказалась частично прорвана, что создало угрозу быстрого выхода противника на ближние подступы к Москве. В этих условиях ЦК ВКП(б) и ГКО объявили эвакуацию правительства и наркоматов, основных предприятий оборонной промышленности, минировании важнейших административных и промышленных объектов города6.
12 октября ГКО принял решение в кратчайшие сроки создать новую систему оборонительных рубежей7. В условиях отсутствия регулярных войск занять их должны были части, формировавшиеся из москвичей-добровольцев, и истребительные батальоны 25 районов столицы. Так началось создание третьей (после ржевско-вяземской и можайской) линии обороны и формирование войск обороны Москвы, преобразованных 2–3 декабря в Московскую зону обороны (МЗО). Руководство обороной столицы и подступов к ней возложили на командующего Московским военным округом (МВО) и войсками московского гарнизона генерал-лейтенанта П. А. Артемьева. В тесной связке с командованием округа должны были действовать, оказывая друг другу самую активную помощь и поддержку, городские и районные партийные организации, а также Моссовет.
Днём 13 октября Московский горком провёл собрание партийного актива, на котором с докладом выступил первый секретарь горкома и обкома А. С. Щербаков. Он заявил: «По совету ЦК мы должны сосредоточить свои усилия на следующих мероприятиях… Коммунисты, комсомольцы и беспартийные хотят активно, с оружием в руках, принять участие в бою. Мы приступили к созданию в районах рот, а в некоторых районах батальонов… Назначение этих батальонов – быстро обучить стрелковому, пулемётному, гранатомётному и миномётному делу. Как только военное дело будет изучено, наши роты немедленно будут вливаться в действующие части. Не исключено, что нашим ротам придётся выполнять и самостоятельные задачи. В этом свете – отбор в роты провести тщательно, подобрать людей крепких, цепких и преданных. Тем более что количество людей будет значительно меньше, чем было взято в народное ополчение. Практические поручения и детали этого мероприятия секретарям РК сообщены»8. В резолюции собрания первым пунктом в списке задач партийных организаций значилась «организация рот и батальонов в районах из коммунистов, комсомольцев и беспартийных для быстрейшего их обучения стрелковому, пулемётному, миномётному и гранатомётному делу, особенно для борьбы с танками, с тем чтобы затем вливать их в действующие части»9.
В этот же день секретариат МГК принял постановление о создании городского штаба по формированию коммунистических/рабочих рот и батальонов под руководством заведующего военным отделом горкома А. И. Чугунова. В него также вошли С. Г. Чесноков (штаб МВО), А. Н. Шелепин (горком ВЛКСМ), С. К. Черных (горвоенком), П. С. Сергеев (горсовет Осоавиахима). Одновременно создавались районные штабы в составе 3–5 человек. Райкомам поручалось закончить формирование рот и батальонов 14 октября и немедленно приступить к их обучению по сокращённой программе10. Они формировались в каждом из 25 районов Москвы как на добровольной основе, так и в порядке партийной мобилизации. «Штат батальона трудящихся» насчитывал 697 человек, из них управление батальона – 10, две стрелковых роты – 448, пулемётная рота – 130, взвод истребителей танков – 40, отделение боевого питания – 17, отделение связи – 7, хозяйственный взвод – 15, медико-санитарный – 17 человек11.
Запись в батальоны фактически началась ещё на собрании партактива. В последующие два дня по заводам и учреждениям прошли митинги, на которых звучал призыв МГК к защите Москвы, по их окончании начиналась запись добровольцев. В некоторых районах прошли собрания партактива. «Группа политработников политуправлением МВО была выделена главным образом за счёт партийных курсов, в помощь МГК ВКП(б) по формированию рабочих батальонов, и в ближайшие два дня после инструктажа лично тов. Щербакова помогала формировать организованные подразделения на предприятиях районов города и сводить их в рабочие батальоны порайонно. Под размещение рабочих батальонов были заняты преимущественно школы, расположенные близко к райкомам», – рассказывал в июне 1943 г. начальник политотдела 53-й гвардейской СД подполковник К. А. Бирюков12.
Приказ войскам Московского гарнизона № 005/оп от 14 октября за подписью Артемьева и начальника штаба МВО генерал-майора Кудряшова определил линию оборонительного рубежа. Главный участок в форме полукруга радиусом 15–20 км проходил через Ростокино, Лихоборы, Коптево, Химки, Иваньково, Щукино, Петтех, высоту 180,4, Кунцево, Матвеевское, Никольское, Зюзино, Волхонку, Батраково. Оборонительным строительством руководил заместитель председателя исполкома Моссовета М. А. Яснов, а самим рубежом – заместитель председателя исполкома Моссовета по МПВО и заместитель командующего МВО генерал-майор С. Ф. Фролов, который получил поручение в ближайшие два дня сформировать его штаб. Рубеж следовало разбить на пять секторов, назначив их начальников и комиссаров, а занять его должны были коммунистические и комсомольские батальоны. Моссовету предстояло «выделить из числа формируемых партийно-комсомольских батальонов в распоряжение начальника оборонительного рубежа необходимое количество этих батальонов, после того как они будут сколочены»13. Вечером 14 октября в Моссовет в распоряжение Фролова прибыла группа слушателей Военной академии им. Фрунзе, которая должна была рекогносцировать рубеж на четырёх секторах из пяти. «У меня в памяти запечатлелись, и, вероятно, у каждого тогда из присутствующих, слова генерала: “Костьми лечь, но Москвы не сдать”. На этом он закончил разъяснение общей задачи», – вспоминал и. д. начальника штаба 53-й гвардейской СД гвардии майор Г. А. Жерихин14.
15 октября на заседании Военного совета МВО рассматривались ход формирования рабочих батальонов и вопросы обеспечения их вооружением в тех районах, где не имелось военных заводов. Вечером Фролов приказал Жерихину срочно вооружить 25 батальонов. «В складе оружия было очень много, – вспоминал последний, – но винтовки, штыки и патроны не соответствовали по своим системам… Встречались польские винтовки, но патронов польских не было, а были только русские15… В 9 часов 16 октября все районы, за исключением Таганского и Первомайского, были вооружены. После уже сам Чугунов… связывался с секретарями этих районов. Часам к 12 они также были вооружены… Я доложил генерал-майору Фролову, что приказ выполнен, что задержка получилась из-за двух районов, по таким-то причинам»16. Тем временем командный состав формируемых батальонов к 3 часам утра 16 октября прибыл в Моссовет на совещание с Фроловым, где тот сообщил о прорыве можайской линии и необходимости в скором времени выступить на рубежи обороны17.
На заводах, предприятиях и в учреждениях активно шла запись добровольцев, прежде всего из числа коммунистов и комсомольцев, и отправка их на сборные пункты (как правило, они располагались в зданиях школ). Там они получали вооружение и обмундирование, проходили первоначальное обучение (изучение материальной части стрелкового оружия), а затем маршевым порядком выступали на рубеж. Как это происходило 14–17 октября, можно представить из интервью, отложившихся в архиве «Комиссии Минца»18. Среди прочего отмечалось, что парторганизации заранее готовили списки коммунистов, которые должны были пойти на защиту Москвы, т. е. формирование батальонов проходило не только за счёт беспартийных добровольцев. Так, рабочий завода «Москабель», член партии с 1938 г. В. Г. Егоров вспоминал: «14 октября меня вызвали в партбюро. Членами партбюро были Смыслов, Сергеев. Они говорят: “Тов[арищ] Егоров, Москва в опасности, надо идти защищать Москву”. У них был приготовлен список»19. Комиссар батальона трудящихся Советского района Г. Я. Гольштейн подтверждал: «14.10.41 г. в 10 часов утра было созвано совещание секретарей первичных парторганизаций Советского района, где было объявлено секретарём РК ВКП(б) т. Андреевым о формировании батальона трудящихся г. Москвы. В связи с этим было предложено секретарям парторганизаций отобрать самых лучших членов парторганизаций, комсомольцев и непартийных большевиков с предприятий, учреждений и учебных заведений в порядке добровольной записи, а также в порядке партмобилизации»20. Интересно отметить, что, несмотря на панику, охватившую столицу 16 октября, число желающих вступить в батальоны не уменьшалось. Командир батальона Свердловского района П. Пшеничный вспоминал: «16 октября прибыло около 150 человек, из них часть отпросилась на несколько часов для проводов эвакуирующихся семей, часть из них потом не возвратилась. Всего из этого состава осталось около 140 человек. Зато 16 и 17 октября, когда угроза Москве почувствовалась наиболее остро, наплыв добровольцев, и партийных, и беспартийных, значительно усилился. РК ВКП(б) производил тщательный отбор, и даже при этих условиях мы к концу дня 17 октября имели около 350 человек»21.
Бойцами, командирами и политработниками оказались люди самых разных возрастов, профессий, образовательного уровня. «Здесь были металлурги и часовщики, слесаря́ и бухгалтерá, токаря́ и агрономы, преподаватели и студенты, но всех их объединяло общее дело – защита Москвы», – писал В. И. Козлов, тогда 19-летний студент индустриально-конструкторского техникума, который ушёл добровольцем в батальон Дзержинского района22. Один из участников создания Ростокинского батальона вспоминал, что «в батальон шли лучшие люди, которые свою жизнь не отделяли от жизни партии и советской Родины»23.
В период с 12 по 20 октября оружие и боеприпасы завозились из Подмосковья (Загорск, Бабушкино) и затем распределялись через военотделы райкомов24. Кроме того, оружие поставляли «из районных советов Осоавиахима и райсовета, от учебных заведений, а также от крупных предприятий»25. В Киевском районе для этой цели использовали реквизит Мосфильма, «в числе которого оказалось значительное количество изношенных и неукомплектованных французских винтовок, применявшихся при съёмках исторических фильмов»26. Кроме того, «гранаты боевые, как РГД-33, так и “полька”, были получены непосредственно с заводов промкооперации, их производящих, по знакомству, на основании простой записки», и др .27
Практически все вступившие в батальоны вспоминали о трудностях овладения оружием, прежде всего пулемётами иностранных образцов. Причём как «патриоты-добровольцы» их «подчас впервые видели», так и сами командиры знали это оружие «весьма приблизительно, более понаслышке»28. В первые дни большинство бойцов занимались набивкой пулемётных лент, так как патроны получали в пачках: «Никаких приспособлений не было, и вся рота засела для того, чтобы ручным способом набивать патроны. Набивали по непривычке очень неумело, патроны располагали так, что перекос был обеспечен»29. Пулемётная рота из батальона Советского района 16 октября получила 16 станковых «Максимов», 40 лент и 10 тыс. патронов: «Несмотря на ручной способ набивки патрон[ов], отдельные бойцы набивали до 100–110 патронов в час, с одновременным выравниванием их в ленте»30. Тем же самым занимались бойцы Куйбышевского батальона: «Возвратились в роту часов в 10 утра, привезли оружие: пулемёты, винтовки, гранаты… Весь огромный коридор школы заставлен пулемётами и патронными ящиками, все свободные руки бойцов, в том числе и дружинниц, заняты набивкой лент»31. О том, как 16–17 октября бойцы Свердловского батальона набивали пулемётные ленты в здании театра «Ленком», рассказывал гвардии майор С. П. Партигул: «Располагались мы в зрительном зале театра. Стулья были сдвинуты в сторону. На сцене происходила набивка патронов, а на полу мы спали. Присаживались на стулья и там отдыхали, изучали пулемёт»32.
Затем началось изучение материальной части оружия, гранат, строевые занятия33. В первое время у бойцов отсутствовало обмундирование, большинство по-прежнему носили гражданскую одежду: «Вид у нас был боевой, но далеко не военный… кто в ботинках, кто в сапогах, в шубах, пиджаках и пальто. Всюду мелькали разноцветные мешки за плечами. Кепки, шляпы и шапки пестрели на головах» (из воспоминаний о формировании батальона Москворецкого района)34. Схожая ситуация наблюдалась и в Свердловском районе: «Обмундирования форменного мы не получали, но те, кто был плохо одет или обут, тому выдавали обувь, телогрейки, шаровары и т. д.»35; «Удаётся получить кое-где обмундирование, все одеты пёстро, кто в шапке, а кто в пилотке»36.
16 октября в дополнение и изменение приказа от 14 октября командующим войсками оборонительного рубежа стал генерал-майор Д. В. Крамарчук37, до этого – начальник штаба истребительных батальонов Москвы и Московской обл.; Фролов стал его заместителем38. Рубеж разделили на три боевых участка, каждый под командованием начальника и комиссара39. Остальные пункты приказа касались коммунистическо-комсомольских (они же рабочие) и истребительных батальонов, которые должны были занять оборонительный рубеж к 10 часам утра 17 октября с задачей не допустить прорыва противника. Их поручалось «свести в полки, сформировав из коммунистических и комсомольских батальонов два полка и четыре полка из истребительных батальонов40. Штабы полков сформировать по штату военного времени». Окружному интенданту указывалось принять батальоны на довольствие и обеспечить их бесперебойным питанием41.
В 2 часа утра 17 октября Крамарчук издал приказ войскам рубежа, согласно которому «для обороны г. Москвы назначены два коммунистическо-комсомольских полка и пять истребительных полков, усиленных артиллерией и танками». 1-й и 2-й коммунистические полки под командованием майора Е. И. Зелика занимали оборону на боевом участке № 1 (северо-западные подступы). 1-й и 2-й истребительные полки обороняли участок № 2 (начальник – майор П. С. Гавилевский), а 3-й, 4-й и 5-й – участок № 3 (начальник – полковник С. Е. Исаев).
Сохранился боевой приказ № 1 штаба участка № 1 за подписью Зелика от 8 часов утра того же дня. В нём, в частности, говорится, что «мотомехчасти противника намереваются захватить северо-западные подступы к Москве и город Москву», в связи с чем полки должны организовать к 10 часам утра оборону по линии Владыкино–Иваньково–посёлок Хорошёвский–северная окраина Всехсвятского42. Сохранилось также боевое донесение № 1 того же штаба от 8 часов утра 18 октября о том, что полки в составе 11 рот к 19 часам вечера предыдущего дня заняли оборону на линии Владыкино–Никольское–Щукино. При этом 1-й полк в составе шести рот (Кировская, Первомайская, Сталинская, Сокольническая, Красногвардейская, Бауманская) оборонял участок Владыкино–Никольское–станция Подмосковная, а 2-й в составе пяти рот (Калининская, Ростокинская, Молотовская, Коминтерновская, Куйбышевская) – Никольское–Хорошёво–железнодорожная балка. При этом Зелик сообщил, что станковые пулемёты к стрельбе не готовы, подготовка пулемётчиков слабая, «бойцы стрельбой из винтовок не овладели, так как все винтовки иностранного происхождения, которые ранее не изучались», к тому же большинство винтовок не имеют ружейных принадлежностей43. 19 октября Зелика сняли с должности за то, что он не смог организовать своевременный выход на рубеж обороны остальных 14 батальонов. 20 октября его сменил полковник А. И. Ромашенко, а Зелик стал начальником оперативного отделения штаба боевого участка.
По состоянию на 19 октября в 1-й полк вошли добровольцы 14 районов: Красногвардейского, Кировского, Первомайского44, Сталинского, Сокольнического45, Краснопресненского46, Бауманского, Ленинградского, Советског47, Свердловского48, Фрунзенского49, Киевского, Ленинского и Тимирязевского50. Штаб полка располагался в Тимирязевской сельскохозяйственной академии51. Во 2-й полк должны были войти добровольцы остальных 11 районов: Москворецкого52, Октябрьского53, Дзержинского54, Железнодорожного55, Таганского, Калининского, Ростокинского56, Молотовского57, Коминтерновского58, Куйбышевского59 и Пролетарского. Его штаб расположился в районе деревни Щукино60. Пунктом переформирования батальонов в стрелковые полки стала сельхозакадемия с прилежащими к ней оборонительными рубежами (Лихоборы)61. Командный состав полков формировался из слушателей последних курсов Военной академии им. Фрунзе. Так, майор Кузнецов стал командиром 1-го СП, а старший лейтенант Дудченко – начальником его штаба, капитан Довнар – командиром 2-го СП, старший лейтенант Павлов – начальником штаба. Но трудности заключались в том, что в батальонах «командный состав был из добровольцев, не имеющих воинской закалки», командование батальонов располагалось в зданиях школ, «и их местонахождение не всегда было известно»62.
В боевом приказе № 2 от 22 часов вечера 23 октября за подписью полковника Ромашенко говорится о местах дислокации частей участка № 1 в составе двух полков, усиленных тремя артиллерийскими дивизионами, и о необходимости подготовить оборону к 19 часам вечера 24 октября, «имея задачу не допустить противника к северо-западным подступам г. Москвы»63. С этой целью в 15.30 24 октября штаб участка № 1 приказал организовать охрану всех шоссейных и железнодорожных мостов на участке обороны 1-го и 2-го полков из расчёта одно стрелковое отделение с ручным пулемётом на каждый мост. 26 октября начальник штаба 2-го полка старший лейтенант Токарев донёс о выполнении приказа: Тушинский мост и само Тушино взяты под охрану 1-м батальоном, мосты в районе Гориносова и Павшина – 3-м батальоном, посты на них выставлены64.
В боевом донесении № 1 штаба 1-го участка от 24 октября в штаб обороны войск Москвы говорится о том, что «формирование частей 1-го боевого участка в основном закончено». Даны подробные сведения о численном составе и боевом вооружении двух коммунистических стрелковых полков. 1-й полк состоял из четырёх батальонов, каждый из которых включал в себя три стрелковых и одну пулемётную (16 станковых пулемётов) роты, взводы связи, разведывательный и медико-санитарный. Специальные подразделения при управлении полка были сформированы полностью, за исключением батарей противотанковой артиллерии (из-за отсутствия материальной части). Общая численность личного состава составила 3 683 человека, из них старшего комначсостава – 27, среднего – 265, младшего – 609, рядовых – 2 782 человека. Признавалось, что «подготовка личного состава чрезвычайно низкая». На вооружении полк имел 2 940 винтовок, из них отечественных – 388, французских – 1 031, польских – 1 100, английских – 72, канадских – 201 и чехословацких – 147. Станковых пулемётов насчитывалось 173 (из них отечественных – 77, чехословацких – 6, немецких «Максима» – 90), ручных – 110 (из них отечественных – 29, польских – 39, чехословацких – 11, американских – 15), пистолетов ППД и автоматов – 93, браунингов – 16.
2-й полк также состоял из четырёх батальонов общей численностью 3 232 человека, из них старшего комначсостава – 12, среднего – 285, младшего – 365, рядовых – 2 570 человек. Подготовка состава аналогична 1-му полку, на вооружении числилось 2 077 винтовок (отечественных – 408, французских – 452, польских – 1 212, австрийских – 5), 123 пистолета ТТ, 91 ручной и 113 станковых пулемётов65. В результате из 25 рабочих/коммунистических батальонов Москвы в соответствии со штатами военного времени сформировали восемь батальонов, составивших два коммунистических полка. На 24 октября их численность достигла 7 963, а к 30 октября, после передачи им некоторых специальных подразделений (артдивизионов), – 9 753 человек66.
Одновременно на рубежи обороны стали выходить бойцы истребительных батальонов, из которых сформировали пять полков. В. А. Колесниченко, бывший в те дни военным комиссаром батальона Железнодорожного района, вспоминал, что ещё 15 октября начальник Управления НКВД по Москве и Московской обл. Журавлёв вызвал к себе на совещание батальонных командиров и комиссаров и сказал, что «немцы находятся недалеко от Москвы, и надо подготовиться к отправке на фронт». 16 октября последовал приказ отбыть на рубеж. 17 октября командование батальона провожала секретарь райкома Наумова. «Мы погрузились и отправились в Воронцово, – рассказывал Колесниченко, – 3 километра от Москвы. Там нам были указаны позиции. Бойцы приступили к рытью окопов. Затем нас отправили в другое место, по направлению к Подольску, на окраину посёлка завода им. Сталина. Там мы вместе с населением принимали участие в рытье окопов и блиндажей. Это было уже 20 октября. За эти пять дней мы переходили с места на место... на участке Котлов. Мы рыли окопы самостоятельно, а рядом с нами население рыло оборонительные укрепления. Через два дня мы вырыли окопы и засели в них. Затем нас сменила кадровая часть, и нас перебросили обратно в Кунцевский район, в деревню километров 10 от Москвы. Мы снова там вырыли окопы в конце октября и начале ноября и стояли там 2 месяца. Каждая рота заняла свою позицию, и батальон, включившись в полк67, вместе с полком готовился к обороне. Наши бойцы принимали участие в разведке, в передовом охранении и здесь стояли до января месяца»68.
Следует отметить, что добровольческие формирования включали в себя довольно много девушек и женщин. Только в 3-й МКСД их насчитывалось до 600. «Помню, что в полку и во всей дивизии оказалось много женщин, не только медработников. Они входили и в лыжный батальон, а позднее главным образом в санбат и в канцелярию полка»69, – вспоминал в 1965 г. А. Л. Сидоров, в октябре 1941 г. политрук 3-го полка 3-й МКСД, будущий директор Института истории АН СССР. «Часть девушек потом отсеяли, и нас осталось человек 15. Мы стояли в школе несколько дней, рвались в бой. Ничего не было, дали какие-то канадские винтовки, доисторические, – рассказывала бывшая медсестра 3-й МКСД Л. М. Бернштейн. – Я была в сапёрной роте. Ребята строили укрепления, тянули проволочное заграждение, я ходила с ними. Поцарапается кто-нибудь, ужалится – я оказывала помощь, добывала хлеб ребятам у крестьян, иногда молоко»70.
24 октября приказом № 013 командующего войсками МВО Артемьева части обороны, занимавшие участки на ближних подступах к Москве, свели в три войсковые группы: северо-западную, западную и юго-западную. Первая (бывший боевой участок № 1), командиром которой стал бывший комендант 35-го укрепрайона полковник Ромашенко, состояла из 1-го и 2-го коммунистических стрелковых полков71, 262, 276 и 278-го отдельных артдивизионов противотанковой обороны (ПТО). Её задача состояла в обороне полосы по линии Коровино–Химгородок–Щукино–Марьина Роща с целью прикрыть Клинское и Волоколамское направления. Разведку следовало вести в направлениях: Шереметьевский, Чёрная Грязь, Юрлово, Нахабино.
Вторая группа (бывший боевой участок № 2)72 под командованием Крамарчука, состояла из 1–5 истребительных стрелковых полков73, 49-й отдельной роты, 261, 266, 267, 273-го отдельных артдивизионов ПТО, дивизиона РС, 16-го и 17-го воздухоплавательных отрядов. Она должна была оборонять полосу Щукино–Конюшки–Кунцево–Раменки–Никольское–Воронцово– Шелепиха–Воробьёво с целью прикрытия Можайского и Наро-Фоминского направлений. Передовая позиция устанавливалась на линии Тропарёво– Сетунь, а разведку предстояло вести вдоль Можайского и Наро-Фоминского шоссе и старой Калужской дороги до рубежа Покровское–Малые Вязёмы–Апрелевка–Красная Пахра.
Наконец, третья группа (бывший боевой участок № 3), которую возглавил командир 332-й СД полковник С. А. Князьков, состояла из 332-й стрелковой дивизии им. Фрунзе, 268-го отдельного артдивизиона ПТО и отдельного истребительного батальона74 и обороняла полосу Деревлево–Котляково–Братеево–Нижние Котлы–Нагатино, прикрывая подольское направление. Передовая позиция располагалась по линии Узкое–Красное–Царицыно–Хохловка. Разведку следовало вести в направлениях: Подольск, Домодедово, Бронницы75.
В это же время был утверждён новый план обороны Москвы76. К началу ноября все имеющиеся войска насчитывали 39 023 человека. При этом 24 304 (62,3%) составляли добровольцы рабочих (коммунистических) и истребительных батальонов. Партийно-комсомольская прослойка в первых составляла 80–90%, во вторых – 60%77.
Приказом МВО № 0021 от 28 октября управление Северо-Западной группы войск и два коммунистических полка были преобразованы в Дивизию московских рабочих под командованием полковника Ромашенко. В её составе создали третий полк, объединив 3-й и 5-й батальоны 1-го и 4-й батальон 2-го коммунистических полков. Истребительные полки 1-го и 2-го боевых участков Западной группы войск преобразовывались в 1-ю и 2-ю отдельные бригады московских рабочих78. С этого момента, на мой взгляд, начинался новый этап в истории осенних добровольческих формирований – они пошли по пути необратимого преобразования в кадровые части РККА. В те же дни (28–30 октября) окончательно расформировали рабочие/коммунистические батальоны, а их личный состав распределили по подразделениям вновь созданной дивизии79. «Мы перешли на довольствие красноармейского пайка в 1 СП, так как до 29.10.41. мы питались в столовой треста Главресторан, частично за свой счёт и за счёт райсовета», – вспоминал спустя несколько лет Гольштейн80. Схожую ситуацию наблюдал Партигул, тогда политработник батальона Свердловского района: «Мы перешли на нормальное питание частей Красной армии – походная кухня, котелки и т. д. К этому же времени мы были и обмундированы. Причём вместо удобных бушлатов нам выдали почему-то чёрные шинели, которые придали нам вид не то пожарных, не то вахтенной охраны»81.
Организационная перестройка войск обороны Москвы продолжилась. Приказом частям 2-й бригады № 006 от 15 ноября 1-ю и 2-ю отдельные бригады московских рабочих преобразовали в 4-ю и 5-ю московские стрелковые дивизии82. Дивизия московских рабочих в соответствии с приказом о переименовании и переходе на новые штаты № 003 от 17 ноября стала 3-й МКСД83.
В начале–середине ноября на Западном фронте наступила оперативная пауза: немецкие части не сумели прорваться к Москве, им пришлось остановить наступательные действия для перегруппировки и подтягивания резервов. Благодаря этому части обороны столицы смогли завершить оборудование оборонительного рубежа, провели боевую и политическую подготовку, боевое слаживание («сколачивание»), доукомплектование личным составом84. Работа проходила в быстром темпе. Так, боевой приказ по Дивизии московских рабочих № 10 от 3 ноября требовал от командиров полков к исходу дня завершить строительство оборонительных сооружений, а для личного состава построить землянки-блиндажи, оборудовав их нарами, матами и печами. Основной упор в боевой подготовке следовало сделать на практическом освоении оружия, состоящего на вооружении бойцов, отделений, взводов, рот, и на умении бороться с танками в любых условиях. Оружие во время строительных работ следовало держать вблизи, составленным в кóзлы, под охраной часового. Категорически запрещалось размещать личный состав для отдыха в домах85.
С 29 октября 3-я рота 2-го СП, получив полное обмундирование, выступила на новый оборонительный рубеж в районе деревни Щукино. Бойцы роты вспоминали: «Наряду с земляными работами проводились первые боевые стрельбы, бросание гранат и зажигательных бутылок. Многие из бойцов здесь стреляли впервые… бойцы впервые перешли жить в землянки, которые оборудовали хорошо и в короткий срок, даже провели электричество и радио». 13 ноября рота передвинулась ближе к фронту, в район деревни Мякинино, где «приходилось сочетать работу на постройке рубежа с круглосуточными усиленными караулами по охране рубежа, мостов и минных полей. Постройка рубежа была проведена в очень короткий срок. Начавшиеся морозы и беспрерывные боевые тревоги не приостановили темпов работ и боевой и политической учёбы на рубеже»86. С другой стороны, Партигул свидетельствовал: «Более или менее нормальная учёба началась только в ноябре… начали проводиться учебные стрельбы»87.
Наряду с военным обучением добровольцев, многие из которых до этого не служили в армии, важнейшей задачей командиров и политработников стало поддержание дисциплины, изучение и освоение личным составом воинского устава, армейских порядков. В сентябре 1942 г. Богомолкин рассказывал: «Народ был сугубо гражданский. У нас было много директоров, начальников главков. Получилось так, что младший командир, командир взвода и даже отделения командовал над своим начальником главка. Тот рядовым оказался, а этот командиром отделения. Он очень робко к нему подходил: Пётр Иванович – гроза вчерашняя. Нам много пришлось поработать над авторитетом и ролью низового командира. Большое панибратство было. Они вместе выпивают – свои люди, с одного завода, из одной организации. А на второй день у них ничего не клеится. Командир роты пил с ними, а те ему достают, потому что они влиятельные люди. Обратно возвращаются: этот командир, этот подчинённый – ничего не получается. Подчинённый смотрит на командира: да брось ты петушиться, я тебя не знаю, что ли. Нам иногда даже приходилось репрессировать больших людей»88. Партигул отмечал: «Слабость дисциплины определялась общей неорганизованностью и тем, что часть ещё не устоялась… Так как бойцам разрешалось ходить в магазины за хлебом и другими вещами, многие ходили и не спрашивая разрешения»89.
По-видимому, одним из первых документов, касавшихся боевой подготовки личного состава, стал приказ штаба 3-й МКСД № 007 от 11 ноября. В нём формулировались цели и задачи для старшего, среднего и младшего командного состава, рядовых бойцов90 и штабов разных уровней. В частности говорилось: «При проведении занятий по боевой подготовке особенное внимание обратить на отработку смелого, инициативного бойца и командира, готового вести бой в окружении с превосходящими силами противниками до полного его уничтожения. Обратить особое внимание на отработку вопросов ведения боя и огня ночью и при наличии распутицы и снега. 30% всех занятий проводить ночью, тренируя комсостав и бойцов в уменье быстро ориентироваться на местности»91. 21 ноября вышел приказ по 3-й МКСД № оп/27, который требовал от командиров стрелковых полков срочно закончить все оборонительные работы и с утра 23 ноября перейти на 12-часовые занятия по боевой подготовке92.
Но провести полноценную подготовку ни 3-я дивизия, ни её соседи – 4-я и 5-я – не успели, так как обстановка на фронте резко изменилась: противник возобновил наступление. Утром 26 ноября, когда немецкие танковые и пехотные дивизии вышли на рубеж Рогатино–Белавино–Солнечногорск, последовал приказ по 3-й МКСД № 7 о приведении войск обороны в полную боевую готовность. В нём говорилось: «Всем частям и подразделениям дивизии занять основные боевые позиции в окопах и блиндажах. Командирам частей перейти на основные командные и наблюдательные пункты». Командиры подразделений дивизии должны были организовать усиленную разведку по четырём направлениям с целью обнаружения противника93. Было приказано «немедленно выдать на руки бойцам зажигательные бутылки из расчёта по две на каждого бойца и по две противотанковые гранаты», а также мобилизовать приданные дивизии огнемётные подразделения94. В боевом донесении штаба 3-й МКСД № 2 в штаб обороны Москвы от 27 ноября говорилось: «Части дивизии к 20.00 26.11.1941 г. приведены в полную боевую готовность, личный состав частей находится в окопах, командиры частей на своих основных КП (Командный пункт. – К.Д.). Батальоны обеспечены боевыми патронами по одному боевому комплекту на руках и одному на БПП (Батальонный патронный пункт – К.Д.). Снабжены бутылками с зажигательной жидкостью и противотанковыми минами. Штаб дивизии на КП переходит 11.00 28.11.1941 г.»95. 30 ноября вышел приказ по 3-й МКСД № 0011 «О взрыве минированных объектов», согласно которому части дивизии, на участках которых расположены такие объекты, должны были немедленно привести их в готовность, проверив исправность подрывного оборудования96.
В связи с продвижением противника вдоль Волоколамского шоссе части 3-й МКСД вновь приводились в полную боевую готовность. Командиры получили приказ проверить ориентацию системы огня на стыках между полками, а командир 2-й СП – увязать и проверить систему огня на стыке с частями 4-й МСД97. 4–5 декабря командиры 1-го и 3-го СП получили указания отдельными батальонами занять новые рубежи обороны – на направлениях вероятных подступов противника – и приготовиться не допустить его продвижения к переднему краю обороны98. Партигул отмечал: «Режим был такой, как будто мы находимся на переднем крае: спали, не раздеваясь, пулемёты всегда находились в окопах, причём полрасчёта дежурила у пулемёта, а половина отдыхала»99. Бывший доброволец с завода «Москабель» лейтенант А. И. Малыгин рассказывал: «Мы заняли оборону, рыли окопы, делали землянки. Немцы были у Химок… были случаи, что происходили авиационные налёты, просачивались немецкие автоматчики»100. Другой ополченец с того же завода В. Г. Егоров, направленный в район Дмитрова на охрану минных полей и мостов, вспоминал: «Боеприпасы мы брали с собой. В окопах было сделано хранилище, где лежали гранаты. Личное оружие было с собой: винтовка, пара гранат РГД. Остальные гранаты были в специальном хранилище в окопах… Однажды нам подвезли горячую пищу. Мы вылезли пообедать, в это время нас обстреляли немцы с самолёта, среди бела дня… Расставили посты. У каждого моста мы заложили тол, провели соответствующие шнуры. Цель была такая: на случай наступления немцев мы преграждаем им путь и взрываем мосты»101.
Как только началось успешное контрнаступление советских армий и миновала непосредственная угроза захвата столицы, ополченческие дивизии, со 2 декабря входившие в Московскую зону обороны, вновь приступили к боевой подготовке, началось их доукомплектование недостающим личным составом и специальными частями. 14 декабря последовал приказ командиру 3-го стрелкового полка 3-й МКСД снять передовые отряды с занимаемых рубежей, а все заграждения и минированные объекты в районах передовых отрядов сдать по акту воинским частям, расположенным впереди102. 15 декабря вышел приказ № 018 «О боевой подготовке частей и подразделений», согласно которому с 16 декабря в частях дивизии, находившихся на позициях, предстояло отводить на боевую подготовку шесть часов в день плюс два часа ежедневно на самоподготовку к предстоящим занятиям. В специальных подразделениях и частях, которые не находились на оборонительных позициях, на занятия по боевой подготовке отводилось 12 часов в день. Главное внимание следовало уделить «изучению оружия и подготовке его к безотказному действию в зимних условиях», «умению вести меткий прицельный огонь каждым стрелком и наводчиком», «знанию команд по управлению огнём командиром отделения и взвода», «изучению местности, её разведыванию, наблюдению за полем боя», «быстроте изготовки к бою отделения и взвода, добиваясь инициативного занятия места бойцом в боевом порядке»103. Н.И. Жур вспоминал, что военная подготовка личного состава и материальное обеспечение специальных подразделений заметно усилились в середине декабря, а лозунгом на декабрь 1941 – январь 1942 г. стал призыв в ускоренные сроки подготовить из себя грамотных в военном деле бойцов104. При этом учёба сочеталась с непосредственной обороной Москвы. «Тактические занятия в масштабе отдельных частей и в целом дивизией… показали, что личный состав дивизии в основном слажен, оружием овладел и с основами элементарной тактики наступательного боя и обороны знаком… занятия получили высокую оценку со стороны командующего МВО генерал-лейтенанта Артемьева и члена Военного совета дивизионного комиссара Телегина. Тов. Щербаков поставил задачу отработки ряда специальностей, как то: снайперов, миномётчиков и др.», – вспоминал тогдашний начальник политотдела дивизии Бирюков105.
Приказ № 076 от 28 декабря «Об итогах боевой подготовки за декабрь и задачах на январь 1942 г.» отметил главные ошибки при проведении занятий: «Большинство командиров плохо готовится к проведению занятий, в результате чего качество учёбы низкое… в учёбе с командным составом и особенно с бойцами руководители занятий допускают словесность, всячески избегая показ и практическую тренировку в показанном, в силу этого усвояемость низкая… большинство занятий проводятся не практически в поле, на стрельбище, в тире и т. д., а в помещении и землянках теоретически… ночные тактические занятия большинством командиров частей и подразделений недооцениваются, практически их не проводят»106. Основной ставилась задача по «сколачиванию отделений, взвода и роты». Тактическую подготовку требовалось вести по темам наступательного боя и отрабатывать с таким расчётом, чтобы «к концу января части могли делать трёхсуточные марши с боями при минимальном отдыхе и быть боеспособными». Взводные и ротные учения следовало проводить методом подвижных лагерей на двухсторонних занятиях, причём каждая рота должна была пройти в январе два трёхсуточных марша. Треть всех тактических занятий проходила ночью. Наконец, запрещалось проводить занятия методом лекций и читки уставов, только практически, главным образом в поле. Заканчивался приказ призывом, чтобы к 1 февраля «наша коммунистическая дивизия по своей сколоченности и подготовленности к бою приблизилась к уровню подготовки кадровой дивизии»107.
4 января 1942 г. начальник штаба 4-й МСД подполковник Блинов подал докладную записку, в которой проанализировал боевую и политическую подготовку комсостава и рядовых бойцов. Он сделал вывод, что «дивизия боеспособна и готова к выполнению боевых задач… однако наступательный бой в частях и подразделениях дивизии требует тщательной и упорной работы личного состава… особенно по организации взаимодействия родов войск»108.
Одной из главных задач, поставленных перед командованием частей 3-й МКСД, стало перевооружение их одним видом и типом оружия. С этой целью началось его внутреннее перераспределение. Начальник артснабжения 1-го СП младший лейтенант Агов вспоминал, что это позволило вооружить весь личный состав 1-го батальона полка русскими винтовками, 2-го – польскими и 3-го – французскими. Все канадские винтовки с вооружения изъяли, «затем, по мере поступления русских винтовок, стали изыматься из 3-го батальона французские винтовки. В настоящее время (январь или начало февраля 1942 г. – К.Д.) на вооружении полка остались только два вида стрелкового оружия: русские и польские винтовки»109. Также перераспределили ручные и станковые пулемёты. На вооружении его полка остались только станковые пулемёты «Максим» калибра 7,62 мм110.
Часть бойцов бывших рабочих/коммунистических батальонов, признанных негодными к службе на фронте по возрасту и состоянию здоровья, откомандировали в распоряжение райкомов ещё в конце октября – начале ноября 1941 г. Например, из Советского батальона отчислили 60 человек111, из Куйбышевского – 50112. 25 ноября штаб 3-й МКСД направил командирам и военкомам частей директиву, в которой указал: «В соответствии указаний Военного совета МВО и в дополнение к нашей директиве № 082 от 21.11.41 “Об увольнении рядового состава непризывного возраста” разъясняю. Произвести увольнение рядового состава непризывного возраста, который нецелесообразно использовать (больные, политически неблагонадёжные, с солидным преклонным возрастом, физически слабый и является обузой). Командир дивизии разрешает оставить рядовой состав 17–18-летнего возраста – способный, энергичный, физически развитый и желающий отбивать врага от столицы. Также разрешаю оставить женщин-дружинниц в боевых подразделениях (пулемётчики, снайперы) – способных, смелых и энергичных, которые подчас не уступят по качеству мужчинам»113. Егоров в интервью отмечал: «Здесь мы переформировались. Отсеяли старые возрасты. У нас был разношёрстный состав по возрасту: были бойцы 1892 г. р. и 17–18-летние девушки. Нам было указано отсеять старые возрасты и очень молодые, отобрать самый цвет. Среди девушек было недовольство, что мы их отсеяли… Из 18-ти девушек, находившихся в роте, оставили 5, причём одну послали в санбат, остальных оставили бойцами»114. На их место приходили призывники из запасных полков столицы и Подмосковья.
Преобразование бывших рабочих/коммунистических и истребительных батальонов в полноценные кадровые части РККА закончилось в январе 1942 г. созданием и укомплектованием спецподразделений во всех московских дивизиях осеннего формирования: артиллерийского полка, медсанбата115, отдельных моторазведывательного116 и сапёрного батальонов, батальона связи, автороты подвоза и даже танковой роты, которой не полагалось быть в штате дивизии117.
Необходимо сказать несколько слов о помощи со стороны партийных и советских органов власти, оказанной добровольческим формированиям, несмотря на тяжелейшую военно-политическую и экономическую обстановку, а также о личном участии в оказании этой помощи Щербакова. Бирюков отметил немаловажный факт: многие райкомы партии поддерживали связь со «своими» батальонами. Вплоть до декабря они обеспечивали бойцов, командиров и политработников не только папиросами, табаком и продуктами, но даже горячей пищей (через отдельные столовые), тем самым облегчив им постепенный переход на армейское питание: «Зачастую на третье блюдо подавался не только компот, но и в октябре, ноябре и декабре месяцах 1941 г. даже пирожное. На закуску, как правило, подавались икра, сельди и обязательно водка. Это усиленное питание дало возможность напряжённой работе по сооружению обороны под Москвой, где необычайно большой объём земляных работ преодолевался не только энергией, но и подкреплялся питанием». Руководство Краснопресненского райкома вплоть до отъезда дивизии на Северо-Западный фронт обеспечивало «свой» рабочий батальон не только продуктами, но и тёплым бельём, свитерами, шарфами; также помогали в оснащении батальонов Бауманский, Сталинский, Сокольнический и Куйбышевский райкомы. Большую помощь в обеспечении посудой (ложки, миски, тарелки, котелки, половники и т. д.) оказал Московский горком комсомола, организовавший сбор этих вещей в порядке помощи комсомольской организации дивизии118.
Щербаков требовал от политотдела дивизии ежедневных докладов о ходе обеспечения районами рабочих батальонов, во второй половине октября помог с обеспечением Северо-Западной группы обороны Москвы лошадьми, упряжью и фуражом, затем организовал сбор валенок и зимнего обмундирования для бойцов. Перед отъездом на фронт Бирюков вместе с командиром и комиссаром дивизии побывал на встрече с ним: «Прощаясь, он говорил о том, что мы должны беречь народ, воевать разумно, хитростью и не допускать необдуманных поступков со стороны даже младших командиров; как можно больше уделять внимания вопросам материально-бытового обеспечения бойцов, следить, чтобы люди всегда были сыты, чисты, тепло одеты, обеспечены оружием. Прощаясь, Щербаков просил передать всем бойцам, командирам и политработникам, что Московский комитет партии в целом, создавая дивизию, кровно связан с ней, любит её и будет всячески помогать и поддерживать её. Пожелал боевых успехов и сказал в рифму: “Вам ни пуха, ни пера, ждёт Москва от вас добра”»119.
Располагаясь на московском оборонительном рубеже, ополченческие дивизии осеннего формирования стали важным резервом, прикрывавшим тылы Западного фронта на случай немецкого прорыва к Москве. В непосредственной близости от передовой линии фронта, в обстановке, приближенной к боевой, шло обучение их личного состава. В итоге к середине января 1942 г. бывшие добровольческие батальоны постепенно влились в состав Красной армии: они были переведены на содержание по штату регулярных войск120, завершили перевооружение и переформирование, получили новые наименования121 и в конце января – начале февраля убыли на Северо-Западный и Калининский фронты.
Подведу итоги. В истории осенних добровольческих формирований, вставших на защиту Москвы, можно выделить два этапа. Первый – с 14 по 28–30 октября 1941 г. Сначала в сжатые сроки (14–17 октября) были сформированы, вооружены и выведены на новый рубеж обороны 25 рабочих/коммунистических батальонов. Затем, к 24 октября, их свели в восемь батальонов, составивших два (1-й и 2-й) коммунистических полка Северо-Западной группы войск обороны Москвы. В то же время 25 истребительных батальонов были включены в состав войск обороны г. Москвы, их свели в пять полков, которые составили 1-й и 2-й боевой участок Западной группы войск.
Хронологические рамки второго этапа: с конца октября – середины ноября 1941 г. до конца января 1942 г., когда добровольческие формирования становились кадровыми частями РККА. В период с 28–30 октября по 14–15 ноября коммунистические/рабочие полки были преобразованы сначала в Дивизию московских рабочих, а затем в 3-ю Московскую коммунистическую стрелковую дивизию, а истребительные полки – сначала в 1-ю и 2-ю отдельные бригады московских рабочих, а затем в 4-ю и 5-ю московские стрелковые дивизии. В них вводилась структура, предусмотренная по штатному расписанию армейских подразделений, происходило перевооружение одним видом и типом оружия, проводился отсев негодных к прохождению службы. Затем с ноября началась постоянная боевая учеба командного и рядового состава. Так у советского командования появился резерв на ближних подступах к столице, который расположился в тылу Западного фронта и находился в постоянной боевой готовности на случай возможных прорывов противника.
Документы личного происхождения (стенограммы бесед с участниками добровольческих формирований осени 1941 г., их воспоминания), соединённые с официальной военной документацией осенних ДНО (приказы, боевые донесения, справки, отчёты), позволили впервые создать объёмную картину формирования рабочих/коммунистических батальонов/полков и дальнейшего их преобразования в регулярные части Красной армии. Живые свидетельства, ранее не использовавшиеся исследователями, дают возможность взглянуть на события осени–зимы 1941 г. глазами самих ополченцев, понять мотивы их поступков, передать впечатления, настроения, чувства, в общем – ощутить и лучше понять, прежде всего, гуманитарную составляющую, человеческое измерение военной повседневности в один из самых тяжёлых периодов Великой Отечественной войны.
1 Ещё советская историография выделяла два периода формирования московского ополчения: летний, когда в начале июля 1941 г. были сформированы 12 московских ДНО, и осенний. Подробнее о периодизации см., например: Колесник А. Д. Народное ополчение городов-героев. М., 1974. С. 126; Колесник А. Д. Ополченческие формирования Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны. М., 1988. С. 22–23
2 См., например: Выстояли и победили: документы и материалы. М., 1966; Москва – фронту. 1941–1945: сборник документов и материалов / Отв. ред. С. М. Кляцкин. М., 1966; Ополчение на защите Москвы: документы и материалы о формировании и боевых действиях Московского народного ополчения в июле 1941 – январе 1942 г. / Сост. Л. С. Беляева, В. И. Бушков, И. И. Кудрявцев. М., 1978; и др.
3 См., например: Добров П. В. Боевой путь 53-й Гвардейской Краснознамённой Тартуской стрелковой дивизии (3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия г. Москвы). Донецк, 2005; Воронин А. Б. Москва 1941. М., 2016. С. 340–350; Бирюков В. К. Добровольцы-москвичи на защите Отечества. 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия в годы Великой Отечественной войны. М., 2017; и др.
4 Следует подчеркнуть, что почти весь фактологический и аналитический материал, важнейшие статистические данные по истории формирования осенних ДНО, на которые ссылались советские историки и продолжают ссылаться современные, основывается на рукописи «Оборона Москвы войсками Московской зоны обороны» (М., 1942). Отдельные её фрагменты, посвящённые истории формирования рабочих дивизий и строительству оборонительного рубежа на ближних подступах к столице, впервые опубликованы в 1966 г.: Москва – фронту. 1941–1945… С. 50–77, 131–142. Целиком труд «Оборона Москвы войсками Московской зоны обороны» увидел свет лишь в 2001 г.: Битва за Москву: история Московской зоны обороны / Сост. С. С. Илизаров, С. В. Костина. М., 2001.
5 Вслед за другими исследователями не считаю 2-ю МСД (затем – 129-я СД) ополченческой. Она формировалась в октябре 1941 г. за счёт личного состава 242-й СД, 1-го корпуса ПВО, 648 и 660-го стрелковых полков, 472-го гаубичного артполка, а также москвичей и жителей Подмосковья, призванных по мобилизации. Поэтому, хотя присутствие в этой дивизии определённого числа москвичей-добровольцев несомненно, в данной статье она рассматриваться не будет.
6 Подробнее см.: Москва военная. 1941–1945: мемуары и архивные документы / Сост. К. И. Буков, М. М. Горинов, А. Н. Пономарёв. М., 1995. С. 101–111; Москва прифронтовая. 1941–1942. Архивные документы и материалы / Сост. М. М. Горинов, В. Н. Пархачёв, А. Н. Пономарёв. М., 2001. С. 231–236, 251–261, 272; Воронин А. Б. Москва 1941. С. 289–302; 326–333.
7 Постановление ГКО «О строительстве третьей линии обороны г. Москвы» № 768сс от 12 октября объявило о мобилизации в порядке трудовой повинности 200 тыс. человек из Москвы и 250 тыс. из области.
8 РГАСПИ, ф. 88, оп. 1, д. 851, л. 3–4.
9 См.: Ополчение на защите Москвы: сборник документов / Сост. Л. С. Беляева, В. И. Бушков, И. И. Кудрявцев. М., 1978. С. 92.
10 См.: ЦГА Москвы, ф. П-4, оп. 12, д. 75, л. 7. «Программа боевой подготовки батальонов трудящихся г. Москвы (на первые три дня)», подписанная начальником городского штаба полковым комиссаром Чугуновым, распределяла время так: политическая подготовка – 3 часа, огневая – 16, тактическая – 2, строевая – 3, сапёрная – 2, штыковой бой – 4 часа. Занятия должны были проводиться ежедневно по 10 часов с отрывом от производства, 10–15 минут ежедневно отводилось политинформации, инструктаж младшего комсостава проходил накануне занятий и только практически (Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37б, д. 4, л. 1–2).
11 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37б, д. 4а, л. 1–3.
12 Там же, оп. 37а, д. 7, л. 10. В октябре 1941 г. Бирюков был слушателем окружных партийных курсов Политуправления МВО в звании батальонного комиссара. Вскоре его назначили комиссаром 1-го боевого участка обороны Москвы, а в ноябре – начальником политотдела 3-й МКСД.
13 ЦАМО РФ, ф. 450, оп. 11158, д. 12, л. 3–5.
14 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37а, д. 3, л. 1. В октябре 1941 г. старший политрук Жерихин был слушателем Военной академии им. Фрунзе, сдавал экзамены. О проведении им 15 октября рекогносцировки 5-го сектора обороны см.: Там же, л. 1–1 об.
15 Практически все бойцы рабочих/коммунистических батальонов, дававшие интервью сотрудникам Комиссии или оставившие воспоминания об этом времени, рассказывают, что вооружали их 16–17 октября, как правило, винтовками и пулемётами иностранного образца (польские, французские, латвийские, канадские и др.). Это крайне затрудняло процесс обучения и овладения оружием.
16 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37а, д. 3, л. 1 об.–2.
17 См. об этом воспоминания командира танковой роты 3-й МКСД младшего лейтенанта С. Н. Григорьева, которому секретарь Куйбышевского райкома поручил сформировать в районном коммунистическом батальоне пулемётную роту. Он сам присутствовал на этом совещании (Там же, д. 1, л. 2–2 об.).
18 Большинство из интервьюируемых оказались в составе рабочих/коммунистических батальонов, из которых формировались полки 3-й МКСД, ставшей затем 130-й СД, а в 1943 г. – 53-й гвардейской СД.
19 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37а, д. 19, л. 1.
20 Там же, оп. 37б, д. 145, л. 1.
21 Там же, д. 148, л. 2. Безусловно, факты дезертирства из батальонов имели место во время паники 16–17 октября, когда жители столицы стали спешно покидать её (см., например: ЦГА Москвы, ф. П-67, оп. 3, д. 2, л. 342), однако они не носили массового характера.
22 Там же, д. 163, л. 5.
23 Там же, д. 149, л. 1.
24 См. «Отчёт о работе за период октябрь 1941 г. – январь 1942 г.» уполномоченного Военного совета МВО и МЗО батальонного комиссара Н. Анцеловича (Там же, д. 17, л. 4).
25 Там же, д. 163, л. 5.
26 Там же, д. 146, л. 1–1 об.
27 «Отдельные винтовки, гранаты и небольшое количество патрон[ов] доставлялись бойцам в батальон без всякого учёта, как отобранные у гражданского населения, подобранные в районах расположения других частей и т. д.» (Там же, л. 1 об.). Бойцы Советского батальона случайно обнаружили на улице бесхозный грузовик с грузом 990 противотанковых гранат, которые доставили в расположение части (Там же, д. 145, л. 1).
28 Там же, д. 135, л. 2 об. О том, какие трудности приходилось преодолевать бойцам рабочих батальонов в ходе изучения материальной части иностранных пулемётов и винтовок, которыми их вооружали, см. стенограмму беседы с Партигулом, а также воспоминания военкома 4-й батареи лёгкого артиллерийского полка 3-й МКСД И. А. Лихарева, который в октябре 1941 г. был одним из организаторов пулемётной роты Куйбышевского батальона (Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37а, д. 8, л. 1 об.; оп. 37б, д. 140, л. 1 об.–3).
29 Там же, оп. 37а, д. 8, л. 1 об.
30 Там же, оп. 37б, д. 143, л. 2 об. «В тот же день, т. е. 16 октября, и до вечера 17-го велась беспрерывная учёба по управлению пулемётом и основой его работы, изучением его частей, наводкой, правилом ведения огня, скрытой подноской патронов… Для более успешной подготовки весь личный состав роты был распределён на отделения с таким расчётом, что в каждом отделении были первые и вторые номера, служившие [ранее] в РККА пулемётчиками» (Там же, л. 2 об.–3).
31 Там же, оп. 37а, д. 1, л. 2 об.
32 Там же, д. 8, л. 1 об. Из воспоминаний бывшего политработника Тимирязевского рабочего батальона Н. И. Жура от 26 февраля 1945 г.: «В одном углу землянки (автор ошибается, это происходило ещё в стенах школы, где формировался батальон. – К.Д.) пулемёт чешской системы изучает боец – помощник военного райпрокурора тов. Попов, в другом углу немецкий пулемёт изучает работник библиотеки Ленина тов. Козлов» (Там же, д. 15, л. 3).
33 Там же, оп. 37б, д. 145, л. 2.
34 Там же, д. 138, л. 2.
35 Там же, д. 148, л. 3.
36 Там же, оп. 37а, д. 1, л. 3 об.
37 Находился в этой должности до 24 октября 1941 г.
38 См. об этом интервью Бирюкова: Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37а, д. 7, л. 10 об.
39 Первый участок включал район Дмитровского, Ленинградского и Волоколамского шоссе; второй – магистраль Москва–Минск, Хорошёвское шоссе; третий – Можайское, Наро-Фоминское и Малоярославецкое шоссе от Кунцево до Люберец.
40 Затем полков станет пять.
41 ЦАМО, ф. 450, оп. 11158, д. 12, л. 12–13. Впервые приказ № 007/оп от 16 октября 1941 г. опубликован в сборниках: Москва – фронту. 1941–1945… С. 24–25; Ополчение на защите Москвы… С. 198–199.
42 ЦАМО РФ, ф. 1167, оп. 1, д. 5, л. 2.
43 Там же, д. 10, л. 5.
44 О формировании рабочего батальона Первомайского района см. в отчёте о работе военного отдела Первомайского райкома по состоянию на 1 сентября 1942 г.: Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 9, оп. 25, д. 2, л. 2 об.
45 О формировании рабочего батальона Сокольнического района см. стенограмму беседы за 12 марта 1943 г. с заведующим военным отделом Сокольнического райкома А. В. Виноградовым и политруком пулемётной роты батальона И. К. Головлёвым: Там же, оп. 18, д. 1, л. 2 об., 8.
46 О формировании в Краснопресненском батальоне роты геологов из студентов и преподавателей Московского геологоразведочного института см. послевоенные воспоминания профессора И. Я. Пантелеева: Москва прифронтовая… С. 245–250.
47 О формировании рабочего батальона Советского района см. воспоминания за январь 1942 г. батальонного комиссара Гольштейна и заместителя командира отдельного батальона связи 130-й СД воентехника 1-го ранга Калинина: Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37б, д. 145, л. 1–2; д. 143, л. 1–3.
48 О формировании рабочего батальона Свердловского района см. стенограмму беседы c Партигулом, в октябре 1941 г. парторгом пулемётного взвода 8-й роты 3-го батальона 1-го коммунистического полка и воспоминания за 11 января 1942 г. П. М. Пшеничного – бывшего командира Свердловского рабочего батальона, а затем командира 664-го СП 130-й СД: Там же, оп. 37а, д. 8, л. 1–2 об.; оп. 37б, д. 148, л. 1–5. Последний погиб в бою в районе Сутоки 16 августа 1942 г.
49 О формировании рабочего батальона Фрунзенского района см. воспоминания за 12 октября 1942 г. его бывшего военкома батальонного комиссара Бахирева: Там же, д. 144, л. 5–8.
50 О формировании рабочего батальона Тимирязевского района см. воспоминания Жура за 9 октября 1942 г. и бывшего командира этого батальона М. Д. Кудрина: Там же, оп. 37а, д. 15, л. 1–3; оп. 37б, д. 144, л. 14–17 об.
51 ЦАМО РФ, ф. 1167, оп. 1, д. 43, л. 6. Численность 1-го СП составляла на вечер 19 октября 5 606 человек (без учёта батальона Фрунзенского района), на 21 ноября – 5 456 (Там же, л. 14).
52 О формировании рабочего батальона Москворецкого района см. воспоминания за 9 марта 1942 г. старшего политрука Плинера, бывшего военкома Москворецкого рабочего батальона, за 13 января 1942 г.; младшего сержанта Королёва, а также бывших бойцов батальона: Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37б, д. 144, л. 1–4; д. 160; д. 138, л. 1–4; д. 164, л. 7–9.
53 О формировании рабочего батальона Октябрьского района см. записи за 1942 г.: Там же, д. 144, л. 13–15.
54 О формировании рабочего батальона Дзержинского района см. воспоминания за январь 1942 г. бойца-снайпера В. Козлова, Н. Кузнецова и бывших бойцов: Там же, д. 163, л. 4–6; д. 142, л. 1–3; д. 135.
55 О формировании рабочего батальона Железнодорожного района см. воспоминания за 1942 г. его бывшего военкома Мельникова и бывших бойцов: Там же, д. 147, л. 1–2 об.; д. 164, л. 1–3, 9–11.
56 О формировании рабочего батальона Ростокинского района см. воспоминания за 22 января 1942 г. интенданта 2-го ранга К. П. Фролова, а также стенограмму беседы с заведующим военным отделом Ростокинского райкома В. Д. Васильченко: Там же, д. 149, л. 1–3; разд. 9, оп. 10, д. 1, л. 1–1 об.
57 О формировании рабочего батальона Молотовского района см. воспоминания за 1942 г.: Там же, разд. 1, оп. 37б, д. 139.
58 О формировании рабочего батальона Коминтерновского района см. воспоминания за 11 января 1942 г. секретаря партбюро управления штаба 2-го стрелкового полка московских рабочих Валяева: Там же, д. 162, л. 1–5.
59 Рабочий батальон Куйбышевского района насчитывал 670 человек, в основном состоял из служащих наркоматов (совхозов, финансов, боеприпасов и др.). О том, как происходило его формирование, см. стенограмму беседы от 19 сентября 1942 г. с его бывшим комиссаром Я. Ф. Богомолкиным: Там же, оп. 37а, д. 2, л. 1–1 об. О формировании пулемётной роты в составе батальона см. воспоминания младшего лейтенанта С. Н. Григорьева «Враг у стен Москвы» за август 1942 г.: Там же, д. 1, л. 1 об.–4 об.; опубл.: Москва прифронтовая… С. 238–241. См. также воспоминания за 1942 г. политруков А. П. Парфёнова – военкома 5-й батареи и И. А. Лихарева – военкома 4-й батареи лёгкого артиллерийского полка, а также бывшего политрука роты Д. С. Минина: Там же, оп. 37б, д. 141, л. 1–5; д. 140, л. 1–4 об.; д. 213.
60 ЦАМО РФ, ф. 1167, оп. 1, д. 43, л. 10. Численность 2-го СП составляла на 12 часов 19 октября 3 061 человек (без учёта батальонов Октябрьского и Таганского районов), на 21 ноября – 3 606 (Там же, л. 12).
61 В ходе формирования полков происходило слияние нескольких батальонов. Например, Ростокинский слился с Коминтерновским (Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37б, д. 149, л. 2). Батальон Свердловского района объединили с батальоном Сокольнического, он стал именоваться 3-м стрелковым батальоном 1-го коммунистического полка (Там же, д. 148, л. 5).
62 Там же, д. 132, л. 1. 3-й коммунистический полк был образован позже – 30 октября 1941 г. под командованием майора Лукутина (военком – Жерихин, которого вскоре сменил Богомолкин). О том, как 29–30 октября происходило формирование полка, см. стенограмму беседы с Жерихиным: Там же, оп. 37а, д. 3, л. 4–4 об.; ЦАМО РФ, ф. 1167, оп. 1, д. 43, л. 98–99, 101–101 об.; д. 40, л. 93.
63 ЦАМО РФ, ф. 1167, оп. 1, д. 5, л. 4.
64 Там же, д. 6, л. 27–28.
65 Там же, д. 7, л. 3–5. «На 24.10.1941 г. во всех рабочих батальонах, из которых затем будут сформированы два полка, русские винтовки составляли немногим больше одной пятой от всего числа» (Битва за Москву… С. 140).
66 Битва за Москву… С. 136.
67 Батальон Железнодорожного района входил в состав 4-го истребительного полка 2-го боевого участка Западной группы войск, с 29 октября передан в состав 2-й отдельной бригады московских рабочих, которую 15 ноября преобразовали в 5-ю МСД.
68 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 9, оп. 17, д. 4, л. 2 об. – 3; впервые опубл.: Москва военная… С. 287–293. Подробное описание того, как истребительный батальон Ленинского района вышел на оборонительные рубежи в районе Кунцево–Аминьево, оборудовал линию обороны, проводил боевую подготовку и др., см. материалы к истории батальона, подготовленные его бывшими бойцами В. Новским и А. Е. Хлебниковым: Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 9, оп. 7, д. 5. Об истории формирования и участии в обороне на ближних подступах к столице истребительного батальона Первомайского района см. стенограммы бесед за 1947 г. с его бывшими бойцами: Там же, разд. 1, оп. 255, д. 3, 5–6, 8, 11–13.
69 Москва прифронтовая… С. 238.
70 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37а, д. 13. Об участии в обороне Москвы в составе рабочего батальона Дзержинского района см. воспоминания К. Кравченко за 1942 г. а также воспоминания за 13 января 1942 г. машинистки 1-го батальона 2-го стрелкового полка 3-й МКСД М. Шеболдаевой: Там же, оп. 37б, д. 137, д. 159.
71 При публикации ошибочно напечатали: «Боевой состав: 1-й и 4-й коммунистические сп» (Москва – фронту. 1941–1945 гг. … С. 30). Эта ошибка в более грубой форме («1-я и 4-я коммунистические сд») перекочевала в сборник: Ополчение на защите Москвы… С. 218.
72 Управление Московского оборонительного рубежа преобразовали в управление Западной группы.
73 По документам ЦАМО РФ удалось установить, что 3-й, 4-й и 5-й истребительные полки вплоть до 28 октября составляли 2-й боевой участок Западной группы войск обороны Москвы и состояли из 15 истребительных батальонов (3-й полк – Молотовский, Калининский, Фрунзенский, Пролетарский и Кировский батальоны; 4-й полк – Сталинский, Сокольнический, Ростокинский, Первомайский и Железнодорожный; 5-й полк – Октябрьский, Дзержинский, Тимирязевский, Ленинградский и Свердловский батальоны). Вскоре Сталинский батальон передали в подчинение 332-й СД Юго-Западной группы войск обороны. 1-й и 2-й полки составляли 1-й боевой участок Западной группы, их формировали за счёт остальных 10 батальонов (ЦАМО РФ, ф. 1392, оп. 1, д. 5, л. 1–2 об.). 27 октября состав истребительных полков этой группы пополнили батальоны Красногорского, Химкинского, Кунцевского, Ленинского, Люблинского, Перовского и Ухтомского районов (URL: https://buchwurm.livejournal.com/472388.html).
74 Речь идёт об истребительном батальоне Сталинского района, приданном 332-й СД с задачей прикрывать левый фланг Юго-Западной группы. 19 ноября его окончательно оформили как отдельный батальон и включили в состав 332-й СД (ЦАМО РФ, ф. 450, оп. 11179, д. 1, л. 44–46).
75 Ополчение на защите Москвы... С. 218–220. 2-я московская стрелковая дивизия составляла резерв (Битва за Москву… С. 148). К этому времени передовая граница полосы обеспечения оборонительного рубежа проходила по линии Химки–Митино–Архангельское–Рождествено–Одинцово–Рассказово–Прокшино–Гавриково–Боброво–Табалово–Мисаилово–Дроздово. Главная полоса обороны: Коровино–Химгородок–Никольское–Серебряный бор–Кунцево–Котлярово–Братеево. Вторая полоса оборудовалась по линии Московской окружной железной дороги.
76 ЦАМО РФ, ф. 450, оп. 11158, д. 7, л. 5–11.
77 Битва за Москву… С. 145. В сводке МГК о количестве добровольцев на 15 ноября значилось: в народном ополчении – 105 490 человек, в истребительных батальонах – 12 581, в рабочих – 10 141, в отрядах истребителей танков – 1 635 (Выстояли и победили… С. 176–177). Часть людей из отрядов истребителей танков направлялась в ополченческие части. Так, например, 11 ноября 56 бойцов сформированного в Коминтерновском районе противотанкового истребительного батальона (отряда) по указанию партийных органов направили в 1-ю отдельную бригаду московских рабочих (ЦГА Москвы, ф. П-68, оп. 1, д. 201, л. 15).
78 ЦАМО РФ, ф. 1392, оп. 2, д. 5, л. 3. В первом параграфе приказа частям Дивизии московских рабочих № 002 от 1 ноября говорилось: «На основании приказа войскам Московского военного округа № 0021 от 28.10.1941 г. переименовать Северо-Западную группу обороны г. Москвы в Дивизию московских рабочих». Далее речь шла о переходе дивизии на новые штаты и создании предусмотренных по ним спецподразделений. Так, например, создавался артиллерийский полк ПТО из трёх дивизионов (262, 276 и 278-й), ранее приданных 1, 2 и 3-му стрелковым полкам московских рабочих. Также создавалось управление артиллерийского полка ПТО со взводом управления (Там же, ф. 1167, оп. 1, д. 7, л. 7). Аналогично и бывшие истребительные полки преобразовывались в отдельные бригады рабочих. Например, формирование управления 2-й бригады должно было происходить за счёт личного состава бывшего 38-го УР, а 4, 5 и 3-й стрелковые полки переименовывались в 7, 8 и 9-й полки московских рабочих. Также за счёт двух отдельных артдивизионов 38-го УР (261 и 268-го) и взвода управления создавался артполк ПТО (Там же, ф. 1392, оп. 2, д. 5, л. 1–2). Командиром 2-й отдельной бригады московских рабочих стал полковник Исаев. В приказе № 002 от 29 октября по 2-й отдельной бригаде московских рабочих значилось, что «во исполнение приказа войскам МВО от 28.10.1941 г. считать сего числа 2-й боевой участок Западного оборонительного рубежа г. Москвы расформированным… с 29.10.1941 г. именовать 2-й отдельной бригадой московских рабочих» (Там же, оп. 1, д. 103, л. 4). 1-ю отдельную бригаду в составе трёх полков (3, 4 и 5-й) сформировали из состава управления и частей 1-го боевого участка Западной группы войск обороны, её командиром стал майор Гавилевский (Там же, ф. 1387, оп. 2, д. 1, л. 1).
79 В частности, рабочий батальон Советского района расформировали приказом по батальону № 4 от 29 октября, а его личный состав распределили по подразделениям 1-го СП (Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37б, д. 4, л. 6–12).
80 Там же, д. 145, л. 2.
81 Там же, оп. 37а, д. 8, л. 3 об.
82 ЦАМО РФ, ф. 1392, оп. 1, д. 103, л. 11–12.
83 Там же, ф. 1167, оп. 1, д. 7, л. 9–10.
84 11 ноября штаб обороны Москвы потребовал от частей представить в отдел укомплектования заявку на пополнение до штатной потребности рядовыми и младшим начсоставом по военно-учётным специальностям (Там же, ф. 450, оп. 11179, д. 1, л. 5). 21 ноября мобилизационно-организационный отдел штаба МВО директивой № 0119 на укомплектование личным составом частей обороны определил следующую численность: для 3-й МКСД – 1 055 младшего начсостава и 1 258 рядового; для 5-й МСД – 518 и 1 378; для 4-й – 455 и 772; для 2-й – 126 и 645 (Там же, л. 58 об.).
85 Там же, ф. 1167, оп. 1, д. 6, л. 16.
86 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37б, д. 138, л. 5–6 об.
87 Там же, оп. 37а, д. 8, л. 3. «Когда мы надавали много оружия, начали массово практиковаться, пошли ЧП: и при чистке стреляют, и при разборе стреляют, гранаты не добрасывают. А мы уже вышли воевать» (Там же, д. 2, л. 2).
88 Там же, д. 2, л. 1 об.–2.
89 Там же, д. 8, л. 3.
90 Так, согласно приказу, рядовые должны были научиться самоокапыванию и маскировке в обороне и наступлении, штыковому бою (особенно в окопах).
91 ЦАМО РФ, ф. 1167, оп. 1, д. 41, л. 54.
92 Там же, д. 8, л. 80.
93 Там же, д. 5, л. 23.
94 Там же, д. 6, л. 8.
95 Там же, д. 10, л. 1. В это же время в целях наилучшего использования отдельных артиллерийских дивизионов ПТО, находившихся в составе артиллерийских частей обороны, установления тесной связи с пехотой и взаимодействия с ней, четыре артдивизиона ввели в состав стрелковых дивизий, «считая их дивизионами ПТО дивизий, ввиду неукомплектованности последними дивизий», а оставшиеся три оставить отдельными дивизионами с временной передачей их соответствующим дивизиям (приказ штаба обороны г. Москвы № 016 от 27 ноября). В штат 3-й МКСД вошёл 278-й отдельный артдивизион (ОАД) и ей же временно придали 262-й; в состав 4-й МСД – 266-й и 267-й; в состав 5-й МСД – 273-й и 261-й. 268-й ОАД вошёл в состав 332-й СД (Там же, ф. 450, оп. 11179, д. 1, л. 73).
96 Там же, ф. 1167, оп. 1, д. 41, л. 47.
97 Там же, д. 6, л. 6.
98 Там же, л. 4–5. Подробнее о боевой деятельности отдельных разведотрядов ополченческих дивизий, их участии в оборонительных боях в конце ноября – начале декабря см.: Битва за Москву… С. 243–246.
99 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37а, д. 8, л. 3.
100 Там же, д. 18, л. 2.
101 Там же, д. 19, л. 2 об.
102 ЦАМО РФ, ф. 1167, оп. 1, д. 6, л. 1.
103 Там же, д. 41, л. 30.
104 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37а, д. 15, л. 3.
105 Там же, д. 7, л. 11 об. О тактических занятиях, проходивших 6 января 1942 г. в 1-м батальоне 2-го СП 3-й МКСД, см. в воспоминаниях К. Кравченко: Там же, оп. 37б, д. 137, л. 5.
106 ЦАМО РФ, ф. 1167, оп. 1, д. 41, л. 1.
107 Там же, л. 2–3. В приказе № 083 от 1 января 1942 г. «Об итогах проверки боеготовности подразделений 3-го СП и ход боевой подготовки» отмечено, что «боевая подготовка… формально развернута, но качество проводимых занятий далеко не соответствует современным требованиям и проводится на чрезвычайно низком уровне». Как вопиющий факт отмечалось отсутствие во 2-м взводе 5-й роты при обучении бойцов штыковому бою палок и чучел на них, в результате чего уколы производятся в воздух. Кроме того, «бойцы допускаются к стрельбе из чужих винтовок, что совершенно неправильно, в результате чего показатели по стрельбе неудовлетворительны». Каждый взвод обязали к 3 января иметь палки и чучела для обучения бойцов штыковому бою и улучшить качество стрелковой подготовки (Там же, л. 6–7).
108 Там же, ф. 56, оп. 12241, д. 674, л. 5–7.
109 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37б, д. 150, л. 1. При слиянии батальонов в 1-й СП оказалось, что бойцы вооружены разнотипными и разнокалиберными винтовками, преимущественно иностранного образца (французские – 33%, польские – 30, канадские – 15, русские – только 22%).
110 Там же, л. 1 об.
111 Там же, д. 145, л. 2.
112 Там же, д. 140, л. 4.
113 ЦАМО РФ, ф. 1167, оп. 1, д. 42, л. 7. Скорее всего, выполнить этот приказ командиры частей смогли лишь после начала контрнаступления советских войск, т. е. не раньше середины декабря.
114 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37а, д. 19, л. 3.
115 О формировании медсанбата в 3-й МКСД см.: Там же, д. 5, л. 1.
116 Об этом см.: Там же, д. 7, л. 15–15 об.
117 Об этом см.: Там же, д. 1, л. 5 об.–7 об.; д. 3, л. 4 об.; ЦАМО РФ, ф. 450, оп. 11179, д. 1, л. 128, 131.
118 Научный архив ИРИ РАН, ф. 2, разд. 1, оп. 37а, д. 7, л. 8.
119 Там же, л. 11 об.–12 об.
120 В книге учёта формирования, прибытия и убытия частей и соединений МЗО за 1942 г. указана численность личного состава дивизий народного ополчения осеннего формирования перед их отправкой на фронт. 3-я МКСД: начсостав – 819 человек, младший начсостав – 1 329, рядовой – 7 502, всего – 9 650. 4-я МСД: начсостав – 819, младший начсостав – 1 436, рядовой – 8 708, всего – 10 963. 5-я МСД: начсостав – 747, младший начсостав – 1 220, рядовой – 8 285, всего – 10 252 (ЦАМО РФ, ф. 450, оп. 11179, д. 6, л. 1 об.–2). См. также таблицу 7 об общей численности дивизий и их партийно-комсомольском составе к моменту включения в состав РККА (Битва за Москву… С. 163). Как следует из этих данных, в 3-й МКСД коммунисты и комсомольцы составляли 70%, а в 4-й и 5-й – около половины их общей численности.
121 3-я МКСД стала именоваться 130-й стрелковой дивизией, 4-я МСД – 155-й СД, 5-я МСД – 158-й СД, 2-я стрелковая дивизия – 129-й СД (директива штаба МВО № 0150 от 20 января 1942 г.).
About the authors
Konstantin S. Drozdov
Center for the History of the Peoples of Russia and Interethnic Relations of the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences (IRI RAS)
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
Senior Researcher
Russian Federation, MoscowReferences
- Бирюков В.К. Добровольцы-москвичи на защите Отечества. 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия в годы Великой Отечественной войны. - М.: Изд-во Яуза-пресс, 2017. - 320 с.
- Битва за Москву: история Московской зоны обороны /Сост. С.С. Илизаров, С.В. Костина. – М.: АО «Московские учебники и картография», 2001. - 448 с.
- Воронин А.Б. Москва 1941. - М.: Изд-во «Пятый Рим» (ООО «Бестселлер»), 2016. - 448 с.
- Выстояли и победили: Док. и материалы / Ин-т истории партии МГК и МК КПСС — филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Гос. арх. Моск. обл. — М.: Моск. рабочий, 1966. — 402 с.
- Добров П.В. Боевой путь 53-й Гвардейской, Краснознаменной, Тартуской стрелковой дивизии (3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия г. Москвы). – Донецк: Юго-Восток, 2005. -37 с.
- Колесник А.Д. Народное ополчение городов-героев. - М.: Изд-во «Наука», 1974. - 367 с.
- Колесник А.Д. Ополченческие формирования Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны. М.: Изд-во «Наука», 1988. - 266 с.
- Москва — фронту. 1941-1945: Сб. док. и материалов / Ин-т истории АН СССР, Гл. арх. упр. при Совете министров СССР, Ин-т истории партии МГК и МК КПСС; Отв. ред. С.М. Кляцкин. — М.: Наука, 1966. — 422 с.
- Москва военная. 1941-1945: Мемуары и архив. док. / Сост. К.И. Буков, М.М. Горинов, А.Н. Пономарев. — М.: Изд-во об-ния «Мосгорархив», 1995.- 744 с.
- Москва прифронтовая. 1941–1942. Архивные документы и материалы / Сост. М.М. Горинов, В.Н. Пархачёв, А.Н. Пономарёв. М.: Изд-во Об-ния «Мосгорархив»: Моск. учеб., 2001. - 664 с.
- Ополчение на защите Москвы: Док. и материалы о формировании и боевых действиях Московского народного ополчения в июле 1941-январе 1942 г. / Сост. Л. С. Беляева, В. И. Бушков, И. И. Кудрявцев. — М.: «Моск. рабочий», 1978. — 408 с.
Supplementary files