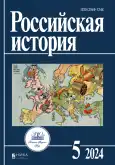Formation of the public image of the KGB in 1954–1991
- Authors: Guseva J.N.1, Khristoforov V.S.2
-
Affiliations:
- Moscow City University
- Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 163-173
- Section: Institutions and communities
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274846
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050105
- EDN: https://elibrary.ru/SKRUKS
- ID: 274846
Cite item
Full Text
Abstract
The article analyzes the main trends in the presentation of the activities of the domestic security services in the public space in 1950s - 1991. The authors analyze the main content of the media discourse that accompanied the activities of the USSR KGB. This discourse of representations about its own past, traditions and innovations in its work and special corporate ethics. Using discourse analysis, the authors examine the PR-strategies of the Soviet state security agencies as an expression of the changes in the state policy towards the special services and the evolution of their own, departmental, narrative about the past and present. The authors analyze the dynamics of this process: from the first attempts at “self-purification” of the Khrushchev era of the 1950s to the adherence to the ideals of the perestroika era of the late 1980s and early 1990s. As a result, a conclusion is drawn about the potential influence of the KGB's media discourse about itself and its past on the mechanisms of interaction between the state security agencies and Russian society and the formation of the public image of the security services as a whole.
Full Text
В фокусе статьи – основные тенденции презентации деятельности отечественных спецслужб в публичном пространстве в 1954–1991 гг. Для их понимания нами будет проанализировано основное содержание медийного дискурса, сопровождавшего деятельность Комитета государственной безопасности (далее – КГБ, Комитет) СССР на разных исторических этапах. Этот образ включал в себя представления о собственном прошлом, о традициях и новациях в работе и о специфической корпоративной этике. В данной статье последовательно рассматривается динамика этого процесса: от первых попыток самооправдания и «самоочищения» эпохи Н. С. Хрущёва до использования инструментов периода гласности в корпоративных интересах. Медийный дискурс КГБ мы рассматриваем прежде всего как выражение изменений государственной политики в отношении спецслужб, как воплощение «больших» общественно-политических процессов.
Эволюция ведомственного нарратива о собственном прошлом и настоящем может быть рассмотрена с использованием методологических подходов memory studies. «Продвигая или поддерживая определённые интерпретации коллективного прошлого, мнемонические акторы далеко не всегда ставят во главу угла формирование определённой концепции прошлого: они стремятся легитимировать собственную власть, оправдать принимаемые решения, мобилизовать электоральную поддержку, укрепить солидарность группы, продемонстрировать несостоятельность оппонентов, приобрести материальные и организационные ресурсы», – подчёркивает О. Ю. Малинова, один из ведущих российских специалистов в области исследований исторической памяти1. Конкурирующие на поле символической и реальной политики акторы обладают различными ресурсами, помогающими им одерживать верх в борьбе за приобретение символического капитала (престиж, легитимность, влияние)2. Малинова также обращает внимание на ограниченность наших представлений о внутригрупповой интерпретации собственной истории, которая крайне важна, «особенно когда речь идёт об институциональных акторах, чья повестка существенно влияет на конфигурацию всего поля»3.
Тема данной статьи даёт возможность рассмотреть динамику формирования и трансляции ведомственных нарративов и изучить процесс «изобретения» традиций и ритуалов, помогает конструировать коллективную идентичность группы сотрудников спецслужб, позволяет сделать выводы о значимости этой профессиональной группы на поле символической и реальной политики. Большое значение имеет оценка потенциального влияния медийного дискурса КГБ о себе и своём прошлом на механизмы взаимодействия органов госбезопасности с обществом и формирование общественного имиджа спецслужб в целом на различных исторических этапах.
Актуальность этой тематики также продиктована важностью изучения феномена постсоветского общества, которое, по мнению социологов и политологов, во многом унаследовало черты советского габитуса, в том числе по отношению к органам госбезопасности. Несмотря на всю мощь критики, обрушившейся на Комитет в первые годы перестройки, страх и неприязнь к его репрессивной деятельности, россияне в постсоветский период сохранили пиетет в отношении сотрудников спецслужб. Социологические опросы фиксировали преимущественно позитивный образ чекиста-профессионала, наделённого массой достоинств4.
Имеющаяся историография даёт обширную базу для понимания общих подходов к рассмотрению истории отечественных спецслужб в советский период. Однако общественный имидж, нарративы о собственном прошлом и их медийные составляющие исследовались мало, чему есть масса объяснений. Советское академическое сообщество последовательно уклонялось от изучения КГБ. Значительное количество работ по этой теме появилось лишь в постсоветский период5, однако его усилия по улучшению собственного образа до сих пор не рассматривалась. Традиционно обращается внимание на повышенную медийную активность в работе председателей Комитета: Ю.В Андропова6, реже – И. А. Серова7. Затруднён и объективный анализ деятельности КГБ, поскольку остаётся много секретной и непроверенной информации8.
Более свободные от идеологического прессинга иностранные учёные-советологи неоднократно обращались к истории КГБ, в том числе к сюжетам его корпоративной этики и опыту по улучшению собственного имиджа в период перестройки9. Так, Дж. Федор отмечает, что процесс «изобретения» ведомственных традиций стартовал после создания ФСБ России в 1995 г. и был тесно связан с восприятием органами государственной безопасности собственной истории в советский период, со сложившимся пантеоном выдающихся личностей и общественным восприятием их деятельности10.
Преломление образов сотрудников разведки и контрразведки в массовой культуре и в советском кинематографе активно изучается сегодня и в России, и за рубежом. Сравнивается работа советской и американской «шпионской» киноиндустрии, обращается внимание на связь государственной политики и кино11.
Советский правовой порядок отличала крайне высокая степень секретности и игнорирование иерархического принципа. Документы о работе КГБ представляли собой один из самых невидимых элементов «айсберга» советских правовых норм, где огромный корпус ведомственных приказов, инструкций, распоряжений, положений был скрыт от посторонних глаз12. При этом мы имеем дело со специфической советской культурой секретности, на которую, кроме прочего, влиял и образ спецслужб в массовом сознании.
Современные исследования могут опираться на сборники документов и материалов, выпущенные самим Комитетом, а также документы, отражающие усилия КГБ по формированию собственного публичного имиджа13. Весьма показателен с точки зрения исторического и текущего «перестроечного» нарратива изданный в 1990 г. сборник интервью и материалов выступлений председателя КГБ и его заместителей с симптоматичным названием «КГБ лицом к народу»14. В нём собраны высказывания высшего руководства Комитета о текущем моменте, об оценке «трудных» страниц в истории ведомства. При подготовке статьи также использованы материалы прессы периода перестройки, которые показывали характер коммуникаций органов госбезопасности с обществом15.
КГБ в постсталинский период. Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР16, в ведении которого находились вопросы разведывательной и контрразведывательной работы, охраны государственной границы и другие общественно-политические задачи, был создан 13 марта 1954 г. Деятельность спецслужб регламентировалась лишь секретными инструкциями. Строго засекреченное Положение о КГБ при Совете министров СССР, подписанное Хрущёвым 9 января 1959 г., определило организационную структуру Комитета и направления его деятельности, сохранявшиеся относительно неизменными вплоть до 1991 г. В Положении указывалось, что КГБ и его структуры на местах являлись «политическими органами, осуществляющими мероприятия Центрального комитета партии и правительства по защите Социалистического государства от посягательств со стороны внешних и внутренних врагов, а также по охране государственных границ СССР». Комитет и его органы были обязаны «держать тесную связь с трудящимися, постоянно опираться на их помощь»17.
Современные исследования показывают, что советские спецслужбы были сильной организацией, обладали мощной и разветвлённой сетью структур в каждой союзной и автономной республике, крае, области и районе страны, с агентами (добровольными помощниками) в каждой ячейке общества. Однако ни в один из периодов советской истории они не находились вне контроля Кремля. Можно согласиться с оценкой Н. В. Петрова, что «роль ВЧК–КГБ в различные периоды истории не может быть определена в строгих рамках подчинённости партии. Нельзя исключать и имевшего место взаимовлияния»18.
Важно отметить, что до XX съезда КПСС советские органы госбезопасности находились вне любых видов критики, и это приводило к сильной зависимости от них высшего партийного руководства. Содержательная оценка их работы стала возможной только после данной Хрущёвым отмашки «сверху» и носила сугубо аппаратный, закрытый от общества, характер.
В качестве примера можно привести датированное 23 декабря 1954 г. письмо Хрущёву бывшего прокурора СССР Г. Н. Сафонова с анализом причин, «приведших к нарушениям законности в деятельности органов госбезопасности и неэффективности прокурорского надзора»19. Сафонов обращал внимание на тотальную бесконтрольность деятельности НКВД со стороны партии и наличие параллельных структур, «государства в государстве»: «свой аппарат наблюдения, своя армия, свой суд, свои места заключения, зависимая от него система прокуратуры и трибуналов»20. Используя своё высокое положение и огромную власть, «которая опиралась на мощь государственного органа, наделённого чрезвычайными правами, и особенно скрытую от глаз и по существу полностью бесконтрольную оперативно-агентурную его деятельность… эти враги партии (Л. П. Берия) использовали органы госбезопасности в своих преступных целях». Они «специально добивались такого опасного для государства положения, когда один и тот же орган сам возбуждает, сам расследует и сам судит»21. В результате «органам государственной безопасности был создан непомерный авторитет, отнюдь не оправданный их работой»22.
Анализ этого и ему подобных материалов показывает, что в центр внутриаппаратной критики помещались два основных тезиса: возвращение органов госбезопасности под контроль партии23 и к революционным истокам, к этическим идеалам чекистов-«рыцарей революции» в ВЧК времён Ф. Э. Дзержинского. Неслучайно именно в 1958 г. ему был возведён памятник возле здания КГБ в Москве.
В публичном дискурсе внимание переводилось от системных проблем и общих недостатков работы всей системы госбезопасности, которые обсуждались внутри советского и партийного аппарата, на «перегибы» отдельных лиц (Л. П. Берия, Г. Г. Ягода, Н. И. Ежов, В. С. Абакумов). На этом этапе становилась актуальной задача дистанцироваться от сталинского наследия, которое порицалось на государственном уровне. Мы видим момент зарождения представлений о «нравственной чистоте», «моральном таланте» и бескорыстии чекистов в их борьбе с «врагами советской власти» и этическим образцам времён ВЧК–НКВД24.
Реноме КГБ в 1960-х – середине 1980-х гг. Заметное изменение в общественном восприятии спецслужб и их публичном позиционировании связано с приходом в 1961 г. на пост главы Комитета В. Е. Семичастного. Пытаясь откреститься от тяжёлого сталинского наследия, он анонимно писал в «Известиях», что «многие молодые коммунисты пришли в КГБ, и нет сейчас в КГБ человека, который бы во времена культа личности Сталина принимал участие в репрессиях против невинных советских людей»25. В служебной записке в ЦК КПСС 22 января 1963 г. он утверждал, что в репрессиях виноват «Берия и его банда», а сейчас, «при неослабном руководстве» ЦК КПСС и лично Хрущёва, «возрождены славные традиции ВЧК»26.
Семичастный первым озаботился вопросами улучшения имиджа КГБ. Как показывает исследование Дж. Федор, именно при нём начались попытки кинематографистов изобразить чекистов в положительном ключе. Они были сравнительно менее институциализированы, чем те, которые предпринимались в 1967–1982 гг. командой Андропова27. В это время началось то, что исследователи называют «культурным ренессансом КГБ»: сотрудничество с творческой интеллигенцией при производстве фильмов и романов на тему истории и славного прошлого советских спецслужб. Позитивный имидж формировался через публикацию ранее скрывавшихся подвигов советских разведчиков и агентов. Страна узнала о подвигах Р. Абеля, К. Филби, Р. Зорге. На помощь спецслужбам пришёл Ю. Семёнов, выпустивший книгу, ставшую основой сценария популярного фильма «Семнадцать мгновений весны».
В 1981 г. к 65-летнему юбилею КГБ вышел снятый по заказу Госкомитета по телевидению и радиовещанию и по сценарию Семёнова четырёхсерийный фильм «20 декабря» о рождении советской спецслужбы. В роли Дзержинского снялся М. М. Козаков, а режиссёр фильма Г. Г. Никулин и актёр В. И. Головин за роль Б. В. Савинкова были удостоены Государственной премии имени братьев Васильевых. В 1978–1989 гг. ежегодно проводился конкурс на лучшее произведение в области литературы и кино с вручением Премии КГБ СССР. Его лауреатами в разные годы становились режиссеры П. Г. Чухрай и В. П. Фокин, актёры В. В. Тихонов и Г. С. Жжёнов, писатели Ю. Семёнов и В. Ардаматский28.
Художественные фильмы «ТАСС уполномочен заявить…», «Операция “Трест”», «Ошибка резидента», «Государственная граница» и многие другие вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Их герои популяризировали работу органов госбезопасности, пытаясь конкурировать с зарубежным кино по привлекательности своих героев. Зачастую им это удавалось. «Историческая ирония состоит в том, что старт фильма “Семнадцать мгновений весны” в 1973 г. и пересмотр отношения советского общества к этой профессии совпал со скандалами в американских спецслужбах – Уотергейт и ряд других. Сам образ Джеймса Бонда был намного беднее, и иные американские киногерои явно проигрывали виртуозному Штирлицу», – писал Э. Дженс29.
В итоге советское кино во многом с подачи и при поддержке Комитета сформировало романтизированный образ разведчика и контрразведчика: умного, сильного, изобретательного профессионала30. В массовом сознании, особенно у женской части общества, именно Штирлиц олицетворял типичного представителя советских спецслужб. Разведывательная сторона деятельности КГБ, овеянная ореолом загадочности, риска, силы и изобретательности, заметно перевешивала «тёмные» страницы его истории31, которые в публичном поле в этот период практически не обсуждались.
В мае 1982 г., оставляя свою службу в КГБ, Андропов с удовлетворением констатировал значительное улучшение публичного имиджа организации. На прощальной Коллегии КГБ он говорил: «Мы – чекистская организация. Когда мы говорим, что роль органов поднята, она поднята, конечно, усилиями всей нашей партии, всего нашего Центрального Комитета… Поэтому служить верно, служить самоотверженно Центральному Комитету партии – это первейшая задача чекистов, и надо нам весь чекистский коллектив в этом духе воспитывать»32. Таким образом, сохранялся нарратив преемственности ВЧК и «чекистских идеалов».
КГБ в информационном пространстве 1985–1991 гг. В годы перестройки два запроса на обновление («сверху», от М. С. Горбачёва, и «снизу», от различных слоёв советского общества) формировали сильную турбулентность. В этих условиях КГБ находился в наихудшем положении: чем больше множились ряды сомневающихся и критикующих, тем больше негативных стрел летело в адрес «охранителей» монополии КПСС. Комитет находится в эпицентре критики из-за особой близости к партийным органам и масштабности произведённого им социального эффекта.
Специфическое информационное пространство, которое сложилось в Советском Союзе в конце 1980-х гг., оказывало серьёзное влияние на формирование негативного образа КГБ. Комитет находился под нарастающим шквалом критики из дальнего зарубежья. Особенно сильно по его позициям били «откровения» перебежчиков – бывших сотрудников спецслужб (О. Гордиевский, В. Кузичкин, В. Шеймов и др.) и мнения пострадавших от преследований диссидентов33. Одновременно вскрывшиеся детали успешных и эффективных операций КГБ против ЦРУ, открытие «советских секретов» (реальных и мнимых) способствовали формированию имиджа могущественного «монстра», который стремился держать в страхе весь мир34.
О. М. Хлобустов отметил, что свобода выражения собственной позиции, «снижение ответственности СМИ за публикуемые статьи, привело к появлению многочисленных фальсификаций и мифов, положило начало неподцензурному распространению зарубежных и “самиздатовских” изданий, публикациям без элементарного анализа разножанровых книг зарубежных авторов, [которые отличала] сенсационность и даже истеричность подачи материалов и необоснованные претензии на “историческую истину в последней инстанции”»35. Автор привёл данные контент-анализа ряда публикаций центральных и региональных изданий 1989 г.: «Всего анализировалось более 900 статей прессы по вопросам освещения деятельности органов госбезопасности на различных этапах их существования». Около 70% изученных статей имели ярко выраженный негативный, «разоблачительный» характер в отношении деятельности органов госбезопасности, в основном они касались периода 1930–1950-х гг. Но эти «выводы» экстраполировались на современную деятельность органов. 20% составляли «нейтральные» публикации и только около 10% – «позитивные» материалы о современной деятельности органов КГБ. Последние, как правило, были подготовлены при участии подразделений общественных связей органов КГБ СССР36.
Очевидно, в этих условиях профессиональные, взвешенные оценки истории спецслужб не были востребованы. Настоящие дивиденды получали авторы мистификаций и публицистических опусов, а также западные разведки. Для КГБ такая ситуация имела двоякие последствия: с одной стороны, дискредитировалась его работа, с другой – формировался миф о всесилии советских спецслужб. Всё это заставляло КГБ постепенно перестраивать свою работу на новый лад. Анализ ведомственных публикаций показывает, что Комитет отнюдь не препятствовал процессу перестройки, напротив – был его активным участником. По мере того как темпы реформ Горбачёва менялись от довольно умеренных к гораздо более радикальным, КГБ, как и весь остальной государственный аппарат, старался не отставать37.
Как объяснялась необходимость демократизации деятельности правоохранительных органов и разрешение очевидного противоречия между конспиративными методами, закрытостью спецслужб и требованиями гласности? Ответ заключался в специфической трактовке понятия «гласность» и доказательств её соответствия корпоративным интересам. Так, Ф. Д. Бобков38 в интервью журналу «Родина» подчёркивал, что многое в работе органов понималось «превратно, да и сейчас так понимается ввиду их прежней закрытости, недостатка гласности или гласности односторонней»39. Демократию предлагалось сделать союзником Комитета в «работе с массами». В. А. Крючков неоднократно говорил, что «советские люди вправе знать о деятельности, характере органов КГБ» и что гласность – «это состояние постоянного сближения чекистов с трудящимися», чтобы «избежать шельмования и отвергать клевету средств массовой информации западных стран»40. Аналогично разъяснялась необходимость развития гласности в деятельности органов и войск КГБ в одноимённом решении Коллегии ведомства41. Так решалась двойная задача: возвращение доверия общества и нивелирование репутационных потерь.
В публичных выступлениях Крючков неоднократно заявлял: «Не интересы общества и государства должны приспосабливаться к деятельности органов госбезопасности и их служб, а, наоборот, органы КГБ и их службы должны неукоснительно подчиняться интересам общества и государства, исходить из них»42. В духе времени заявлялось, что гарантия от возврата к прошлому – неукоснительное соблюдение и строжайшее исполнение каждым сотрудником Конституции СССР, законов и подзаконных актов. Важным представлялось «укрепление связи органов с народом, так как обеспечение государственной безопасности – наша общая задача»43. Говорилось о необходимости нового закона о КГБ, чтобы укрепить правовые основы его работы: «Основным нормативным документам КГБ насчитывается до 30 лет и более. За это время произошли глубокие изменения, сложились новые условия»44.
Особое внимание уделялось болезненной теме Большого террора, вновь зазвучали знакомые установки постсталинской эпохи. «Прежде всего я хочу подчеркнуть, – говорил в интервью журналу “Неделя” заместитель председателя КГБ В. П. Пирожков, – что мы, работники органов госбезопасности, бескомпромиссно осуждаем массовые репрессии 30–40-х и начала 50-х годов, творившееся беззаконие, искренне разделяем общую боль нашего народа, всецело поддерживаем решения партии о скорейшей и полной реабилитации каждого невинно пострадавшего»45. На вопросы «Сколько наказано (и как) ежовских и бериевских палачей, следователей, надзирателей? Не можете ли Вы привести примеры, назвать имена?», видный чекист отвечал: «За грубейшие нарушения социалистической законности 1 342 сотрудника НКВД–МГБ были приговорены к различным мерам наказания, в том числе к расстрелу. В их числе Берия, Ежов, Кобулов, Фриновский, Прокофьев, Агранов, Абакумов и другие. Кроме того, 2 370 сотрудников наказаны в партийно-административном порядке (уволены, лишены пенсий, званий и пр[оч.].)… Сегодня в рядах чекистов нет ни одного работника, хотя бы в малейшей степени причастного к злодеяниям периода сталинизма»46.
Годы перестройки отмечены фактами общественной критики КГБ, которая подразумевала публичные разъяснения и признание собственных недоработок. На вопрос о том, какую роль в обострении межнациональных проблем в СССР играют США, Крючков отвечал так: «Конечно, на той стороне не бездействуют, они пытаются активно влиять на положение дел в нашей стране. Но, товарищи, давайте искать причины прежде всего в родном доме, у себя. Искать причины в себе, где мы когда-то неправильно поступили»47. Отвечая на вопрос об «ошибках и просчётах» КГБ во время событий в Ферганской долине, он признавал: «Да… Не было достаточно острой, принципиальной оценки. Мы видели, что события назревают, но по-настоящему в колокол не ударили»48. Сходные оценки давались работе ведомства в ряде других конфликтов на национальной почве.
Как отмечают специалисты, мероприятия по внедрению начал гласности можно свести к четырём областям. Во-первых, органам КГБ предлагалось установить регулярные контакты с местными СМИ и издательствами для распространения новых сюжетов. Задействовались ресурсы телевидения и крупных советских газет49. Во-вторых, меры гласности включали в себя социологические элементы: анализ вопросов населения о работе КГБ и изучение реакции различных слоёв общества на публичные выступления сотрудников. В-третьих, центральные органы управления и его местные подразделения создали комиссии по изучению и оценке архивных документов. Наконец, вновь созданным отделам «З» (защита конституционного строя), бывшего 5-го управления, было поручено разъяснить населению свои задачи, подчеркнув, что их усилия направлены в первую очередь на внешнего противника и основаны на «точном и неуклонном соблюдении советских законов в условиях создания правового государства»50.
Получив задание работать с телеаудиторией, некоторые подразделения КГБ смело перешли к прямому эфиру, тщательно его спланировав51. В г. Горьком местное управление Комитета отбирало лиц для дебатов, чтобы развеять слухи о КГБ, аргументировать его позитивную роль в обществе, а также задавать острые вопросы о либералах, которые доминировали на таких собраниях, с особым упором на их предполагаемые связи с Западом. Эти встречи снимались сотрудниками на видео, затем проводился критический анализ, чтобы выявить ошибки со стороны офицеров, например, упущенные возможности дискредитировать оппозицию или неверные ответы на неожиданные вопросы52.
КГБ также привлекали к работе ветеранов-чекистов, проявивших «склонность к литературной деятельности», предоставив им эксклюзивный доступ к архивным материалам, «объективно отражающим историческое прошлое советского государства и органов госбезопасности»53. И если на первом этапе перестройки пресс-службы и центры по связям с общественностью органов КГБ явно проигрывали своим оппонентам по информационному противоборству, то со временем ситуация заметно изменилась.
Таким образом, в этот период проявили себя основные нарративы исторической преемственности от ВЧК, как по-настоящему ленинской структуры, к КГБ: во многих интервью самопрезентация происходила через термин «чекист». Был возрождён постсталинский дискурс «самоочищения», отмежевания от страниц «трудного» прошлого; вновь использовалась хрущёвская концепция «связи с народом».
Заключение. Образы КГБ в медиа и его забота о собственном имидже представляют собой проекцию изменения государственной политики (а в перестроечный период – и общественного мнения) в отношении спецслужб в различные исторические эпохи. До перестройки советское общество в целом было относительно монолитно в оценках деятельности органов государственной безопасности. Восхищение профессионализмом и неподкупностью советских разведчиков соседствовало со страхом и уважением. С 1985 г. органы госбезопасности весьма активно включились в работу в информационном поле, производили собственный медийный дискурс и активно транслировали его в публичном поле, т. е., говоря современным языком, получили опыт политтехнологической и PR-работы. Пропагандировалась необходимость сохранения мощных силовых структур. В результате Комитету удалось упредить внешний реформистский дискурс, трансформировать общественное мнение в свою пользу. Медиа-инструменты и приобретённый органами госбезопасности опыт их использования оказали существенное влияние на политические технологии постсоветской России.
Начиная с постсталинской эпохи закрепился нарратив преемственности, когда КГБ позиционировал себя в качестве наследника ВЧК и символической фигуры Дзержинского, но отделял себя от НКВД–МГБ. Само название «чекисты» характерно для всех исторических этапов. По словам Н. В. Петрова, «Андропов на излёте своей многолетней службы в КГБ изрёк знаковую фразу “Чекист – профессия особая”, определив тем самым не только особый статус, но и исключительное положение службы государственной безопасности в системе советских государственных органов»54. Подобные установки, помноженные на культивирование представлений о нравственной чистоте и бескорыстии чекистов в их борьбе с «врагами советской власти», подкреплялись и усилиями творческой интеллигенции. Результатом стала романтизация образа сотрудника КГБ, которая оказывает влияние и на современную общественную оценку деятельности ведомства в советское время.
1 Малинова О. Ю. Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти. М.; СПб., 2018. С. 33.
2 Там же. С. 31, 49 и др.
3 Малинова О. Ю. Кто и как формирует официальный исторический нарратив? (Анализ российских практик) // Полития. 2019. № 3(94). С. 104–105.
4 «Оказывается, что сотрудник КГБ – это романтизированный образ некоего героя. Для простой советской женщины кэгэбешник до сих пор – это такой супергерой, советский тип супермена. Она его боится, но он сильный. Он умный. Это – Штирлиц. Это какие-то, видимо, образцы из кинофильмов. И это у людей, которые в целом относятся к КГБ как к машине подавления, с опаской и тревогой», – отметили в своём социологическом исследовании О. Крыштановская и С. Уайт (White S., Kryshtanovskay O. Public Attitudes to the KGB: A Research Note // Europe-Asia Studies. Vol. 45. 1993. № 1. P. 169–175).
5 См. историографический анализ отечественных работ: Хлобустов О. М. Некоторые вопросы историографии КГБ СССР (конец 80-х гг. – 2006 г.) // Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб. Т. 3. М., 2007. С. 64–92; Авилова Н. Л., Шуров А. И. Актуальные вопросы историографии органов КГБ СССР // Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3(32). С. 121–127; Пожаров А. И. Противоречия и споры в историографии деятельности советских органов госбезопасности в период 1953–1964 гг. // Диалог со временем. 2010. Вып. 32. С. 279–307; Пожаров А. И. Современная источниковая база по истории советских спецслужб 1950–1960-х гг. // Отечественные архивы. 2009. № 5. С. 29–36.
6 Петров Н. В. Время Андропова. М., 2023; Петров Н. В. Свои люди в органах государственной безопасности // Режимные люди в СССР. М., 2009. С. 303–325; Pringle R. W. Andropov’s Counterintelligence State // International Journal of Intelligence and CounterIntelligence. 2000. Vol. 13:2. P. 193–203.
7 Петров Н. В. Иван Серов – председатель КГБ. М., 2021.
8 Зданович А. Введение // Команда Андропова. Сборник воспоминаний и архивных материалов / Сост. В. К. Былинин. М., 2005. С. 9.
9 Федор Дж. Традиции чекистов от Ленина до Путина. СПб., 2012; Knight A. The Selling of the KGB // The Wilson Quarterly. Vol. 24. 2000. № 1. P. 16–23; Hosaka S. The KGB and Glasnost: A Contradiction in Terms? // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. Vol. 31. 2023. № 1. P. 57–90; Miles S. The Problems of Perestroika: The KGB and Mikhail Gorbachev’s Reforms // Slavic Review. Vol. 80. 2021. № 4. P. 816–838.
10 Федор Дж. Указ. соч. С. 11, 147, 172.
11 Викторов Д., Львов О. Не только Штирлиц. Контрразведка в советском кинематографе. М., 2022; Север А. Исаев: информация к размышлению. М., 2009; Секиринский С. Советские реалии в зеркале телесериала «Семнадцать мгновений весны» // Россия и современный мир. 2003. № 3(40). С. 148–160; Sukovataya V. A. Spy and Counterspy as a «Cultural Hero» in the Soviet Cinema of the Cold War // Diacronie. Studi di Storia Contemporanea. 2017. № 30, 2; Jens E. Cold War Spy Fiction in Russian Popular Culture: From Suspicion to Acceptance via Seventeen Moments of Spring // Studies in Intelligence. Vol. 61. 2017. № 2. P. 31–35.
12 Huskey E. Government Rulemaking as a Brake on Perestroika // Law and Social Inquiry. Vol. 15. 1990. № 3. P. 419–424.
13 Архивы Кремля и Старой площади. Документы по «делу КПСС» / Сост. И. И. Кудрявцев. Новосибирск, 1995; Политбюро и органы государственной безопасности / Сост. О. Б. Мозохин. М., 2017.
14 В сборнике представлены материалы выступлений руководства ведомства перед общественностью за май 1989 г. – январь 1990 г. (КГБ лицом к народу. Сборник интервью и материалов выступлений Председателя и заместителей Председателя КГБ СССР. М., 1990).
15 Howard L., Zeman N. The KGB on TV // Newsweek. 1991–04–29. Vol 117. Issue 17 (URL: https://archive.org/details/sim_newsweek_1991–04–29_117_17 (дата обращения: 28.10.2024)).
16 5 июля 1978 г. КГБ повысил свой статус до самостоятельного ведомства: от КГБ при Совете министров СССР в просто КГБ СССР, однако это было формальностью. В своей оперативной работе Комитет никогда не отчитывался перед Советом министров, только перед ЦК КПСС (Петров Н. В. Время Андропова. С. 473).
17 Политбюро и органы государственной безопасности. С. 713–719.
18 Петров Н. Свои люди в органах государственной безопасности. С. 311–312.
19 Политбюро и органы государственной безопасности. С. 688–700.
20 Там же. С. 694.
21 Там же. С. 689, 693.
22 Там же. С. 694.
23 Возвращением к приоритету правового регулирования над неправовыми нормами и стремлением поставить под контроль партии спецслужбы и объясняется принятие в 1959 г. Положения о КГБ.
24 Лёзина Е. ВЧК и её преемники: методы террора и практики дискриминации. К 100-летию основания советской тайной полиции // Вестник общественного мнения. 2017. № 3–4(125). С. 123.
25 Полмар Н., Аллен Т. Б. Энциклопедия шпионажа / Пер. с англ. В. Смирнова. М., 1999. С. 566.
26 Политбюро и органы государственной безопасности. С. 721.
27 С начала 1960-х гг. на экранах стали появляться молодые интеллектуалы, опрятные герои в строгих костюмах. Создавался образ «культурного» сотрудника секретной службы. Редактор романа В. М. Кожевникова «Щит и меч» (1965), ставшего впоследствии культовым произведением, отмечал, что офицер разведки в нём изображён «высокоинтеллектуальным человеком» (Федор Дж. Указ. соч. С. 53).
28 Викторов Д., Львов О. Не только Штирлиц… С. 308–310.
29 Jens E. Op. cit. P. 31–35.
30 Образ советского контрразведчика представлялся сходным образом: «Обаятельный и обязательно скромный парень от 25 до 50, в хорошем, всегда отглаженном, но не слишком дорогом костюме, не в стоптанных штиблетах, который всегда сдержан, умён, корректен, с тонким чувством юмора, с ощущением русского языка, с явно выраженным чувством правды и справедливости, способностью восстановить эту справедливость в широком смысле слова без оглядки на идеологические догмы, со спокойным чувством долга, с чувством меры, уравновешивающим чувство долга, умеющий, когда это действительно нужно, своевременно достать и применить пистолет» (Викторов Д., Львов О. Не только Штирлиц… С. 4–5).
31 Крыштановская О. В. Опыт проведения социологических исследований Службы государственной безопасности // КГБ: вчера, сегодня, завтра. Сборник докладов. М., 1993. С. 133.
32 Петров Н. В. Время Андропова. С. 571–573.
33 Продажа «секретов КГБ» представляла собой высокодоходный бизнес. Следует отметить, что из уст профессиональных историков неоднократно звучали критические высказывания относительно достоверности книг и документов Комитета, к которым приложили руку диссиденты и перебежчики, звучали упрёки в тенденциозности, бездоказательности тезисов и сомнительности отдельных фактов и цифр. «Мир после холодной войны наводнён дразнящими рассказами из архивов КГБ. Но новая литература по советскому шпионажу может быть гораздо менее показательной, чем кажется… Вероятно, лучший подход – это относиться к этим книгам с тем же скептицизмом, который мы применяли к советским публикациям, из которых требовательный читатель мог бы многое почерпнуть» (Knight A. Ор. сit. P. 16–23).
34 Shebarshin L. Reflections on the KGB in Russiа // Economic and Political Weekly. Vol. 28. 1993. № 51. P. 28–29.
35 Хлобустов О. М. Общественное мнение населения об органах государственной безопасности (конец 1980-х – 1990-е гг.) // Деятельность отечественных спецслужб в эпоху социальных катаклизмов. Материалы международной научно-практической конференции (Омск, 23 ноября 2017 г.). Омск, 2017. С. 238.
36 Там же.
37 Miles S. The Problems of Perestroika… P. 816–838.
38 Бобков Филипп Денисович (1925–2019), в 1969–1983 гг. – начальник 5-го Управления КГБ СССР («Пятка»), которое занималось политическим сыском, вело разработку зарубежных антисоветских центров и организаций, критиковавших советский режим, боролось с «инакомыслием».
39 Перестройка на площади Дзержинского. Интервью Ф. Бобкова журналу «Родина» // Родина. 1989. № 11. С. 51.
40 КГБ лицом к народу… С. 37.
41 Решение Коллегии КГБ СССР «О развитии гласности в деятельности органов и войск КГБ СССР» было опубликовано в газете «Правда» 7 мая 1989 г. и содержало следующую установку: «Сделать более понятными для советской общественности цели и содержание чекистской работы, объяснить необходимость использования органами госбезопасности своих специфических средств и методов во имя защиты интересов советского народа и общества». Ранее, в феврале 1988 г., председатель КГБ издал указание «Об использовании материалов КГБ в газете “Аргументы и факты” и отдельных программах Центрального телевидения», а в апреле 1988 г. в «АиФ» появилась официальная рубрика «КГБ СССР сообщает и комментирует». В июле 1988 г. Коллегия поручила органам безопасности «шире использовать возможности средств массовой информации, в том числе телевидения, для разъяснения руководящей роли и политики партии в обеспечении государственной безопасности, интересующих общественность вопросов о работе органов государственной безопасности» (КГБ лицом к народу… С. 113, 117; А как у них. КГБ по-французски? // Аргументы и факты. 1990. № 2. URL: https://archive.aif.ru/archive/1651117 (дата обращения: 28.10.2024)).
42 КГБ лицом к народу… С. 6–7.
43 Там же. С. 34.
44 Там же. С. 8.
45 Там же. С. 28–34.
46 Там же. С. 30.
47 Там же. С. 14.
48 Там же. С. 16.
49 К сентябрю 1988 г., по сравнению с предыдущим годом, было создано 235 книг, 10 полнометражных игровых и документальных фильмов, 40 короткометражных и телефильмов на чекистскую тематику, помимо опубликованных 7,5 тыс. статей (Hosaka S. The KGB and Glasnost… Р. 68).
50 Ibid. P. 60–63.
51 Сотрудники КГБ организовали собственные «авторские группы (коллективы) из числа писателей, журналистов, учёных», аналогичные тому, что позже стало известно как «пул» журналистов. Они «разрабатывали планы публикации статей, создания фильмов и телепрограмм об истории ВЧК–КГБ, помогали потенциальным авторам в подборе материалов» (Ibid).
52 Поделякин и Суханов. Тактика простая – в ряду митингующих! // Сборник КГБ СССР. 1991. № 154, см. также: Miles S. The Problems of Perestroika… P. 816–838.
53 Окунев В. Чекист и гласность // Сборник КГБ СССР. 1991. № 155. С. 27–29.
54 Петров Н.В. Свои люди в органах государственной безопасности. С. 303.
About the authors
Julia N. Guseva
Moscow City University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, профессор
Russian Federation, MoscowVasiliy S. Khristoforov
Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
Email: otech_ist@mail.ru
доктор юридических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Авилова Н.Л., Шуров А.И. Актуальные вопросы историографии органов КГБ СССР // Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3(32). С.121–127.
- Викторов Д., Львов О. Не только Штирлиц. Контрразведка в советском кинематографе. М.: Вече, 2022. 464 с.
- Зданович А. Введение // Команда Андропова. [сб. воспоминаний и арх. материалов / О-во изучения истории отечеств. спецслужб; сост., подбор арх. док. и фот.: В. К. Былинин]. М.: Русь, 2005. 254 с. С.9–15.
- Крыштановская О.В. Опыт проведения социологических исследований Службы государственной безопасности // КГБ: вчера, сегодня, завтра. Сборник докладов. М.: Знак-СП, Гендальф, 1993. С. 123–134.
- Малинова О.Ю. Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти / отв. ред. Миллер А.И., Ефременко Д. В. М.-СПб: Нестор-История, 2018. С. 27–53.
- Малинова О.Ю. Кто и как формирует официальный исторический нарратив? (Анализ российских практик) // Полития. 2019. №3(94). С.103–126.
- Петров Н.В. Время Андропова. М.: АФК «Система»; Политическая энциклопедия, 2023. 768 с.
- Петров Н.В. Свои люди в органах государственной безопасности // Режимные люди в СССР / [отв. ред. : Т. С. Кондратьева, А. К. Соколов]. М.: РОССПЭН: Фонд первого президента России Б. Н. Ельцина, 2009. С.303 – 325.
- Пожаров А. И. Противоречия и споры в историографии деятельности советских органов госбезопасности в период 1953–1964 гг. // Диалог со временем. 2010. Вып. 32. С. 279–307.
- Пожаров А.И. Современная источниковая база по истории советских спецслужб 1950-1960-х гг. // Отечественные архивы. 2009. №.5. С. 29–36.
- Федор Дж. Традиции чекистов от Ленина до Путина. СПб.: Питер, 2012. 304 с.
- Хлобустов О.М. Некоторые вопросы историографии КГБ СССР (конец 80-х гг. - 2006 г.) // Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб. 2007. Т. 3. С. 64–92.
- Хлобустов О.М. Общественное мнение населения об органах государственной безопасности (конец 1980-х - 1990-е гг.) // Деятельность отечественных спецслужб в эпоху социальных катаклизмов: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 23 нояб. 2017 г.). Омск: Изд-во ОмГТУ, 2017. 256 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rummuseum.info/node/5807 (дата обращения – 01.10.2024).
- Eugene Huskey (1990) Government Rulemaking as a Brake on Perestroika, in Law and Social Inquiry, рр.419-424.
- Jens E. (2017) Cold War Spy Fiction in Russian Popular Culture: From Suspicion to Acceptance via Seventeen Moments of Spring, in Studies in Intelligence, Vol 61: 2, pp.31–35.
- Knight A. (2000) The Selling of the KGB, in The Wilson Quarterly, Vol. 24, № 1, рр. 16–23.
- Pringle Robert W. (2000) Andropov's Counterintelligence State, in International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, Vol.13: 2, рр. 193–203, doi: 10.1080/08850600050129718
- Sanshiro Hosaka (2023) The KGB and Glasnost: A Contradiction in Terms? in Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, Vol. 31: 1, рр. 57–90.
- Simon Miles (2021) The Problems of Perestroika: The KGB and Mikhail Gorbachev’s Reforms, in Slavic Review, Vol. 80, №. 4, рр. 816–838.
- Shebarshin L. (1993) Reflections on the KGB in Russiа // Economic and Political Weekly, Vol. 28, № 51, рр. 2829–2832.
- Stephen White and Ol'ga Kryshtanovskaya (1993) Public Attitudes to the KGB: A Research Note, in Europe-Asia Studies. Vol. 45, №. 1, pp. 169–175.
Supplementary files