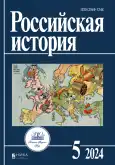Russian Federation in the first year of reforms: difficulties and contradictions of the transition to the market economy
- Authors: Kirsanov R.G.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 174-190
- Section: Institutions and communities
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274847
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050114
- EDN: https://elibrary.ru/SKOXOQ
- ID: 274847
Cite item
Full Text
Abstract
The article analyzes the first year of the implementation of radical economic reforms in Russia, also known as the policy of "shock therapy". The author examines the conditions prevailing by the early 1990s for the transition to a market economy and examines the key measures of the government of E.T. Gaidar in 1992. Assessing the activities of the new Russian government, the author draws attention to the fact that the reformers actually had to act in a time-consuming environment: the economy was completely unbalanced, the old mechanisms of public administration were destroyed, new mechanisms of public administration had not yet been created. In addition, the institutions functioning in the country were not adapted for a rapid transition to a new social formation, which in many ways predetermined the difficulties of the transition period. At the same time, the author notes numerous mistakes made by the new government during the period of radical economic reform.
Full Text
На рубеже 1980–1990-х гг. в Советском Союзе начались преобразования, в результате которых за короткое время произошли резкие изменения в самых разных сферах жизни общества и одновременно обострились многие социально-экономические проблемы. Стартовые условия реформ осложнили значительный территориальный и экономический масштаб государства; сложная, но малоэффективная система «планового социалистического распределения»; отсутствие опыта свободного предпринимательства в условиях рынка и кризис финансовой системы; рост бюджетного дефицита и государственного внешнего долга; сокращение объёмов производства, снижение экспортных и импортных возможностей, а впоследствии – распад единого экономического пространства и разрыв хозяйственных и технологических связей между отраслями и предприятиями. Обременительные военные расходы и многомиллиардные кредиты убыточным предприятиям накачивали экономику пустыми деньгами и подхлёстывали инфляцию. В развитых странах Центральный банк обладает правом (и возможностью) отказывать властям в тех случаях, когда их финансовые притязания угрожают стабильности курса национальной валюты. Советский же Госбанк, напротив, регулярно предоставлял правительству кредиты для покрытия бюджетного дефицита, создавая угрозу ослабления рубля. Правила и процедуры, по которым осуществлялась трансформация экономики, изначально отличались слабой проработанностью, неопределённостью и неустойчивостью. В итоге развитие событий существенно отличалось от ожиданий инициаторов перемен, довольно быстро утративших над ними контроль.
По масштабу преобразований период конца 1980-х – начала 1990-х гг. сопоставим с эпохой, начавшейся в 1917 г. Кардинальные изменения затронули все сферы жизни общества, которое разделилось на «очень богатых» и «очень бедных». Для многих наших сограждан то время прочно ассоциируется с «шоковой терапией», галопирующей инфляцией, безработицей, коррупцией, финансовыми пирамидами, понижением уровня жизни и угрозой голода. Больше всего пострадали работники бюджетной сферы, причём их зависимость от государства выросла из-за задержек с выплатой зарплаты, отсутствия у большинства частной собственности, доступа к распределению материальных благ и т. д. В кризисном состоянии пребывала и экономика. Спад охватил почти все её отрасли, в том числе работавшие на потребительский рынок. Вследствие систематического недоинвестирования повысилась степень износа основных фондов, увеличились сроки использования устаревших машин и оборудования, остро не хватало средств на технологическую модернизацию. Падение цены на нефть сократило приток валюты, резко ограничив возможности закупать за рубежом продовольствие и потребительские товары.
Реформы 1990-х гг. получили в научной и публицистической литературе самые разные оценки. Часть работ принадлежат перу самих реформаторов, многие из которых вышли из научной среды. Е. Т. Гайдар оказался прав: «Дискуссии о том, что в эти годы было сделано правильно, что неправильно, кто был прав, а кто нет, будут идти долго»1. По его мнению, крупномасштабное падение производства практически не зависело от проводившейся экономической политики и являлось типичным для постсоциалистических стран в первые три года реформ под воздействием «шоковой терапии». Гайдар также указал на главную черту экономики позднего Советского Союза – неустойчивость, поскольку её рост обеспечивался преимущественно за счёт масштабного экспорта нефти в период высоких цен на неё2.
Народный депутат СССР и министр внешних экономических связей РСФСР в 1990–1991 гг. В. Н. Ярошенко вспоминал, как после подавления августовского путча безуспешно пытался разубедить Гайдара в правильности его экономических воззрений, а в декабре 1991 г. направил в правительство несколько аналитических записок с критикой методов либерализации экономики. Результаты деятельности нового правительства он оценил крайне негативно: «“Шоковая терапия” Гайдара взвинтила до небес гиперинфляцию, швырнула в нищету почти всё население России, обнулила огромные многолетние сбережения, хранившиеся в Сбербанке, обрушив покупательную способность населения. Произошло ураганное разрушение российской экономики. Кроме того, проведение “либерализации внешнеэкономической деятельности” по Авену привело к потере многих внешних рынков, резко сократило экспорт и валютные поступления, разорило государственную казну. Деятельность “реформаторов” породила новые, невиданные доселе виды коррупции чиновников»3.
Р. И. Хасбулатов, в 1991–1993 гг. председатель Верховного совета РФ, выступал последовательным оппонентом Гайдара. Либерализацию цен, по его убеждению, провели в отсутствие сложившейся рыночной инфраструктуры – почти вся экономика страны состояла из государственного сектора и перевести её в короткие сроки на конкурентную основу было невозможно. Сокращение государственных расходов на финансирование экономики имело отрицательные последствия для всех отраслей хозяйства и социальной сферы, при этом бездефицитный бюджет сформировать не удалось. Приватизация проводилась с серьёзными нарушениями законодательства. В результате «крайне непрофессиональной работы» правительства спад производства приобрёл почти повсеместный характер, предприятия испытывали острый дефицит оборотных средств, стремительно нарастали неплатежи, заработная плата обесценилась, недавние оптимистические ожидания сменились раздражением и негодованием4. Первый председатель Центрального банка России Г. Г. Матюхин (1991–1993) также указал, что либерализация цен оказалась преждевременной: экономика характеризовалась высокой степенью монополизации, вследствие чего рост цен оказался обвальным, быстро выйдя за прогнозировавшиеся правительством рамки5.
Академик В. М. Полтерович отметил многочисленные ошибки реформаторов, вызванные главным образом неверной последовательностью реформ. Так, приватизация началась в условиях отсутствия предпринимателей, способных приобрести предприятия, менеджеров, готовых ими руководить в рыночных условиях, и самой рыночной инфраструктуры, а должная защита частной собственности отсутствовала. Вследствие криминализации, коррупции и отсутствия эффективного контроля переходившие в частные руки предприятия оказывались недооценёнными в десятки и сотни раз, благодаря чему их новоявленные собственники могли рассчитывать на огромные прибыли6. Что касается безальтернативности стратегии «шоковой терапии», в которой уверяли молодые реформаторы, то экономическое положение в конце 1991 г. не было критическим, а дефицит товаров объяснялся не стремительным сокращением производства (которое началось уже после начала реформ), а в значительной мере ожиданиями будущих изменений, в том числе повышения цен, о котором объявили в октябре 1991 г.7
Академик Ю. В. Ярёменко, в 1991 г. экономический советник президента СССР, связал провалы в осуществлении реформ с недооценкой специфики отечественной экономики и игнорированием стереотипов поведения её субъектов, складывавшихся многие десятилетия. Позднесоветская экономика имела слишком много отличий от традиционных экономик рыночного типа, что предопределило особые методы её трансформации. Либерализация началась в условиях накопившихся структурных деформаций. Не удалось решить проблемы технологического отставания и высоких издержек в производстве и сельском хозяйстве. Инициированная реформаторами ограничительная денежно-кредитная политика оказалась неадекватна ситуации и спровоцировала дефицит оборотного капитала, что привело к кризису неплатежей8.
По утверждению авторитетного экономиста В. Н. Лившица, правительство не смогло обеспечить разумного реформирования в интересах большинства россиян. Изначально неэффективная линия проведения рыночных преобразований привела к усилению социально-экономической напряжённости, нарушению нормальных воспроизводственных процессов, гиперинфляции и обнищанию основной массы россиян. В итоге страна оказалась в системном кризисе9.
Иную позицию в отношении политики либерализации занимают те, кто непосредственно участвовал в проведении нового курса. А. А. Нечаев, первый министр экономики РФ (1992–1993), утверждал, что решения правительства Ельцина–Гайдара всегда тщательно прорабатывались. Допускались определённые ошибки, но в целом его деятельность сыграла ключевую роль в создании рыночной экономики10. Другой бывший руководитель этого ведомства Е. Г. Ясин (1994–1997) отметил: «Достигнутый тогда уровень экономической свободы, положивший начало глубоким институциональным преобразованиям, – основная заслуга Е. Т. Гайдара, до сих пор непризнанная». Отпуск цен, создавший предпосылки для устранения товарного дефицита, запуска механизма спроса и предложения, изменения поведения экономических агентов, он назвал ключевым элементом перехода к рынку11. По мнению Я. М. Уринсона, руководившего министерством в 1997–1998 гг., несмотря на все сложности, к середине 1990-х гг. удалось добиться насыщения потребительской сферы товарами, сформировался класс собственников и заработали механизмы рыночной конкуренции, что позволило успешно преодолеть последствия дефолта августа 1998 г.12
Настоящая статья – авторское видение картины стремительного перехода России к радикальным экономическим преобразованиям и его результатов.
Стартовые условия. В конце 1980-х гг. в СССР началась работа по постепенному свёртыванию централизованного планирования, внедрению элементов рыночной координации и расширению зоны частной хозяйственной инициативы. Последовали и конкретные решения, в том числе законы «О кооперации в СССР», «О государственном предприятии (объединении)», «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде», серия постановлений о перестройке банковской системы, создании условий для деятельности кооперативов и т.д13. В 1990–1991 гг. были приняты законы «О собственности в СССР», «О банках и банковской деятельности», «О Государственном банке СССР», «О предприятиях в СССР», «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий», «Основы законодательства об инвестиционной деятельности в СССР»14.
Перестроить экономику на новый лад оказалось непросто. Экономическая теория, «замусоренная» идеологическими штампами и иллюзиями, не могла предложить пути решения накопившихся в экономической жизни противоречий, представить целостное, логически стройное объяснение происходящих процессов, выявить прогрессивные направления и разработать качественно новую модель развития. Уже к концу 1986 г. стало ясно, что перестройка буксует. Звучали громкие слова о необходимости «революционных сдвигов» и «перехода к принципиально новым технологическим системам, к технике последних поколений, дающих наивысшую эффективность»15, но конкретных механизмов устранения дисбалансов правительство не представило.
Ростки рыночной экономики пробивались. Неплохие результаты показывали арендные предприятия. Переход на эту форму собственности начался в 1988 г., в начале 1990 г. таких предприятий в стране насчитывалось 1 332, в середине 1991 г. – 3 700; они произвели продукции примерно на 200 млрд руб.16 За 1988–1990 гг. почти в три раза выросло число кооперативов. Однако конкурентоспособным сектором экономики они стать не смогли, поскольку были слабо развиты, зачастую не имели собственной материальной базы и существовали благодаря государственным предприятиям, с которыми вступали в договорные отношения (зачастую в целях обналичивания госсредств). Заводы и производственные объединения остались основными производителями и источниками пополнения бюджета, а доля малого бизнеса в отраслевом производстве не превышала нескольких процентов17.
Институты, унаследованные от СССР, в целом плохо подходили для реализации стабилизационной политики. Господствовала традиционная для иерархически организованной экономики управленческая культура, в рамках которой ключевые решения, влиявшие на развитие предприятия или организации, принимал не руководитель, а вышестоящая инстанция (министерство, главк или партийный орган). Как следствие, отсутствовала деловая этика. Длительное функционирование централизованного планирования привело к нарушению пропорций между материальными и денежными потоками. Монополизм, гигантомания, устаревшие технологии и диктат производителя лишь способствовали разладу экономики. Крупные предприятия концентрировали в своих руках основную часть производимой продукции, которая к тому же характеризовалась слабым экспортным потенциалом. Экстенсивные методы развития вели к неоправданному увеличению бюджетных дотаций, росту незавершённого строительства и накоплению избыточных запасов. Преимущественное развитие предприятий группы «А», характеризовавшихся повышенной фондо- и трудоёмкостью и требовавших постоянных государственных инвестиций, деформировало структуру народного хозяйства, в составе промышленной продукции преобладали средства производства.
Вследствие неупорядоченности ценовой политики и просчётов административного планирования увеличение доходов предприятий и населения не находило адекватного материального покрытия. Действовала экономика не покупателя, а продавца, в которой не производители подстраивались к спросу, заботились об улучшении качества товаров и услуг и занимались разработкой новых видов изделий, а покупателям приходилось «конкурировать» между собой, тратя время в бесконечных очередях, пользуясь услугами перекупщиков-спекулянтов и довольствуясь скудным предложением. Ситуация в потребительской сфере оказалась настолько удручающей, что, согласно данным ВЦИОМ, в начале 1991 г. 60% опрошенных поддерживали идею организации общесоюзного карточного снабжения товарами народного потребления и лишь 16% высказались за повышение цен ради появления ширпотреба на прилавках18.
Американский экономист, автор вышедшей в 1993 г. книги «Почему перестройка провалилась. Политика и экономика социалистической трансформации» П. Бёттке дал характеристику ситуации, в которой началась трансформация российской экономики: нерациональное распределение рабочей силы и капитала, искажённая макроэкономическая политика, игнорирование запросов потребителей. Положение в СССР оказалось наиболее сложным среди всех стран «социалистического содружества»: советская экономика находилась под воздействием деструктивной экономической политики государства значительно дольше и последствия были гораздо тяжелее19. К 1991 г. управленческие структуры утратили контроль над материально-техническими потоками. Традиционные иерархические механизмы распределения ресурсов оказались практически свернуты, а предпосылки запуска рыночных регуляторов пока отсутствовали. Резко сократились возможности для мобилизации финансов, в том числе в целях централизованного инвестирования, дефицит бюджета превысил 20% ВНП20. Субсидирование государственных предприятий из бюджета становилось всё более затруднительным и заставляло прибегать к эмиссии, что в свою очередь раскручивало спираль инфляции. С конца 1990 г. спад промышленного производства шёл практически неубывающими темпами, управляемость народным хозяйством оказалась фактически утрачена, нарастали «бартеризация» хозяйственных связей и утрата доверия к рублю со стороны как предприятий, так и населения21.
В октябре 1991 г. на ежегодной сессии Международного валютного фонда и Мирового банка в Бангкоке большой резонанс вызвало выступление главы советской делегации, заместителя руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР Г. А. Явлинского. Он спрогнозировал, что к концу года ВНП сократится примерно на 13%, продукция промышленности – на 9, сельскохозяйственное производство – на 10–11, общий объём инвестиций – не менее чем на 20, ввод в действие основных фондов – на 25%. Далее он заявил, что золотой запас СССР составляет 240 т по сравнению с 1,5 тыс. т тремя годами ранее22 (эту информацию вскоре подтвердил заместитель министра финансов СССР В. В. Ситнин).
Попутно набирала силу «номенклатурная приватизация»: представители партийно-государственного аппарата и директорского корпуса «втихаря, без всяких документов, начали создавать кучи всяких подставных фирм»23. Наиболее ушлые дельцы выводили активы за рубеж. В этот процесс втягивались даже высшие звенья государственного аппарата24. При этом, по мнению Гайдара, «размах номенклатурного разворовывания в 1990–1991 гг. намного превосходил всё, что мы имели на этой ниве в 1992–1994 гг. Система 1990–1991 гг. с полной неопределённостью в правах на лжегосударственную собственность, с полной безответственностью специально была создана, чтобы, не боясь ничего, не стесняясь ничем, обогащаться»25.
На пути к радикальным реформам. В этих условиях президент РСФСР Б. Н. Ельцин объявил о намерении приступить к реформам с целью вывести страну из кризиса. Начало финансового оздоровления он связывал с борьбой с рублёвой «интервенцией» союзных республик, скупавших в России сельхозпродукты по высоким ценам и тем самым провоцировавших инфляцию. На первых порах предлагалось ввести денежные знаки с российской полосой: «Этим временно мы будем защищены, потом будет переход на свою национальную валюту, свой денежный знак»26.
28 октября 1991 г. Ельцин выступил с программой реформ на V Съезде народных депутатов РСФСР. В сфере экономики предстояли наиболее крупные и решительные действия: экономическая стабилизация посредством строгой денежно-кредитной политики и ограничения неконтролируемой денежной и кредитной эмиссии, реорганизации налоговой системы и укрепления рубля; приватизация, нацеленная на создание смешанной экономики с сильным частным сектором; земельная реформа (быстрая и кардинальная перестройка аграрного сектора, в том числе реализация правительственной программы организации производства машин и оборудования для крестьянских хозяйств, закупка за рубежом техники и создание сети предприятий по обслуживанию фермеров и переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции); введение свободных цен с целью стимуляции роста производства; создание российской таможни; пересмотр расходов бюджета на военные нужды и сокращение ассигнований на поддержку неэффективных производств, оборону и управленческий аппарат; прекращение оказания помощи и выдачи кредитов другим странам; переход к торговле с независимыми государствами – бывшими республиками СССР, не подписавшими экономическое соглашение, по мировым ценам в валюте; осуществление неотложных социальных программ, включая создание адресной системы помощи наиболее уязвимым слоям населения; введение новой системы оплаты труда с отменой ограничений на рост индивидуальных заработков (ответ на требование профсоюзов «рыночным ценам – рыночную зарплату»); реформирование пенсионной системы; прекращение с 1 ноября 1991 г. финансирования и последующая ликвидация большей части союзных министерств (не упомянутых в Договоре об экономическом сообществе)27.
Желание российского руководства максимально быстро двигаться к рынку было продемонстрировано решительно. Однако ничего принципиально нового Ельцин не сказал. Разговоры о необходимости всех этих мер велись и ранее, но оставались на уровне намерений. Как отмечали некоторые депутаты, «восприятию инициативы президента мешала излишняя лозунговость изложенной им программы реформ. Из неё ясно, “что” делать, а вот “как” практически – пока тайна за семью печатями»28. Вопрос заключался в том, получится ли у президента следовать собственным планам, ведь они предполагали отмену дотаций большинству убыточных предприятий и сокращение ассигнований на оборону – со всеми вытекающими последствиями. Интересовало и то, какие меры предпримет правительство для смягчения последствий перехода к рынку для малообеспеченных слоёв населения. Ельцин не отрицал, что отпуск цен и прочие радикальные меры приведут к временному падению уровня, но обещал, что уже через полгода начнётся его постепенное улучшение и понижение цен29.
Как бы то ни было, программа встретила поддержку даже тех депутатов, которые ранее скептически относились ко всем его начинаниям. 1 ноября V Съезд народных депутатов РСФСР принял постановления об организации исполнительной власти и о правовом обеспечении реформы30. Ельцин наделялся чрезвычайными полномочиями на срок до 1 декабря 1992 г., в том числе правами издавать указы, имеющие силу закона (с ускоренным их рассмотрением в Верховном совете), самостоятельно решать вопросы реорганизации структур высших органов исполнительной власти и приостанавливать союзные и республиканские акты, препятствующие проведению реформы. Днём ранее, во время встречи с представителями фракции «Промышленный союз», Ельцин сообщил, что уже подготовлен указ об освобождении цен, но назвать точную дату его подписания не решился, «чтобы не возбуждать население»31. Впрочем, на ряд товаров – уголь, газ, нефть, топливо, драгоценные металлы, а также некоторые виды продуктов – цены оставались регулируемыми.
Граждан инициативы Ельцина встревожили. С 29 октября в сберегательных кассах столицы и некоторых других крупных городов выстраивались огромные очереди. При этом люди не забирали свои сбережения, а наоборот – клали деньги в банк. По оценкам Сбербанка, сдача средств превысила среднестатистические поступления в десятки раз. Такое поведение вкладчиков стало реакцией не только на выступление Ельцина 28 октября, но и на его последующее заявление о возможном введении в РСФСР республиканской валюты, если остальные республики не откажутся от попыток «запуска» собственных денежных единиц32. Сыграли роль и циркулировавшие в печати с середины октября слухи об изъятии из оборота или замене 50- и 100-рублёвых банкнот33. Показательны не только малоприятный опыт недавней «павловской» денежной реформы и склонность людей верить различным домыслам, но и доверие к государственным банкам, которое спустя несколько лет сыграло с ними злую шутку на фоне регулярных банкротств коммерческих банков и инвестиционных фондов.
6 ноября Ельцин подписал ряд важных указов: о прекращении на территории РСФСР деятельности КПСС и компартии РСФСР, а также роспуске их организационных структур; о ликвидации Государственного совета РСФСР; о реорганизации российского правительства, в соответствии с которым президент РСФСР на период проведения экономической реформы становился его главой34. В тот же день прошло совещание с руководителями парламентских фракций, в ходе которого президент озвучил состав нового правительства35. В него вошли Г. Э. Бурбулис (государственный секретарь и первый заместитель председателя), Е. Т. Гайдар (заместитель председателя по вопросам экономической политики), А. Н. Шохин (заместитель председателя по вопросам социальной политики), М. Н. Полторанин (министр печати и массовой информации), А. Б. Чубайс (председатель Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом в ранге министра РСФСР), Б. Г. Салтыков (министр науки и технической политики), А. А. Титкин (министр промышленности), В. М. Лопухин (министр топлива и энергетики), Э. А. Памфилова (министр социальной защиты населения) и др.
Ключевую роль играл Гайдар, руководивший подготовкой концепции экономической реформы. По словам политолога и социолога А. М. Салмина, в начале 1990-х гг. руководившего Центром прогностических программ «Горбачёв-Фонда», «это было необычное правительство, в которое вошли молодые технократы – выпускники престижных высших учебных заведений, имевшие учёные степени и способные разговаривать на равных со своими академическими коллегами и западными экспертами. Справедливости ради надо признать, что для другой части интеллектуалов опыт этого правительства стал символом самонадеянности, бездушия и бессилия интеллигенции, дорвавшейся до власти»36.
Формирование правительства происходило в обстановке цейтнота. Конфронтация союзных и республиканских властей разбалансировала экономику: старые механизмы управления оказались разрушены, новые – только предстояло создать. Дефицит союзного бюджета достиг трети ВНП и на 90% покрывался эмиссией, 80% валютной выручки уходило на обслуживание внешнего долга37. Указания российских министров игнорировались, государственный аппарат существовал лишь формально, межреспубликанские отношения разладились. В условиях правового хаоса и отсутствия элементарной финансово-экономической дисциплины началась перекачка товаров из России в другие республики с последующим их реэкспортом. Некоторые республики пытались самостоятельно брать внешние кредиты, надеясь на будущую солидарную ответственность. Б. Е. Немцов, в то время занимавший пост главы администрации Нижегородской обл., вспоминал свой первый телефонный разговор с Гайдаром: «Я ему сообщил, что в Нижнем нечего есть, что в Нижнем нет топлива, что я работаю диспетчером. Гайдар меня успокоил: “Борис Ефимович, не волнуйтесь, так во всей стране”»38.
Стремительный прыжок в рынок. Гайдар незамедлительно дал понять, что Россия топтаться на месте не собирается – в кризисной ситуации действовать надо быстро, решительно и резко. «Наша страна стала банкротом. Когда запасов зерна в крупных городах оставалось, даже при самых минимальных нормах, лишь на несколько дней, а советская экономическая система была устроена так, что поставки продовольствия выполнялись только при угрозе репрессий… Когда государство было просто не способно выполнять свои функции. В такие времена на первый план выдвигаются не проблемы темпов роста, сохранения социальных гарантий и уровня безработицы, а угроза голода, холода и гражданской войны»39. Практически то же самое говорил и Бурбулис: «У нас нет сейчас абсолютно никакого времени на манёвры, на какую-то эластичность, на длительные этапы. Наше спасение – это решительные реформы, прежде всего экономические, управленческие»40.
Однако законченной, детально проработанной концепцией экономической реформы, наподобие программы «500 дней», «команда Гайдара» не располагала. Сам он не считал необходимым придерживаться строгой логики в её проведении, полагая, что правительство будет заниматься преимущественно управлением кризисными процессами и оперативным реагированием41. Суть предложенного им плана стабилизации заключалась в том, чтобы ликвидировать «лишние» деньги за счёт подъёма цен, сократить бюджетный дефицит (в том числе посредством ужесточения фискальной системы и перехода к более строгим бюджетным ограничениям) и остановить денежно-кредитную эмиссию. Резкое падение спроса должно было привести к наполнению потребительского рынка товарами даже при сокращении производства. Конкретные ситуации должны были подсказать, какие административные рычаги требуется задействовать, главное, чтобы принимаемые решения успевали корректировать поведение экономических агентов. Прежде всего реформаторы стремились не допустить гиперинфляции, которая могла привести к полному развалу денежной системы, распаду хозяйственных связей и банкротству предприятий. Для этого предлагалось задействовать весь арсенал инструментов денежно-кредитной политики.
Был избран самый короткий путь проведения преобразований, известный как «шоковая терапия». По классификации Международного валютного фонда, это самая радикальная стабилизационная политика, предполагающая ускоренное решение макроэкономических проблем: либерализацию цен, хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, ужесточение налогового режима, ограничение роста денежной массы и заработной платы, переход к более реалистичному обменному курсу национальной валюты42. Такие меры рекомендовалось применять в странах, где наблюдалась либо ожидалась устойчивая инфляция, подавить которую лишь монетарными и фискальными методами невозможно.
В целях насыщения потребительского рынка в начале ноября Государственный таможенный комитет СССР изменил правила ввоза в страну товаров первой необходимости43. Отменялись пошлины на импортируемое продовольствие, оборудование для пищевой промышленности, сырьё и материалы для лёгкой промышленности, инвентарь для фермеров. Снимались ограничения с посреднической деятельности: предприятия и организации получили право ввозить товары не только для собственных нужд, но и для продажи на внутреннем рынке. Одновременно с этим вводились таможенные пошлины на экспорт отдельных видов потребительской продукции, ранее запрещённых к вывозу.
Предстояло определиться с темпами либерализации ценообразования: постепенный отпуск цен или решительное их освобождение практически по всем товарным группам и услугам. Выбор сделали в пользу быстрой трансформации. По мнению реформаторов, такой шаг должен был помочь справиться с тотальным дефицитом потребительских товаров, создававшим угрозу социального взрыва, и не допустить формирования устойчивых инфляционных ожиданий. Вместе с тем в одном из своих первых интервью в должности вице-премьера Гайдар заявил, что либерализация наступит «не завтра и не послезавтра»: «Даже если бы и захотели это сделать немедленно, технически это неосуществимо. Дело очень сложное, требующее серьёзных общеэкономических и социальных проработок… Одно могу сказать: по чисто техническим причинам счёт идёт не на дни или недели, а на месяцы»44.
Однако, вопреки этим заверениям, с января 1992 г. почти все цены на промышленные и продовольственные товары стали свободными. Сама идея повышения цен (отпуск цен мог привести только к их росту) не является «авторской наработкой» Гайдара. В начале 1991 г. правительство В. С. Павлова предлагало повысить цены на потребительские товары и продукты питания в 4–10 раз с целью борьбы с товарным дефицитом. Однако развернувшаяся тогда в печати широкая дискуссия экономистов, предупреждавших о риске резкого ухудшения качества питания в условиях низких ставок заработной платы у работающей части населения, помешала этой инициативе45.
В течение недели после либерализации цены выросли в 3,5, а за первые три месяца 1992 г. – более чем в 6 раз46. На прилавках появилось множество ранее дефицитных товаров, но «покупатели чаще посещали магазины с ознакомительными, нежели с меркантильными целями»47. По выражению одного из журналистов, началось «время дикорастущих цен», вместо либерализации произошло «децентрализованное повышение цен, отличающееся от “павловского” только масштабами и хаотичностью»48. Известный экономист Г. И. Ханин, проводивший начало 1992 г. в Москве, вспоминал: «Мне, прежде всего, запомнился в выходной день совершенно пустой магазин тканей около метро “Таганская”. Изумлённый этой пустотой, я спросил у продавцов, насколько выросли цены на ткани по сравнению с предновогодним уровнем? Когда они сказали – в восемь–десять раз, я не поверил своим ушам. Это казалось немыслимым, не укладывалось ни в какие разумные рамки. Рост цен на продовольственные товары был меньше, поскольку они (за исключением регламентированных) были “отпущены” раньше, но тоже был огромным. Поражали цены в коммерческих киосках на продовольственные и непродовольственные товары. Когда мы впервые после отпуска цен собрались вместе (Селюнин, Белкин и я) на квартире Селюнина, у всех было ощущение шока. Я спросил: “Кто может покупать по этим ценам?”. Сошлись на том, что торговцы покупают друг у друга. Но где же конечный покупатель? Точнее, конечный источник денежных средств у торговцев? Тогда мы не смогли ответить на этот вопрос»49. В конце января 1992 г. Хасбулатов потребовал отставки правительства50.
По официальным данным, прожиточный минимум в январе 1992 г. составил 342 руб. Но в марте правительство признало, что в реальности он достигал 900 руб.51 На начало февраля прожиточный минимум в России, согласно официальной статистике, составил 1 500 руб. при фактическом среднедушевом доходе в 895 руб.52 13 февраля в Государственном комитете РФ по статистике состоялась пресс-конференция на тему «Итоги социально-экономического развития России в 1991 году и в январе 1992 года»53. Согласно озвученным данным, реальная средняя заработная плата уменьшилась за 1991 г. на 10%, национальный доход – на 11%. Индекс потребительских цен в четвёртом квартале 1991 г. составил 128%, сводный индекс потребительских цен54 в январе 1992 г. – 350%. При этом председатель Госкомстата П. Ф. Гужвин затруднился назвать товар, который подорожал бы всего в 3,5 раза, как это следовало из официального среднего показателя. Розничный товарооборот в январе сократился на 63%.
Индекс оптовых цен вырос в пять раз. Больше всего подорожали цветные металлы и продукция нефтехимии (в том числе оптовая цена выросла почти в 24 раза). Такой скачок объяснялся не столько финансовым состоянием предприятий, сколько привычкой советских хозяйственников не считать безналичные рубли. Их, конечно, тоже могло не хватить, но это обстоятельство, как правило, обнаруживалось только после отгрузки продукции покупателю. В январе 1992 г. объёмы промышленного производства снизились на 15%, добыча нефти – на 14% (для сравнения: за весь 1991 г. она упала на 11%). При этом производство продуктов нефтепереработки (дизельного топлива, мазута, бензина) возросло, что свидетельствовало о серьёзном сокращении экспорта55. Хуже всего обстояли дела в чёрной металлургии. Несмотря на резкое сокращение выпуска сельскохозяйственной техники, цены на неё существенно превышали платёжеспособный спрос, затрудняя сбыт. Трудности «переходного периода» отмечались в каждой отрасли.
Совершенно новым явлением в экономике стали массовые неплатежи, которые захлестнули почти все отрасли. Повсеместно наблюдался рост бартера: «ты мне кирпич, я тебе сталь». В конце марта объём задолженности составил 800 млрд руб., в апреле превысил 1 трлн, месяц спустя удвоился и сравнялся с доходной частью федерального бюджета. В ряде регионов вообще приняли решение не перечислять в центр налог на прибыль предприятий56. Участилось сокрытие доходов от налогообложения. Почти вдвое уменьшилась инвестиционная активность, подорвав материальную основу производства. Из-за резкого сокращения объёма капитальных вложений в основные фонды (на 45% по сравнению с 1991 г.57) и их обесценения на фоне роста цен большинство предприятий лишились возможности обновления устаревших основных фондов. Ускорились процессы некомпенсированного выбытия промышленно-производственного потенциала. Ввод новых мощностей за 1991–1992 гг. снизился в восемь раз58.
В течение января 1992 г. реальный уровень заработной платы в промышленности снизился на 60%, платёжеспособный спрос упал, в результате чего объём розничного товарооборота сократился более чем в два раза по сравнению с декабрём 1991 г. В наиболее сложном положении оказались предприятия лёгкой, пищевой и машиностроительной промышленности, занятые изготовлением конечной потребительской продукции – из-за отказа потребителей от её приобретения, давления возрастающих цен на сырьё, материалы и комплектующие изделия59.
В начале февраля Бурбулис провёл встречу с руководителями ряда крупнейших государственных предприятий с целью выяснить их отношение к экономической реформе. В целом поддержав правительственный курс, директора не стеснялись говорить о трудностях: несовершенство новой налоговой системы подавляет экономические стимулы; банки действуют как ростовщики; правительство не помогает инвестициями. Директор Екатеринбургского машиностроительного завода поведал типичную для «оборонки» историю: «Сокращение бюджетных ассигнований привело к тому, что склады завода забиты продукцией военного предназначения, и никто не желает её покупать. Конечно, покупатели за рубежом нашлись бы, да ведь нельзя этого делать без разрешения правительства, как и нельзя закрыть производство и перейти на гражданскую продукцию»60.
В первом квартале 1992 г. бюджетный дефицит составил 3,8% ВВП61, существенно сократившись по сравнению с предыдущим годом (хотя с учётом распада СССР оценить действительный объём ВВП за 1991 г. весьма проблематично). В первые месяцы нового года правительство старалось придерживаться строгой денежно-кредитной политики, и кредиты выдавались в очень малых объёмах. Логика реформаторов состояла в том, что сжатие денежной массы необходимо для обеспечения перехода к свободному ценообразованию, в противном случае инфляция значительно вырастет или перерастёт в гиперинфляцию.
За первое полугодие 1992 г. выпуск промышленной продукции сократился по сравнению с первым полугодием 1991 г. примерно на 15%62. В некоторых отраслях, к примеру, в цветной металлургии и пищевой промышленности, выпуск продукции снизился почти на четверть. Перебои в работе предприятий чёрной металлургии привели к срывам в производстве продукции машиностроения. Недопоставки сырья из стран СНГ и нехватка валюты для импорта ухудшили положение в текстильной и лёгкой промышленности. Спад производства затронул и промышленность строительных материалов. На середину 1992 г. пришёлся пик ухудшения качества производимой продукции, повсеместно нарушались договорные обязательства. Относительная стабильность сохранялась только в топливно-энергетической отрасли.
Снижение масштабов выпуска продукции приводило к падению прибыли предприятий и, соответственно, к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и денежных доходов работников. Несмотря на это, в ходе совместного заседания палат Верховного совета РФ 1 июля Гайдар – на тот момент уже исполняющий обязанности председателя правительства – заявил, что «положение с бюджетом приличное, исполнен он практически без дефицита», и посоветовал депутатам относиться к его прогнозным доходам «со сдержанным оптимизмом»63.
Неконтролируемый рост цен, подстёгивавшийся инфляционными ожиданиями, увеличением постоянных издержек и дефицитом капитальных вложений, снижал покупательную способность денег и ещё больше подавлял платёжеспособный спрос. Это, в свою очередь, снова вело к сокращению производства, росту неплатежей и задолженности предприятий. В условиях технологического отставания и отсутствия средств у предприятий переход на современные технологии, позволявшие снизить производственные издержки, в краткосрочной перспективе оказался невозможен. В этой связи отечественные производители, используя «преимущества» высокого уровня монополизации производственного сектора, выбирали самый нерациональный с точки зрения макроэкономики стиль поведения – сбрасывали объёмы выпуска и повышали цены на продукцию. Попытки достичь капитализма одним прыжком зашли в тупик.
Стремительное нарастание кризиса застало правительство врасплох. Оно объясняло происходившее неэффективностью российской экономики в условиях свободного ценообразования. Вместе с тем, помимо объективных причин массовых неплатежей, имелись и субъективные, связанные с неграмотностью и недобросовестностью большого числа хозяйственных руководителей, получивших контроль над финансовыми ресурсами своих предприятий. Крупные предприятия, пользуясь «привилегией» распределения заказов, нередко заставляли своих более мелких партнёров соглашаться работать на невыгодных условиях и к тому же оплату производили несвоевременно и не в полном объёме. Но в конечном счёте убытки несли обе стороны.
Обесценение инфляцией средств предприятий и населения привело к тому, что в разы сократился сбыт продукции, в особенности дорогостоящей. Тяжелее всего пришлось предприятиям, находившимся в конце технологической цепочки. Стремясь хоть как-то решить свои финансовые проблемы, не прибегая к полной остановке производства, они попросту перестали платить поставщикам.
Несмотря на обещания власти компенсировать населению примерно 70% роста цен и удерживать минимальный уровень зарплаты и пенсии не ниже прожиточного минимума, последствия «шоковой терапии» оказались очень тяжёлыми. Они состояли в резком обнищании, росте безработицы, ухудшении демографической ситуации и криминализации экономики. Среднемесячный доход бизнесмена составлял 35 тыс. руб., зарплата управляющего фондовой биржей – до 80 тыс. руб. в месяц, а уличные торговцы цветами, книгами и безалкогольными напитками могли зарабатывать лишь от 6 до 15 тыс.64 Если ранее разрыв между 10% наиболее высоко- и низкооплачиваемых категорий населения составлял в среднем 4–6 раз, то теперь он достиг 11 раз. Подавляющая часть граждан находилась ниже черты прожиточного минимума, составлявшего в первом полугодии 1992 г. 1,3–2 тыс. руб. Среднедушевым доходом менее 900 руб. располагали 7 млн человек65. Причём реальные доходы наименее обеспеченной категории сокращались намного быстрее, чем населения в целом.
Рабочие могли месяцами не получать денег, после чего предприятие «одаривало» их собственной продукцией по розничным ценам. Весной 1992 г. не менее 20% заработной платы выплачивались за счёт эмиссии Госбанка. К июлю задолженность по выплате окладов, пенсий и пособий достигла почти 220 млрд руб.66 Одновременно с декабря 1991 г. по середину 1992 г. потребительские цены увеличились в 10–12 раз (догоняя рост оптовых цен), в то время как доходы населения – лишь в 4–5 раз67. Наибольшее отставание доходов населения от роста цен наблюдалось в начале года. В мае рост временно замедлился и даже уступил по «скорости» приросту зарплаты, но отставание, допущенное в первых двух кварталах, компенсировать не удалось. Вскоре индекс потребительских цен снова «ушёл в отрыв», хотя казалось, что после резкого скачка в результате корректирующей инфляции он должен стабилизироваться, как и обещало правительство. Однако этого не произошло, и уровень инфляции по итогам 1992 г. составил 2 600%68, превратив гиперинфляцию из угрозы в реальность.
В целом за 1992 г. реальный уровень зарплат упал примерно на треть69. Резко изменилась структура расходов семьи. В среднем половина всех расходов уходила на покупку продуктов питания, у пенсионеров – до 80%. Потребление продуктов питания животного происхождения в России оказалось более чем вдвое ниже, нежели в развитых странах. Потребление мяса сократилось на 12%, молочных продуктов – на 18%, фруктов и ягод – на треть70. Возросшее потребление хлеба и картофеля не компенсировало выбытия других важных составляющих рациона питания. Покупатели не могли приобретать товары по ценам, которые им предлагались, а предприятия, в свою очередь, не могли существенно снизить цены по причине высоких издержек.
Таким образом, правительству Гайдара не удалось ни побороть инфляцию, ни предотвратить спад производства, ни улучшить благосостояние населения. Но главная проблема видится в том, что молодые и амбициозные реформаторы не озаботились выработкой концепции экономического развития в новых условиях. Требовалось комплексное, системное обновление гражданской нормативно-правовой базы, обусловленное потребностями перехода к рынку, принятие налогового, бюджетного, антимонопольного законодательства и т. д., однако этот процесс шёл достаточно медленно. В отсутствие ясных и стабильных правил и механизмов их реализации «многочисленные и нередко противоречивые законы, указы, постановления и распоряжения оставались, как правило, на бумаге… Такой результат был неизбежен и предсказуем. Он являлся итогом неадекватности избранной стратегии реальным условиям и тенденциям развития российской экономики. Многочисленные корректировки курса не могли исправить ситуацию»71.
Ещё один грубый просчёт заключался в нежелании объяснять общественности суть концепции разгосударствления, привлекать к выработке решений специалистов в области экономики и права, мобилизовать на поддержку новой реальности структуры гражданского общества (союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, профсоюзы, благотворительные фонды, научные и культурные организации и др.). Особенно ярко это проявилось при конфискации (хотя правильнее говорить об обесценении) сбережений в 1992 г. Доводы реформаторов об опасности «денежного навеса» для потребительского рынка и необходимости изъятия «излишних» денег, не подкреплённые сколько-нибудь убедительной аргументацией, вызвали закономерные сомнения в правильности выбранного пути. Авторитетный экономист Н. П. Шмелёв размышлял: «Но разве конфискация “излишних” денег без всяких объяснений и оправданий была тогда единственным способом решения проблемы? Можно было “заморозить” эти сбережения на годы вперёд (но при соответствующей индексации и государственных гарантиях их последующей выплаты); добровольно-принудительно превратить значительную их часть в долгосрочные государственные обязательства с ежегодной выплатой более или менее разумных процентов; отчасти направить эти деньги на приватизацию государственной собственности; осуществить и какую-то иную далеко идущую комбинацию»72. Как следствие, непродуманные и плохо разъяснённые действия вызвали недовольство значительной массы населения и предприятий, серьёзно подорвав доверие к рыночным преобразованиям, породив ностальгию по «стабильному» советскому прошлому. Парламентские выборы 1993 и 1995 гг. ярко показали степень неприятия реформ.
Впрочем, отдельные комментаторы основной причиной кризиса называли саму радикальную либерализацию экономики. Рост цен на энергию и сырьё обгонял рост цен на продукцию обрабатывающих отраслей, что в отсутствие структурно-технологических преобразований приводило к снижению добавленной стоимости в производстве конечной продукции и, соответственно, сокращению заработной платы и инвестиций в основной капитал. Население стало покупать меньше потребительских товаров, вследствие чего предприятия сократили объёмы производства. Общий спад в итоге затронул и сырьевые отрасли73.
К сказанному следует добавить технологическую отсталость многих предприятий (при сосредоточении передовых технологий и современных научно-исследовательских и конструкторских разработок преимущественно в военном секторе экономики), разрыв хозяйственных связей с бывшими союзными республиками, разрушение отработанной системы товаропотоков и материально-технического снабжения. Освобождение цен и их сближение с мировыми не остановили инфляцию, которая вместе с ростом издержек передавалась по всем технологическим цепочкам. В отличие от сырьевых отраслей, ориентированных на экспорт, производители продукции, предназначавшейся для внутреннего рынка, не выдерживали конкуренции с иностранными товаропроизводителями и вынуждены были сокращать или сворачивать производство.
Ставка российского правительства исключительно на ценовые методы воздействия на структуру и динамику производства оказалась несостоятельной. Опыт экономических преобразований в странах Восточной Европы показал, что отказ государства от полноценного участия в ценообразовании в условиях огромных диспропорций товаров и денежной массы не оказывает положительного влияния на темпы экономического роста и не способен стимулировать производство продукции.
В то же время следует отметить, что спад в российской экономике после развала СССР носил структурный характер и был связан с институциональной перестройкой всего народного хозяйства. Он негативно отразился на состоянии реального сектора экономики, потребительского рынка и социальной сферы, но не привёл к потере долгосрочных ориентиров развития. Начались конверсия военного производства и сокращение промышленности группы «А», но многие предприятия продолжали работать (перейдя на бартер и денежные суррогаты), а некоторые секторы экономики – торговля, банки, предприятия, ориентированные на экспортные рынки, – демонстрировали рост прибыли. Благодаря оперативному запуску рыночных механизмов сформировался слой первых собственников. Появились совершенно новые профессиональные и социальные группы (предприниматели, менеджеры, маркетологи и др.), открылись широкие перспективы для карьеры, творчества и прочих форм самореализации.
1 Гайдар Е. Т. Политическая экономия внешних шоков // Экономическая политика. 2006. № 1. С. 38.
2 Гайдар Е. Т. Макроэкономика российской трансформации: отложенная стабилизация и фискальный кризис // Экономическая наука современной России. 1998. № 5. С. 28–39.
3 Ярошенко В. Н. Пять лет рядом с президентом. М., 2022. С. 260–268.
4 Хасбулатов Р. И. Преступный режим. «Либеральная тирания» Ельцина. М., 2011. С. 20–21.
5 Матюхин Г.Г. Я был главным банкиром России: мемуары. М., 1993. С. 61.
6 Полтерович В. М. Современное состояние теории экономических реформ // Экономическая наука современной России. 2008. № 1. С. 16.
7 Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ в Китае и России // Экономика. 2008. № 1. С. 99–100.
8 Ярёменко Ю. В. Приоритеты структурной политики и опыт реформ. М., 1999. С. 177–179.
9 Лившиц В. Н. Системный анализ рыночного реформирования нестационарной экономики России: 1992–2013. М., 2013. С. 12, 105–106, 110.
10 Нечаев А. А. Россия на переломе. Откровенные записки первого министра экономики. М., 2010. С. 163–210.
11 Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: курс лекций. М., 2002. С. 192–193.
12 Уринсон Я. М. Экономика и государство. М., 2021. С. 100–101.
13 См. подробнее: Кирсанов Р. Г. Перестройка. «Новое мышление» в банковской системе СССР. М., 2011; Кирсанов Р. Г. Закон СССР о государственном предприятии: анализ правоприменительной практики // История государства и права. 2014. № 17. С. 3–6.
14 См. подробнее: Кирсанов Р. Г. Реформирование банковской системы СССР в период перестройки: законодательные аспекты // История государства и права. 2015. № 23. С. 13–18.
15 См.: Бодрова Е. В., Голованова Н. Б., Калинов В. В. Попытки активизации инновационных процессов накануне распада СССР: причины неуспеха // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2018. № 2. С. 40–49.
16 Портфель приватизации и инвестирования (Книга собственника. Книга акционера. Книга инвестиционного менеджера). М., 1992. С. 19.
17 См.: Кирсанов Р. Г. Кооперативы в годы перестройки: сложности и противоречия становления частного бизнеса в СССР // Российская история. 2017. № 1. С. 181–194.
18 Гайдар Е. Т. Политическая экономия внешних шоков // Экономическая политика. 2006. № 1. С. 47.
19 Boettke P. J. Why Perestroika failed. The politics and economics of Socialist transformation. L.; N.Y., 1993. P. 119.
20 Программа углубления экономических реформ Правительства Российской Федерации // Вопросы экономики. 1992. № 8. С. 4.
21 Куранов Г. Итоги первого года реформ и предложения по стабилизации экономики // Вопросы экономики. 1993. № 3. С. 28.
22 Явлинский Г. А. Десять лет. Публикации, интервью, выступления (1990–1999 гг.). М., 1999. С. 92–93, 320.
23 Авен П.О., Кох А. Р. Революция Гайдара: история реформ 90-х из первых рук. М., 2013. С. 230.
24 Пихоя Р. Г. Радикальные экономические реформы 1980-х гг. в СССР // Экономическая история. Ежегодник: 2021. М., 2022. С. 387.
25 Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. М., 1995. С. 166.
26 Известия. 1991. 28 октября.
27 Там же.
28 Известия. 1991. 1 ноября.
29 Известия. 1991. 28 октября.
30 Ельцин получил чрезвычайные полномочия // Коммерсантъ Власть. 1991. 4 ноября.
31 Известия. 1991. 1 ноября.
32 Слухами… банки полнятся // Известия. 1991. 4 ноября.
33 Известия. 1991. 2 ноября.
34 Российская газета. 1991. 7 ноября.
35 Президент называет команду // Российская газета. 1991. 7 ноября.
36 Салмин А.М. В поисках утраченного смысла // Решение есть всегда. Сборник трудов Фонда ИНДЕМ, посвящённый десятилетней годовщине его деятельности. М., 2001. С. 61.
37 Экспертный институт. Избранные доклады (1992–1997). М., 2002. С. 15.
38 «Егор Гайдар. Долгое время». Фильм П. Шеремета. Телеканал НТВ, 2010 (URL: https://www.youtube.com/watch?v=DbI95ix5t14).
39 Гайдар Е. Т. Смуты и институты // Общественные науки и современность. 2010. № 6. С. 8–9.
40 Известия. 1991. 26 октября.
41 См.: Гайдар Е. Т. Логика реформ // Вопросы экономики. 1993. № 2. С. 12–16; Лившиц А. Я. Рыночная экономика: путь России // Вопросы экономики. 1993. № 2. С. 43–44; Экспертный институт. Избранные доклады… С. 19.
42 Экспертный институт. Избранные доклады… С. 186.
43 Коммерсантъ Власть. 1991. 18 ноября.
44 Новые люди в Белом доме // Известия. 1991. 7 ноября.
45 Хасбулатов Р. И. Преступный режим… С. 23.
46 Такую инфляцию принято называть корректирующей, поскольку она ведёт к ликвидации денежного навеса и восстановлению равновесия между товарной и денежной массами. Следует также учитывать, что по мере либерализации внешней торговли российская система ценообразования всё сильнее испытывала на себе воздействие мировых цен.
47 Молоко не желает продаваться по твёрдым ценам. Оно становится маслом // Известия. 1992. 14 февраля.
48 «Павловизация» либеральной реформы // Независимая газета. 1992. 15 января.
49 Ханин Г. И. Сочинения. Т. 2. М., 2020. С. 217.
50 Хасбулатов потребовал отставки правительства // Коммерсантъ Власть. 1992. 20 января.
51 Российская газета. 1992. 8 июля.
52 Экспертный институт. Избранные доклады… С. 61.
53 Молоко не желает продаваться по твёрдым ценам…
54 В этот индекс включаются рыночные и кооперативные цены и цены государственной торговли.
55 Известия. 1992. 23 марта.
56 Там же.
57 Годовой отчёт Центрального банка Российской Федерации за 1992 г. М., 1993. С. 4.
58 Инвестиции: вложить нужно как следует // КоммерсантЪ. 1993. 21 декабря. С. 36.
59 Программа углубления экономических реформ Правительства Российской Федерации // Вопросы экономики. 1992. № 8. С. 8; Экспертный институт. Избранные доклады… С. 206–207.
60 Зачем российское руководство совещалось с директорами // Известия. 1992. 11 февраля.
61 Синельников-Мурылёв С. Налоговая и бюджетная политика: итоги первого года реформ // Вопросы экономики. 1993. № 2. С. 89.
62 Куранов Г. Итоги первого года реформ… С. 30.
63 Минасов Р. Депутаты обсуждают бюджетное послание Президента // Российская газета. 1992. 2 июля.
64 Российская газета. 1992. 8 июля.
65 Социально-экономическая ситуация в России в первом полугодии 1992 г. // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. 1992. № 10. С. 22.
66 Куранов Г. Итоги первого года реформ… С. 31.
67 Социально-экономическая ситуация в России… С. 22.
68 Годовой отчёт Центрального банка… С. 5.
69 Евсей Гурвич: Какой урок даёт нам шоковая терапия // Российская газета (URL: https://rg.ru/2017/01/02/25-let-nazad-v-rossii-otpustili-ceny.html).
70 Логинов В. Год реформ. Что дальше? (Проблемы воспроизводства в период экономического кризиса) // Вопросы экономики. 1993. № 3. С. 10.
71 Абалкин Л. И. Размышления о стратегии и тактике экономической реформы // Вопросы экономики. 1993. № 2. С. 6.
72 Шмелёв Н. П. Кризис внутри кризиса // Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 5.
73 Ярёменко Ю. В. Приоритеты структурной политики… С. 159–160.
About the authors
Roman G. Kirsanov
Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Авен П.О., Кох А.Р. Революция Гайдара: история реформ 90-х из первых рук. М., 2013. 472 с.
- Абалкин Л.И. Размышления о стратегии и тактике экономической реформы // Вопросы экономики. 1993. № 2. С. 4-11.
- Бодрова Е.В., Голованова Н.Б., Калинов В.В. Попытки активизации инновационных процессов накануне распада СССР: причины неуспеха // Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 2018. № 2. С. 40-49.
- Гайдар Е.Т. Политическая экономия внешних шоков // Экономическая политика. 2006. № 1. С. 38-60.
- Гайдар Е.Т. Макроэкономика российской трансформации: отложенная стабилизация и фискальный кризис // Экономическая наука современной России. 1998. № 5. С. 28–39.
- Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. М., 1995. 206 с.
- Гайдар Е.Т. Смуты и институты // Общественные науки и современность. 2010. № 6. С. 6-16.
- Гайдар Е.Т. Логика реформ // Вопросы экономики. 1993. № 2. С. 12–16.
- Годовой отчёт Центрального банка Российской Федерации за 1992 г. М., 1993. 56 с.
- Кирсанов Р.Г. Перестройка. «Новое мышление» в банковской системе СССР. М., 2011. 200 с.
- Кирсанов Р.Г. Закон СССР о государственном предприятии: анализ правоприменительной практики // История государства и права. 2014. № 17. С. 3-6.
- Кирсанов Р.Г. Реформирование банковской системы СССР в период перестройки: законодательные аспекты // История государства и права. 2015. № 23. С. 13-18.
- Кирсанов Р.Г. Кооперативы в годы перестройки: сложности и противоречия становления частного бизнеса в СССР // Российская история. 2017. № 1. С. 181-194.
- Куранов Г. Итоги первого года реформ и предложения по стабилизации экономики // Вопросы экономики. 1993. № 3. С. 28-40.
- Лившиц В.Н. Системный анализ рыночного реформирования нестационарной экономики России: 1992–2013. М., 2013. 640 с.
- Лившиц А.Я. Рыночная экономика: путь России // Вопросы экономики. 1993. № 2. С. 43-48.
- Логинов В. Год реформ. Что дальше? (Проблемы воспроизводства в период экономического кризиса) // Вопросы экономики. 1993. № 3. С. 4-14.
- Матюхин Г.Г. Я был главным банкиром России: мемуары. М., 1993. 95 с.
- Нечаев А.А. Россия на переломе. Откровенные записки первого министра экономики. М., 2010. 575 с.
- Пихоя Р.Г. Радикальные экономические реформы 1980-х гг. в СССР // Экономическая история. Ежегодник: 2021. М., 2022. С. 371-389.
- Полтерович В.М. Современное состояние теории экономических реформ // Экономическая наука современной России. 2008. № 1. С. 7-34.
- Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ в Китае и России // Экономика. 2008. № 1. С. 98-110.
- Портфель приватизации и инвестирования (Книга собственника. Книга акционера. Книга инвестиционного менеджера). М., 1992. 749 с.
- Программа углубления экономических реформ Правительства Российской Федерации // Вопросы экономики. 1992. № 8. (данный текст занимает весь журнал, поэтому страницы не указываю)
- Салмин А.М. В поисках утраченного смысла // Решение есть всегда. Сборник трудов Фонда ИНДЕМ, посвящённый десятилетней годовщине его деятельности. М., 2001. С. 18-72.
- Синельников-Мурылёв С. Налоговая и бюджетная политика: итоги первого года реформ // Вопросы экономики. 1993. № 2. С. 87-101.
- Социально-экономическая ситуация в России в первом полугодии 1992 г. // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. 1992. № 10. С. 20-22.
- Уринсон Я.М. Экономика и государство. М., 2021. 160 с.
- Ханин Г.И. Сочинения. Т. 2. М., 2020. 345 с.
- Хасбулатов Р.И. Преступный режим. «Либеральная тирания» Ельцина. М., 2011. 416 с.
- Шмелёв Н.П. Кризис внутри кризиса // Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 4-17.
- Экспертный институт. Избранные доклады (1992–1997). М., 2002. 688 с.
- Явлинский Г.А. Десять лет. Публикации, интервью, выступления (1990–1999 гг.). М., 1999. 576 с.
- Ярёменко Ю.В. Приоритеты структурной политики и опыт реформ. М., 1999. 414 с.
- Ярошенко В.Н. Пять лет рядом с президентом. М., 2022. 320 с.
- Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: курс лекций. М., 2002. 435 с.
- Boettke P.J. Why Perestroika failed. The politics and economics of Socialist transformation. L.; N.Y., 1993. 199 pp.
Supplementary files