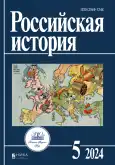Russian literature and censorship in the Era of Great Reforms
- Authors: Bolshakova O.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 206-210
- Section: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274872
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050156
- EDN: https://elibrary.ru/SJXOWY
- ID: 274872
Cite item
Full Text
Abstract
The paper analyses a book by literary scholar K.Y. Zubkov devoted to the relationship between literature and censorship in the first decade of Alexander I's reign, emphasizing the author's striving to rethink the traditional view of censorship as purely repressive instrument.
Full Text
История цензуры обретает всё бóльшую актуальность в последнее десятилетие, когда проблема ограничений, накладываемых государствами и корпорациями на распространение и доступ к информации, встала особенно остро. И хотя реалии цифрового мира, казалось бы, ставят нас в совершенно новую ситуацию, многие вопросы, обсуждаемые сегодня, являются «вечными» и будут вызывать споры, пока существует человеческое общество. К их числу относится и проблема сочетания свободы слова и творчества с цензурой, призванной так или иначе ограничивать авторское высказывание. К настоящему времени представления исследователей о данном понятии и институте ожидаемо расширились, и свойственный эпохе модерна «чёрно-белый» взгляд на цензуру очевидно требует пересмотра.
Значимым шагом в этом направлении является книга литературоведа К. Ю. Зубкова «Просвещать и карать», посвящённая истории российской цензуры эпохи Великих реформ и её влиянию на литературный процесс, которое отнюдь не сводилось к «однолинейному давлению» (с. 12). По словам автора, книга «призвана опровергнуть традиционные представления о литературе как чистом выражении свободы слова и о цензуре как орудии репрессивной политики государства» (с. 13) При этом он видит в цензуре одну из тёмных сторон прошлого и, погружаясь в перипетии повседневной деятельности осуществлявших её ведомств, выявляя мотивы и резоны цензоров, вовсе не пытается их оправдывать – хотя у читателя и может возникнуть такое впечатление.
Долгое время отечественная историография (как, впрочем, и мировая) базировалась на «конфронтационном» подходе, подавая историю цензурной политики как борьбу света и тьмы, свободы и тирании. Один из крупнейших специалистов в этой области Р. Дарнтон назвал подобный взгляд «манихейским»1. В нашей стране такой подход в полной мере реализовался на рубеже 1980–1990-х гг., когда в ходе политики гласности был ликвидирован Главлит, увидели свет фонды спецхранов и началось открытие архивов, оптимистически именовавшееся тогда «архивной революцией». До этого само наличие цензуры в СССР отрицалось либо замалчивалось, и неудивительно, что исследователи с огромным энтузиазмом писали о её репрессивной роли как в Российской империи, так и в СССР, разворачивая «свиток преступлений» власти против свободной мысли и печатного слова. Наиболее ярким примером этого стали работы А. В. Блюма, по каким-то причинам (возможно, в силу своей «вопиющей» неакадемичности) даже не упомянутые Зубковым в историографическом очерке.
Впрочем, уже в начале 2000-х гг. на смену обличительному пафосу пришло вполне прагматичное признание того, что цензура является необходимой составляющей в жизни любого государства. В весьма объёмной постсоветской историографии цензуры всё чаще обращалось внимание на институции: публиковались законы и распоряжения, касавшиеся цензурного ведомства дореволюционной России, реконструировались его организация и кадровый состав, изучались биографии цензоров. Наряду с публикациями архивных материалов появились многочисленные библиографические обзоры. В то же время Зубков отмечает обилие работ, посвящённых различным эпизодам, при полном игнорировании общих проблем цензуры. Можно отчасти согласиться с автором в том, что «отрыв разборов частных случаев от общеметодологической и теоретической рефлексии» характерен для «российской научной традиции, где “теоретики” и “историки” находятся в состоянии не сотрудничества, а конфликта» (с. 39). Однако отсутствие масштабных трудов, освещающих историю цензуры, во многом объясняется самой логикой развития любой проблемно-тематической историографии, неизбежно теряющей через 15–20 лет первоначальный импульс и требующей свежих идей, способных изменить взгляд на явления прошлого и открыть новые перспективы для их рассмотрения.
Симптоматично, что подход, обоснованный Зубковым в обширном предисловии, раскрывается затем на примере отдельных событий из жизни и творчества И. А. Гончарова и А. Н. Островского, так или иначе связанных с цензурой. Структура книги, написанной на основе значительного корпуса архивных и опубликованных материалов, весьма прихотлива и включает в себя четыре главы и столько же «экскурсов», рассказывающих о побочных сюжетах, которые дополняют общую картину. Автор считает любой эпизод из истории цензуры по-своему показательным, но выбирает из них наиболее значимые для понимания интересующих его проблем. Соединить же все эти «самодостаточные», хотя и во многом пересекающиеся фрагменты помогают крупные исторические события, поскольку «ни цензор, ни жертва цензуры не могли пройти мимо отмены крепостного права, Январского восстания в Польше или первых выступлений русских революционеров» (с. 67). Разумеется, ощущали они и общественный климат своего времени – эпохи подготовки и проведения Великих реформ, которая определяет хронологические рамки исследования.
Однако Зубков раскрывает исторический контекст достаточно скупо. В предваряющем основную часть очерке «Институт цензуры в Российской империи» характеризуются действовавшие в данной сфере учреждения и изменения, произошедшие в результате реформы 1865 г. При этом постоянные сравнения с николаевским царствованием позволяют не только проследить процесс профессионализации литературы, но и выявить переход от покровительственной цензуры, игравшей во многом воспитательную функцию, к «полицейской», что выразилось и в её передаче из Министерства народного просвещения в МВД. В то же время литературное творчество всё сложнее становилось сочетать с государственной службой, тогда как в 1830–1840-е гг. их совмещение не создавало проблем.
Происходившие в середине XIX в. перемены показаны автором на примере деятельности Гончарова, который стал цензором в 1856 г., уйдя из Министерства финансов. Тем самым он получил возможность заниматься литературой и как чиновник, и как писатель. К тому времени занятие цензурой считалось уже зазорным, о чём свидетельствуют многочисленные отзывы современников. Правда, с началом подготовки реформ, в том числе и цензурной, получила распространение идея о посредничестве между государством и обществом (созвучная, по мнению автора, задачам мировых посредников, улаживавших после 1861 г. поземельные отношения между помещиками и крестьянами).
Реформа цензуры началась в 1856–1858 гг., когда в Петербургский комитет вместе с Гончаровым пришло много литераторов и не чуждых русской словесности людей. Неудивительно, что в начале своей карьеры Иван Александрович считал себя посредником между государством и литературным сообществом. Лишь через несколько лет он начал осознавать, что осуществить эту роль весьма сложно. С нарастанием поляризации в обществе литература и цензура становятся в антагонистические отношения, надежды на их сотрудничество испаряются, во многом благодаря появлению «сильной и выразительной группы радикально-демократически настроенных “нигилистов”, отказывавшихся идти на любые компромиссы с властями» (с. 159). В середине 1870-х гг. Гончаров в автобиографической «Необыкновенной истории» отметил, что ему приходилось служить из-за нехватки средств, и это сильно помешало его художественному творчеству.
Перемене взглядов писателя, как показано в книге, способствовали и повседневная рутина цензорской работы, требовавшая ежегодно просматривать огромное количество печатных листов, и неудачная попытка сосредоточения цензуры в отдельном ведомстве в 1859 г. (с. 113–140), и служба в МВД под началом П. А. Валуева, при котором «цензоры, особенно такие высокопоставленные, как Гончаров, должны были активно бороться против неугодных министру явлений в области литературы, а не просто выполнять бюрократические предписания и следовать правилам» (с. 162–163). Цензурные разбирательства, в которых участвовал Гончаров, затрагивали животрепещущие проблемы того времени: отношение к польскому восстанию 1863 г. и нигилистам (закрытие журнала «Русское слово» в 1866 г.)2. Зубков существенно скорректировал бытующее мнение о конформизме Гончарова, который, безусловно, являлся принципиальным противником нигилизма, но желал привлечь его последователей к публичному судебному процессу в соответствии с временными правилами 1865 г. Однако гласность новых независимых судов пугала чиновников, и Валуев во избежание скандала предпочёл использовать административные методы. Он объявил «Русскому слову» одно за другим три «предостережения», после чего издание приостанавливалось на пять месяцев.
Нереализованную возможность открытой критики нигилизма Гончаров осуществил в романе «Обрыв», законченном уже после выхода писателя в отставку в 1867 г. Проведя литературоведческий анализ этого не понятого современниками произведения, местами исключительно проницательный, Зубков выявил влияние цензорской службы на поэтику произведения: «конфликты с радикальными журналистами, размышления о соотношении публичного и непубличного, пристальное внимание к вопросам “приличий”, – всё это в конечном счёте было хотя бы до некоторой степени почерпнуто Гончаровым из будничных занятий по цензурному ведомству» (с. 250).
Опыт Гончарова, безусловно, наиболее выразительно демонстрирует непосредственную связь между цензурой и литературой. Впрочем, писатели и цензоры всегда ориентировались на собственный образ читателя (включая, естественно, и начальство разного уровня, вплоть до императора), сформировавшийся в их воображении, и именно возникавшими при этом несовпадениями объяснялись многие конфликты.
Во второй части книги, посвящённой прохождению через цензуру III отделения Собственной е. и. в. канцелярии некоторых пьес А. Н. Островского, к этому добавляется ещё и воображаемая публика, поскольку при рассмотрении драматических произведений проводилось различие между образованными читателями журналов и, как правило, «простыми» посетителями провинциальных театров. Однако «именно литературная репутация способствовала становлению Островского в качестве самого репертуарного драматурга своего времени» (с. 272). Символический капитал, заработанный им в результате публикации в 1850 г. в журнале «Москвитянин» запрещённой для постановки пьесы «Свои люди – сочтёмся», только увеличивался, особенно после успеха «Грозы».
Больше всего цензоров беспокоило, как зрители воспримут ту или иную сцену, им хотелось сделать реакцию зала предсказуемой, что, конечно, обычно не удавалось. Отсюда – частые требования переделки, далеко не всегда завершавшиеся разрешением на постановку. Руководствуясь собственными политическими и эстетическими взглядами и весьма развитыми вкусами, цензоры подходили к сочинениям известных авторов более внимательно, тогда как потенциал влияния на общество слабых драм оценивался невысоко, и достаточно было их «нравственности» (с. 311–356).
Цензоры добивались «эффекта нормализации», осторожно навязывая зрителям критерии восприятия пьес. Им приходилось лавировать между Сциллой и Харибдой: удовлетворять запросы общества и соблюдать интересы правительства, учитывая конъюнктуру, быстро менявшуюся в первое десятилетие царствования Александра II. Но что же было актуально в конкретный момент? Что начальство считало «неудобным» или опасным для публикации? Как драматургия и беллетристика откликались на сиюминутные колебания «повестки дня» в обществе? Это, к сожалению, остаётся за рамками книги Зубкова. Конечно, автор не ставил перед собой задачу повторить труд С. А. Макашина3. Однако невозможно понять особенности начавшейся в 1855 г. эпохи гласности, или «оттепели», без обращения к исследованиям отечественных и американских историков, принадлежавших к школе П. А. Зайончковского, – Л. Г. Захаровой, Т. Эммонса, Д. Филда, Б. Линкольна, Р. Уортмана и др. Проследив динамику идей, циркулировавших в обществе в связи с подготовкой реформ4, они показали, в частности, что идея всесословности лежала в основе всех преобразований – от освобождения крестьян в 1861 г. до военной реформы 1874 г. (сохранение сословной обособленности крестьянства рассматривалось реформаторами лишь как временная мера, неизбежная для переходного периода)5. Неудивительно, что звучала она и в целом ряде цензорских отзывов.
Повышенное внимание цензоров и авторов к женскому воспитанию и образованию, очевидно, объяснялось острыми дискуссиями о «женском вопросе» во второй половине 1850-х гг., которые довольно подробно изучены6. В контексте этих споров интерпретация запрета пьесы Островского «Воспитанница» и разрешения «Грозы» стала бы богаче и тоньше.
Кроме того, при анализе позиции цензоров и писателей трудно обойтись без категории «дискурса», понимаемого как совокупность определённых представлений, словесных формул, мифологических стереотипов и ходячих мнений, формирующих связную конструкцию, в пределах которой мыслят, пишут и действуют люди в конкретный исторический момент. Но, несмотря на отсылку к М. Фуко в названии книги, автор не пользуется его идеями.
При этом в своём замечательном сравнительном очерке, освещающем положение дел в драматической цензуре некоторых стран Западной Европы и Российской империи в XIX в. (с. 171–186), Зубков фактически раскрывает характерные черты консервативного и либерального дискурсов. Он демонстрирует, как на смену морализаторской, патриархальной, озабоченной охраной семейных ценностей цензуре николаевской эпохи приходит нечто новое: в период либерализации 1855–1865 гг. цензоров начинает интересовать, может ли пьеса «положительно» подействовать на зрителя, доверие к которому ощутимо повысилось. В основе цензурной политики теперь лежало представление о единстве общества, а от театра ожидалось воспитание известной терпимости и устранение социальных конфликтов. Всё это свидетельствовало о преобладании объединяющего и позитивного в своей основе либерализма с присущей ему верой в людей. В этих условиях и последовало разрешение на постановку явно «рискованной» с точки зрения светской морали «Грозы».
Со второй половины 1860-х гг. постепенно нарастали консервативные тенденции. В отзывах цензоров всё чаще выражались опасения, проявлялся «затаённый страх» перед «непредсказуемыми низами», которые представлялись «пассивной массой», неспособной самостоятельно разобраться в том, что предлагают ей романы и пьесы, порою развращающие и заражающие «недугом» неуважения к семье и религии (с. 347–356). К концу 1870-х гг. цензура уже вновь пыталась ограждать общество от различных морально-нравственных угроз.
Книга К. Ю. Зубкова, несмотря на изначально заявленную фрагментарность, в итоге даёт яркую, богатую деталями и крайне интересную картину. Весьма любопытен, например, рассказ о том, как обсуждалась возможность постановки пьес об эпохе Иоанна Грозного (с. 435–470), не менее увлекательна и почти детективная история переиздания в 1867 г. романа А. Ф. Писемского «Взбаламученное море», вдохновлённого известной «Думой русского (во второй половине 1855 года)» П. А. Валуева (с. 141–157), и многое другое. Наблюдения и находки автора несомненно будут полезны профессиональным историкам.
1 Дарнтон Р. Цензоры за работой: как государство формирует литературу. М., 2017. С. 8.
2 Параграф почему-то назван «Кто закрыл “Русский вестник”? Цензурные интриги и нигилистическая периодика», и эта опечатка периодически повторяется в тексте.
3 Макашин С. А. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860 годов: Биография. М., 1972.
4 Поражает, что в разделе «Гончаров, “либеральная бюрократия” и “новый курс” в цензурном ведомстве» группа либеральных (просвещённых) бюрократов безымянна. Не названо ни одного деятеля Великих реформ, среди которых были такие «люди новой формации», как братья Н.А. и Д. А. Милютины, Ю. Ф. Самарин, кн. В. А. Черкасский, П. П. Семёнов-Тян-Шанский и др. А ведь Гончаров принадлежал к тому же поколению «людей 1840-х годов», посещал те же салоны, читал те же книги, разделяя общие мировоззренческие установки этого поколения, делавшего ставку на инициативную роль монархии.
5 Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011. С. 615.
6 Первопроходцем здесь был Р. Стайтс. См. перевод его книги 1978 г.: Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм, 1860–1930. М., 2004.
About the authors
Olga V. Bolshakova
Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Дарнтон Р. Цензоры за работой: как государство формирует литературу. М., 2017.
- Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011.
- Макашин С.А. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850-1860 годов: Биография. М., 1972.
- Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм, 1860–1930. М., 2004.
Supplementary files

Note
*Zubkov K. Y. To educate and punish. The functions of censorship in the Russian Empire in the middle of the 19th century. Moscow: New Literary Review, 2023. 520 p.