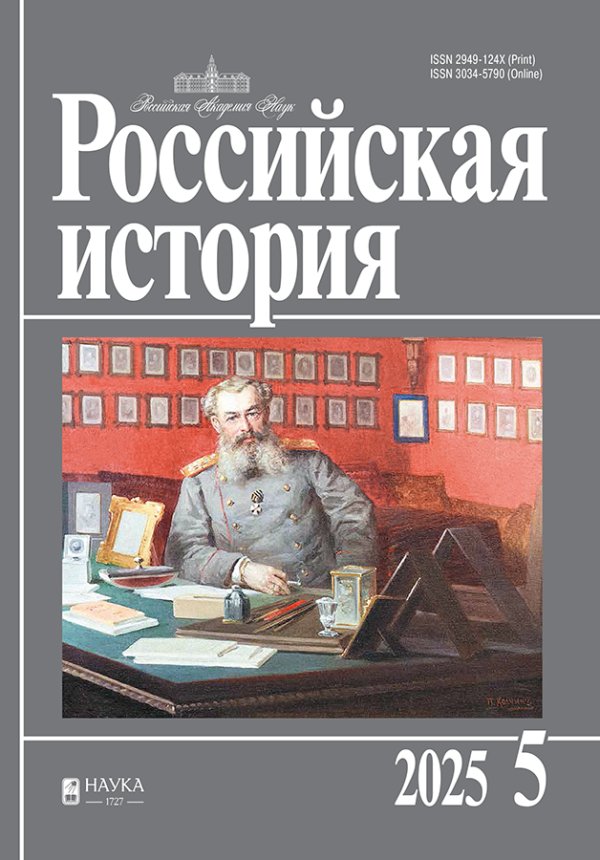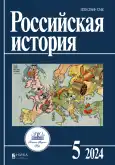Актуальное прошлое
- Авторы: Леонтьева Т.Г.1
-
Учреждения:
- Тверской государственный университет
- Выпуск: № 5 (2024)
- Страницы: 211-214
- Раздел: Рецензии
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274874
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050165
- EDN: https://elibrary.ru/SJSTBU
- ID: 274874
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В рецензии анализируются статьи известного историка, доктора исторических наук, профессора, сотрудника ИРИ РАН С.В. Тютюкина и воспоминания о нем, изданные в книге «Станислав Васильевич Тютюкин. Избранные труды / Сост. И.С. Удальцов и др. М.: Собрание, 2022». Отмечается широкий диапазон его научных интересов, внимание к документальному материалу, точность оценок изучаемых событий, способность к историческому прогнозированию. Подчеркивается значение сохранения в исторической памяти «неслужебной» биографии С.В. Тютюкина, отражающей его творческие наклонности и педагогические таланты.
Ключевые слова
Полный текст
Со Станиславом Васильевичем Тютюкиным я познакомилась в 2000 г. на конференции в Уфе, где ему, главному редактору журнала «Отечественная история», предстояло провести встречу с читателями. Тем не менее он слушал все доклады, задавал много вопросов и произвёл неизгладимое впечатление как модератор «круглого стола». Не удивительно, что находившиеся там надолго запомнили это событие и советы Станислава Васильевича (с. 683, 701). Мне же было особенно лестно получить его предложение прислать статью в «главный» журнал российских историков. В частных беседах поражало, насколько хорошо и детально он, специалист по истории начала ХХ в. и российской социал-демократии, знал события первой половины XIX в. Интересовал его и XVIII в.
Уже отмечалось, что Тютюкин был «на голову выше своего окружения»1 (с. 676, 677, 681). Составители сборника его трудов предложили читателям свыше 30 статей, рецензий и выступлений 1966–2014 гг. Иногда сюжеты повторяются, словно бы демонстрируя, что автор, невзирая на политическую конъюнктуру и историографическую «моду», действительно всегда оставался верен себе.
Книга состоит из четырёх разделов. В первом из них, посвящённом теоретическим и методологическим проблемам, выделяются размышления 1982 г. о статье В. И. Ульянова (Ленина) «О лозунге Соединённых Штатов Европы». Идея подобного объединения, как отмечает автор, уходит корнями в эпоху Возрождения, а сам термин появился благодаря президенту Дж. Вашингтону, мечтавшему об образовании на противоположном берегу Атлантики демократической конфедерации европейских стран. На протяжении всего XIX и начала ХХ в. этот лозунг повторялся самыми разными мыслителями, политиками и историками, развивавшими порой противоположные – от гегемонистских до пацифистских, от либеральных до социалистических – замыслы и проекты. Тютюкин, в лучших традициях историографии, привлёк к анализу «узкой», как может показаться, темы громадное количество неизвестных ранее работ и источников, отметив, что Ленин опирался как на собственные представления о реалиях империализма, так и на известные ему планы переустройства Европы и мира (с. 43)2.
Особое внимание Тютюкин уделял проблемам европейской и российской модернизации. При этом он был далёк от легковесных восторгов по поводу её «достижений», напоминая в 2004 г., что к началу ХХ в. не только «стали очевидны серьёзнейшие изъяны в функционировании капиталистической экономики», но «недостаточно эффективной оказалась и система парламентской демократии с её формализмом, демагогией, популизмом, коррупцией, явно не обеспечивающая ни реального участия народных масс в управлении обществом, ни принятия оптимальных решений и нужных законов» (с. 71). К настоящему времени эти представления в значительной мере подтвердились.
Раздел «Общественная мысль и социальные движения в России» охватывает период от движения декабристов и царствования Николая I до 1917 г. Учёный не идеализировал политику Романовых. К примеру, в реформах М. М. Сперанского ему виделась «странная гипотетическая смесь абсолютизма и элементов правового государства» (с. 189). Не менее критично оценивал он в 2000 г. и личность Николая I. Как писал Тютюкин, этот «красавец двухметрового роста», которого готовили к военной карьере, управлял Россией соответственно, а «его идеалом была образцовая казарма». Обладая огромной работоспособностью и здравым смыслом, император вместе с тем отличался «безграничной самоуверенностью, прямолинейностью мышления и поступков, ограниченностью кругозора» (с. 195). Его попытки «подтянуть» Россию к Европе, стремление к «максимально возможной централизации государственного управления и наивная вера в то, что у него хватит сил и способностей лично контролировать все стороны жизни российского общества», привели к печальному результату: за блестящим европейским фасадом империи скрывались «нищета народа, отсутствие элементарного порядка и вопиющее казнокрадство» (с. 196). В результате его правление ускорило крах крепостнической системы.
По мнению Станислава Васильевича, последний шанс императорского режима был связан с Первой мировой войной. Однако «патриотические чувства не получили в России необходимой “подпитки” в виде более или менее равномерного распределения тягот войны между различными социальными слоями», и в итоге «бездарная власть» рухнула в пропасть, а «обезглавленная страна…, в одночасье потерявшая все свои традиционные социально-политические и нравственные “скрепы”, закономерно сползла в марте–октябре 1917 г. к анархии, в недрах которой незаметно вызревали предпосылки для нового диктаторского режима» (с. 183, 184).
Особый раздел, посвящённый политическим партиям начала ХХ в., включает ряд критических очерков, в которых в основном речь идёт о либералах и социалистах. В 2005 г. Тютюкин писал о многопартийности как о «новой моде», получившей распространение в годы Первой российской революции. При этом он отмечал, что «эмоции и амбиции партийных лидеров, стремление не отстать от политических конкурентов и так или иначе “отметиться” на общественной арене превышали разумные потребности российского общества» (с. 395). Действительно, политика строилась тогда отнюдь не на рациональных основаниях, чему мешала своего рода «эмоциональная перенасыщенность» социального пространства3.
Станислав Васильевич по-своему показал это, проследив жизненный путь некоторых заметных фигур отечественной истории. Он хорошо знал особенности и опасности биографического жанра, не впадал в «разоблачительный» тон и умело избегал какой-либо апологетики, проявляя интерес к таким сложным и неоднозначным личностям, как Александр I, М. М. Сперанский, Ю. О. Мартов, Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин, Г. В. Чичерин, В. И. Ульянов (Ленин), Г. В. Плеханов, А. Ф. Керенский4.
Пытаясь раскрыть «феномен крепостного театра как большую специальную тему» (с. 609), Тютюкин погрузился в историю любви гр. Н. П. Шереметева и актрисы его домашнего театра П. И. Ковалёвой-Жемчуговой, которая «переросла… в настоящую социальную драму героев, где на одной чаше весов были простые человеческие чувства и духовное единение двух незаурядных творческих натур, а на другой – сословные предрассудки, нормы религиозной морали и так называемое общественное мнение» (с. 606). Получился живой (но вполне научный) рассказ о сценической и вокальной карьере простой крестьянки, некогда поразившей своим талантом не только Екатерину II, Павла I и польского экс-короля Станислава Понятовского, но и «одного из самых завидных женихов России», обладателя 210 тыс. крепостных, сочетавшегося с ней законным браком (с. 610–611). Ковалёвой «облагородили» родословную, превратив её в дочь польского шляхтича «Ковалевскую»; через три года после венчания она родила мальчика, а 20 дней спустя умерла от туберкулёза. В память о покойной жене граф построил в Москве Странноприимный дом, завещав сыну Дмитрию всегда помнить, «что он принадлежит Богу, государю и Отечеству» (с. 616). Дмитрий Шереметев, «красивый, романтичный и религиозный», увлёкся впоследствии известной петербургской балериной Авдотьей Истоминой (воспетой А. С. Пушкиным), однако сослуживцы отговорили его тогда от заключения брака. В 1837 г. Шереметев-младший женился на своей дальней родственнице Анне Шереметевой, отдалился от двора, вышел в отставку в связи с «повышенным “вниманием” Николая I к своей жене» и занимался благотворительной деятельностью (с. 614–619).
Делая эти биографические зарисовки, Станислав Васильевич показывал, до какой степени судьбы видных людей зависели от «отеческой» власти, которая подобно всей мыслящей России страдала от разлада «между книжным знанием и живой жизнью» (с. 596). Не случайно так и не сложился реформаторский союз «Александр I и М. М. Сперанский», хотя оба они «нащупали правильную технологию будущих реформ». Однако «власти нужен был лояльный, покорный и “управляемый” интеллект» (с. 594). В этом было что-то роковое для России: казалось бы, «верховная власть должна работать на опережение вызовов времени», но на деле всякий раз происходило нечто противоположное (с. 605).
Это заметно и в судьбе другого реформатора – С. Ю. Витте, хотя он едва ли мог составить «реформаторский тандем» с Николаем II, сильно уступавшим по интеллекту не только Александру I, но и Николаю I. Россия вступила в XX в. в условиях «острейшего конфликта между властью и обществом», вылившегося в революцию 1905–1907 гг. Заключив Портсмутский мир, завершивший неудачную русско-японскую войну, Витте многим представлялся «настоящим спасителем Отечества» (с. 587). На деле же, убедив царя подписать Манифест 17 октября 1905 г., он лишь «выручил» (причём всего на 12 лет) правившую династию. Примечательно, что последний российский император – ещё более боязливый и мнительный, чем Александр I, – «с чувством глубокого облегчения» подписал прошение главы своего правительства об отставке (с. 593). Тютюкин отнюдь не идеализировал Витте и не скрывал, что этот действительно незаурядный сановник был «карьеристом и интриганом», действовавшим по правилам своего времени (с. 588). Но он «смотрел в будущее и работал – как умел и как позволяли ему обстоятельства – для того, чтобы превратить Россию в могучее, процветающее, цивилизованное, правовое государство» (с. 593).
Очевидно, что неудачи реформ по-своему стимулировали революционеров. Как показал в 1991 г. Тютюкин, того же Троцкого, мечтавшего в детстве стать инженером или учёным, «бунтарём» сделала сама действительность: он органически не принимал авторитаризма, кто бы его ни проявлял – преподаватель училища, Плеханов или Ленин. Историк выступил против прочно засевшего в исследованиях советского времени представления о том, что троцкизм – это «злейший враг ленинизма, разновидность меньшевизма» (с. 534). Фактически события 1917 г. разворачивались по сценарию «перманентной революции», хотя, «выдавая желаемое за действительное, Троцкий явно ускорял в своём разгорячённом воображении ход мирового революционного процесса» (с. 535). Сказывалась и склонность Троцкого к театральным жестам: 18 октября 1905 г. он демонстративно разорвал на митинге в Петербурге текст царского манифеста, а затем, отвечая на телеграмму Витте к «братцам-рабочим», заявил, что рабочие ни в каком родстве с графом не состоят и «мириться» с ним не желают (с. 539). Июльские события 1917 г. сблизили его с вождём большевиков (с. 555), а в октябре «имена Ленина и Троцкого были самыми популярными», и «ещё никто не мог предугадать, что будет 10–20 лет спустя» (с. 560).
Тютюкин вникал в мотивы поведения самых разных политиков, стараясь разглядеть их как «со стороны», так и «изнутри». Для историка было важно, к примеру, то, что Мартов обладал «специфической» внешностью – «прихрамывал, немного заикался, ходил как-то сгорбившись, непрерывно размахивал руками, много курил», но при этом «его недаром называли совестью меньшевизма, ибо ему претили обман, моральная нечистоплотность, дешёвый популизм» (с. 583). Революционером его сделало прежде всего обострённое чувство справедливости. Кстати, именно Мартову принадлежал план возвращения революционеров-интернационалистов в Россию через Германию, хотя первыми его предложением воспользовались большевики, а сам он и ещё 200 социалистов прибыли в Петроград таким же способом позднее – 9 мая 1917 г. (с. 585). В октябре 1917 г. Мартов пытался «найти мирный выход» из кризиса, однако «его не слушали ни Керенский, ни Ленин с Троцким, ни лидеры меньшевистско-эсеровского блока, ни восставшие рабочие, солдаты и матросы» (с. 586). История идёт своим путём, и Станислав Васильевич это хорошо понимал.
Завершают книгу воспоминания российских, американских и японских историков. Их отзывы о Станиславе Васильевиче созвучны словам И. С. Удальцова: «Он был воплощением учёного человека и человечного учёного» (с. 707). Исследователей разных поколений впечатляли не только работы Тютюкина, но и масштаб его личности. Но на фоне таких, порой трогательных, высказываний выделяются тексты профессоров В. Н. Казарина (с. 684–695) и В. Ю. Карнишина (с. 696–698), обративших внимание на то, что отдельные реплики и комментарии, которые звучат на семинарах, в лекциях и частных беседах, и, разумеется, не протоколируются, сохраняясь лишь в конспектах студентов и цепкой памяти слушателей, содержат ценнейшие мысли и наблюдения, по разным причинам не нашедшие продолжения в публикациях.
Книгу украшает вкладка с фотографиями и юношескими рисунками С. В. Тютюкина. Что и говорить: талант многогранен!
1 Булдаков В. П. Быть историком… (Вспоминая С. В. Тютюкина) // Всегда оставался верен себе: сборник статей памяти доктора исторических наук Станислава Васильевича Тютюкина. М., 2021. С. 35.
2 В статье особо упоминались Дж. Мадзини, В. Гюго, П. Ренувен, A. Альбонетти, не говоря уже о К. Каутском.
3 Подробнее см.: Suny R. G. Thinking about Feelings: Affective Dispositions and Emotional Ties in Imperial Russia and the Ottoman Empire // Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe. DeKalb, 2011. Р. 102–124; Buldakov V. P. Revolution and Emotions: Towards a Reinterpretation of Political Events of 1917 // Russian History. 2018. Vol. 45. P. 196–230.
4 См., в частности: Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997; Тютюкин С. В. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905–1917). М., 2012.
Об авторах
Татьяна Геннадьевна Леонтьева
Тверской государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета
Россия, ТверьСписок литературы
- Булдаков В.П. Быть историком… (Вспоминая С.В. Тютюкина) // Всегда оставался верен себе: сборник статей памяти доктора исторический наук Станислава Васильевича Тютюкина / отв. ред. Ю.А. Петров. М., изд-во ИРИ РАН, 2021. – 354 с.
- Suny R.G. Thinking about Feelings: Affective Dispositions and Emotional Ties in Imperial Russia and the Ottoman Empire // Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe. DeKalb, 2011. Р. 102–124.
- Buldakov V.P. Revolution and Emotions: Towards a Reinterpretation of Political Events of 1917 // Russian History. 2018. Vol. 45. P. 196–230.
- Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., РОССПЭН, 1997. – 376 с.
- Тютюкин С.В. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905–1917). М., РОССПЭН, 2012. – 309 с.
Дополнительные файлы

Примечание
*Станислав Васильевич Тютюкин. Избранные труды / Сост. И. С. Удальцов, В. Л. Телицын, В. В. Шелохаев, при участии М. И. Удальцовой. М.: Собрание, 2022. 718 с.