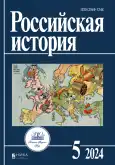Stanislav Vasilyevich Tyutyukin in the writings and memoirs of his contemporaries
- Authors: Voitikov S.S.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 215-224
- Section: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274875
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050176
- EDN: https://elibrary.ru/SJSPCK
- ID: 274875
Cite item
Full Text
Abstract
The article tells about S.V. Tyutyukin, a major historian and organizer of science, and a collection of his scientific works.
Full Text
В 2022 г. друзья, родственники и коллеги С. В. Тютюкина выпустили солидный сборник его трудов, выходивших в разных изданиях в течение полувека. Он, безусловно, поможет современным исследователям осваивать творческое наследие Станислава Васильевича. В книгу вошли 32 статьи, распределённые по четырём разделам – «Теоретические и методологические проблемы», «Общественная мысль и социальные движения в России», «Политические партии в России» и «Биографии».
Открывающая сборник статья «К вопросу о “революционном шовинизме” в годы Первой мировой войны», впервые опубликованная в 1968 г., была совершенно новаторской для того времени. С подачи В. И. Ульянова (Ленина) «революционерами-шовинистами» большевики называли «тех, кто хочет победы над царизмом для победы над Германией, – для грабежа других стран, – для упрочения господства великороссов над другими народами России и т. д.». При этом считалось, что «основа революционного шовинизма – классовое положение мелкой буржуазии», которая «всегда колеблется между буржуазией и пролетариатом» (с. 11). Между тем поражения русских войск, как показал Станислав Васильевич, вызвали «синтез революционно-демократического и стихийно-“патриотического” элементов массового движения, нашедший выражение в процессе перерастания социал-шовинизма меньшевиков и эсеров в революционный шовинизм, что в свою очередь сыграло важную роль в известном расширении влияния мелкобуржуазных партий на народные массы России в ходе войны» (с. 12). Ленин писал эсеру П. А. Александровичу, что в России в то время было два «основных революционных течения: революционеры-шовинисты (свергнуть царя, чтобы победить Германию) и революционеры – пролетарские интернационалисты (свергнуть царя для помощи интернациональной революции пролетариата)» (с. 13).
Тютюкин отмечал «не только ограниченность меньшевистско-эсеровской революционности, но и крайнюю непоследовательность и эклектичность теоретических представлений вождей мелкобуржуазных партий о движущих силах и перспективах развития русской революции», поскольку «в их концепциях в разных пропорциях сочетались “модные” теории социал-реформизма и национал-либерализма с обрывками идей революционного марксизма, утопического социализма и буржуазного демократизма» (с. 13). Рабочие группы военно-промышленных комитетов, находившиеся в руках меньшевиков и эсеров, «прилагали максимум энергии, чтобы любыми средствами предупредить стачки и погасить забастовочное движение рабочих» (с. 19). Проанализировав взгляды меньшевиков и эсеров, Тютюкин сделал вывод о том, что их позиция «соединяла буржуазный национализм и шовинизм (лозунг защиты отечества в империалистической войне), социал-реформизм (программа политического блока с буржуазией и смягчения классовой борьбы в интересах обороны) и мелкобуржуазную революционность (призыв к свержению самодержавия для установления буржуазного строя). Удельный вес этих составных частей в политических платформах различных групп меньшевиков и эсеров был неодинаков, но по мере углубления революционного кризиса в стране их революционно-демократическая сторона несколько усиливается, а социал-реформистская на время ослабевает. У меньшевиков социал-соглашательство, как правило, было сильнее, чем у эсеров, так как последние олицетворяли собой другую сторону мелкобуржуазного оппортунизма – “революционные” шатания мелкого хозяйчика, взбесившегося от ужасов капитализма и войны» (с. 19–20).
В 1982 г., обратившись «к истории создания статьи В. И. Ленина “О лозунге Соединённых Штатов Европы”» (СШЕ), Станислав Васильевич предпринял попытку «проследить творческую историю» этого произведения, «выяснить обстоятельства, сопутствовавшие появлению лозунга… в большевистской антивоенной программе, показать ход его дальнейшего обсуждения и те причины, по которым он в конце концов был снят» (с. 23). Идея образования СШЕ приобрела популярность в 1840-е гг. «во время бурных революционных событий во Франции и Италии» (с. 24), движение её сторонников приняло особенно большой размах после того, как их поддержала основанная в 1867 г. пацифистская Лига мира и свободы. К. Маркс тогда отнёсся к данной «затее буржуазных пацифистов и бакунистов отрицательно, считая, что подлинной Лигой мира и свободы является только сам пролетарский Интернационал». Тютюкин констатировал, что «на первых порах лозунг Соединённых Штатов Европы получил довольно широкое распространение не только в радикально-демократических, но и в социалистических кругах». Сочувствовал ему даже Ф. Энгельс, заявивший в 1893 г., что недалеко уже то время, когда подобный союз социалистических государств станет реальностью (с. 26). Позднее «своеобразной модификацией идеи Соединённых Штатов Европы стал выдвинутый в 1912 г. социалистами балканских стран и поддержанный всеми партиями II Интернационала революционный лозунг Балканской федеративной республики – союза равноправных балканских народов на основе широкого самоуправления каждой из входящих в федерацию стран» (с. 27).
В то же время задолго до Первой мировой войны империалисты, и прежде всего – пангерманисты, своими призывами к объединению «Срединной Европы» маскировали притязания «немецких юнкеров на Польшу, Украину, Прибалтику и другие районы Восточной Европы». Более того, «подобные концепции империалистической интеграции оказали определённое влияние и на откровенно ревизионистское крыло германской социал-демократии» (с. 28). Тогда же с критикой проектов общеевропейской федерации выступили английский экономист Дж. Гобсон (1902) и Р. Люксембург (1911), настаивавшая на том, что «не европейская солидарность, а интернациональная солидарность, охватывающая все части света, расы и народы, – таков главный принцип социализма в марксистском смысле» (с. 31).
В работах Ленина призыв к борьбе за республиканские Соединённые Штаты Европы, включавшие в себя немецкую, польскую, российскую и другие республики, появился в сентябре 1914 г. (с. 33). К тому времени уже произошёл крах II Интернационала, наблюдался резкий всплеск национализма и шовинизма, а потому приобрела особое значение «борьба за сохранение интернациональных пролетарских связей, за сплочение всех живых революционных сил вокруг большевиков» (с. 33).
Как установил Тютюкин, «решающую роль в изменении позиции Ленина… сыграла Бернская конференция заграничных секций РСДРП, проходившая 27 февраля – 4 марта 1915 г.» (с. 36). Тогда Ленин «впервые встретил открытые возражения против лозунга СШЕ со стороны некоторых своих товарищей по партии: Г. Л. Шкловского, В. М. Каспарова, И. Ф. Арманд, Е. Б. Бош, которые указывали на его неосуществимость при империализме из-за экономических и политических противоречий между ведущими капиталистическими державами» (с. 37). Готовясь к международной социалистической конференции в Циммервальде, Ленин и Г. Е. Зиновьев пришли к заключению: «Либо это – лозунг невозможный при капитализме, означающий не только отдачу колоний, но и установление планомерности мирового хозяйства при разделе колоний, сфер влияния и проч. между отдельными странами. Либо это – лозунг реакционный, означающий временный союз великих держав Европы для ограбления более быстро развивающихся Японии и Америки» (с. 41). А в статье, вышедшей 24 августа 1915 г., Ленин уже доказывал «невозможность или реакционность Соединённых Штатов Европы при империализме» и ставил вопрос «о неправильности данного призыва с точки зрения интересов международного революционного движения» (с. 42).
Тютюкин отмечал, что лозунг СШЕ «сам по себе не оставил сколько-нибудь заметного следа в истории нашей партии», но при этом «навсегда вошёл в теоретическую сокровищницу марксизма-ленинизма» сделанный Лениным в ходе развернувшейся тогда дискуссии вывод о возможности победы социализма в одной «отдельно взятой» стране и «построения полного социалистического общества» в России прежде, чем где-либо (с. 44). По мнению Станислава Васильевича, он «не означал какой-либо принципиальной переориентации большевиков в подходе к международному революционному движению, отказа от курса на мировую антиимпериалистическую революцию. Вызревание в годы Первой мировой войны общеевропейской революционной ситуации могло в известной мере сгладить неравномерность в вызревании предпосылок пролетарской революции в отдельных странах, восполнить недостающую зрелость субъективного фактора в некоторых звеньях империалистической системы. Вот почему и до, и до после публикации статьи Ленина “О лозунге Соединённых Штатов Европы” мы находим во многих ленинских работах страстный призыв к европейской и всемирной революции пролетариата, к интернациональному единению различных национальных отрядов рабочего класса» (с. 46). Впрочем, как указывал историк в 1978 г., «Ленин никогда не ставил развитие революционных событий в России в какую-то жёсткую детерминированную зависимость от темпа развития пролетарской революции на Западе. Напротив, он призывал провести демократическую революцию в России как можно более решительно и последовательно, сделать революционный процесс непрерывным (возможно, даже на несколько десятилетий) и смело вступать на путь перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую» (с. 109).
В 1990–2000-е гг. Станислав Васильевич не раз пытался «посмотреть, что реально сделала и чего не смогла сделать императорская власть в XIX – начале ХХ в., наметив тем самым ориентиры для реформаторских замыслов тех политических сил, которые предлагали собственные – альтернативные официальному – проекты преобразования России в соответствии со всесильными требованиями времени» (с. 74). Историк отмечал, что «процесс модернизации остался в XIX в. в России незавершённым, и самодержавный строй не претерпел существенных изменений, но значение происшедших в то время перемен в жизни страны трудно переоценить» (с. 186). В начале столетия «феноменальный карьерный взлёт Сперанского был прерван монархом, обладавшим незаурядным личным интеллектуальным потенциалом, смело выдвинувшим безродного владимирского поповича в первый ряд столичных бюрократов, но не замедлившим принести его в жертву Системе и личным амбициям, как только наружу вышел острый конфликт недавнего любимца с главной опорой российских самодержцев в лице дворянства и царю показалось, что тот слишком “зарвался” в своих честолюбивых мечтаниях» (с. 594). Позднее Николай I «придал внешнему фасаду империи вполне европейский вид, за которым скрывались, однако, нищета народа, отсутствие элементарного порядка и вопиющее казнокрадство» (с. 195). Но в итоге «к началу ХХ в. модернизационный процесс в России практически исчерпал те стимулы, которые были даны ему реформами второй половины XIX в. Налицо был опасный разрыв между его технико-технологической, социокультурной и политической составляющими» (с. 80).
Размышляя в 1996 г. про «феномен массовых социальных движений», Тютюкин обращал внимание на то, что на рубеже XIX–ХХ вв. они «начинают приобретать общероссийский характер»: «Расширяется и состав их участников, причём часть из них берёт на вооружение лозунги насильственного ниспровержения самодержавного строя, что неизбежно придаёт народному протесту революционную окраску. Однако и в это время большинство трудящихся, как правило, не выходит ещё за рамки вполне легальных (по меркам цивилизованных государств) массовых выступлений на чисто экономической почве, которые в условиях России, увы, воспринимались властями как покушение на основы существующего порядка и сурово преследовались. Таким образом, сами правящие “верхи” как бы подталкивали массы к радикализации их требований, в зародыше убивая в России реформизм западного типа. Кульминацией массовых народных движений в России стали три революции 1905–1907 и 1917 гг., сыгравшие огромную роль не только в отечественной, но и в мировой истории» (с. 129). Исследователь считал их «наказанием правящим верхам за хроническое запаздывание в проведении реформ» (с. 171). По его словам, «1905 год как бы собрал в один большой костёр и поджёг весь тот горючий материал, который веками копился в России» (с. 176)1.
Тем не менее у этого пожара учёный обнаруживал и положительные последствия, утверждая, что «трудно переоценить то воздействие, которое оказала революция на рост самосознания рабочего класса, реально ощутившего свою социальную силу и политическую значимость» (с. 153). Рассматривая «революцию 1905–1907 гг. как нечто целостное», Станислав Васильевич считал возможным «в определённом смысле слова говорить также о рабочей, крестьянской, национально-освободительной, солдатской, студенческой и т. п. революциях со своими собственными проблемами, циклами, задачами и особенностями» (с. 155). Тютюкин видел в них следствие таких «остатков Средневековья и раннего Нового времени, как самодержавный абсолютизм, сословный строй, крестьянское малоземелье на фоне мощных дворянских латифундий, социальная незащищённость трудящегося большинства населения, темнота и бесправие народа» (с. 271). Он не сомневался в том, что «одним из главных “виновников” революции была сама российская власть, начиная от Николая II и кончая последним полицейским урядником, дружно воздвигавшими глухую стену между властными структурами и российской общественностью, не говоря уже о широких народных массах» (с. 272).
Вместе с тем историк допускал, что, «не будь Первой мировой войны, в 1917 г. не произошло бы крушения Российской империи и тем более победы советской власти со всеми вытекающими отсюда для нашей страны и мира последствиями… При этом крах имперской системы в России явился следствием не столько её военной слабости и поражений русской армии, сколько результатом катастрофического разложения тыла и полного разлада между властью и уставшим от войны, хозяйственной разрухи и правительственной неразберихи обществом» (с. 278). После 1914 г. «российское имперское государство с его законами, кадрами, ресурсами и системой нравственных ценностей оказывалось самым слабым звеном в знаменитом треугольнике “власть, народ, война”» (с. 328). Сказывалось и то, что «глубочайший социокультурный раскол российского общества, острота классовых противоречий, многонациональный характер империи и наличие в ней этноконфессиональных трений и конфликтов существенно деформировали естественные для каждого человека патриотические чувства, лишали их глубины и искренности» (с. 180). Тем не менее Тютюкин писал «о патриотическом подъёме 1914–1915 гг. как о важном стабилизирующем факторе, укреплявшем позиции российского самодержавия» (с. 180).
Так или иначе, Тютюкин констатировал, что Российская империя «подошла к 1917 г. в состоянии тревоги, всеобщего недовольства существующим строем и политикой правящих “верхов”. Как долго продлится предгрозовое ожидание, сказать никто не мог, но ясно было, что терпению народа приходит конец. Именно “улица”, а не разного рода “заговоры” в среде либеральных оппозиционеров (включая и членов масонских лож) и антиправительственная деятельность заметно поредевших революционных партий, таила в себе главную опасность для царских властей. Взаимное отчуждение власти от общества и общества от власти подошли к той последней черте, за которой начинается социальный взрыв и стремительный распад старой системы общественных отношений. Это и произошло в России весной 1917 г.» (с. 168).
Тютюкин не соглашался с тем, что «марксизм с его жёстким рационализмом, атеизмом и призывом к беспощадной классовой борьбе и насильственному установлению диктатуры пролетариата был якобы органически чужд православной крестьянской России, широкой русской душе и специфической общинно-соборной ментальности» (с. 206). По наблюдениям Станислава Васильевича, «в реальной действительности такой несовместимости не было, поскольку свободолюбие русского народа, присущий ему дух коллективизма и социальной справедливости вполне корреспондировались с азами марксизма», а «призывы марксистских агитаторов к насилию над насильниками не только никогда не пугали “низы” российского общества, но, наоборот, ещё больше разжигали их вековую ненависть к любым эксплуататорам» (с. 206). Наконец, «пусть смутный, но тем не менее очень привлекательный социалистический идеал (равенство, материальное благополучие, отсутствие эксплуатации, свобода) не мог не согревать душу живущих в постоянной нужде, обездоленных и униженных людей, какими были тогда десятки миллионов россиян. И даже то, что в условиях России марксизм получил некий полурелигиозный оттенок, став собранием непререкаемых догм, критиковать которые простым людям не полагалось, делало его внутренне близким русской ментальности и психологическому складу» (с. 206–207). В этой характеристике чувствуется явное влияние на исследователя идей левых народников.
Тютюкин признавал, что, придя к власти, большевики на практике «быстро отказались от базовых принципов международной социал-демократии и повернули от социал-демократизма к коммунизму, причём в ходе начатого ими в России социалистического эксперимента оформилась и новая, марксистско-ленинская коммунистическая идеология. Сохраняя все признаки внешнего сходства с марксизмом и неизменно декларируя почти религиозную приверженность к нему, ленинизм предложил более жёсткое, агрессивное и вместе с тем сугубо прагматическое толкование основных положений марксистской доктрины, ориентируясь в этом в первую очередь на более ранние высказывания Маркса и Энгельса и дополняя их собственными схемами развития революции и собственным, более “приземлённым” и вульгарным, видением социалистического строя применительно к условиям отсталой крестьянской многонациональной России, взявшейся под руководством большевиков строить социализм в одной отдельно взятой стране во враждебном капиталистическом окружении. Характерными чертами марксистско-ленинской концепции революции стали погоня за быстрыми темпами её развития, гипертрофия насилия, особый акцент на репрессивных, карательных функциях диктатуры пролетариата, расширительное толкование понятия “враги народа”, мессианское понимание роли России как базы для мировой революции и готовность пожертвовать во имя торжества этой последней благосостоянием собственных граждан, создание неизвестной прежде миру системы симбиоза коммунистической партии и Советского государства и т. д.» (с. 209–210). В результате «социал-демократическая модель обновления России, носившая достаточно реалистичный характер, была реализована в 1917 г. далеко не полностью, а большевистская модель социалистического и коммунистического строительства в СССР оказалась уродливо деформированной и по большому счёту так и не воплотилась в жизнь, что не оправдывает, однако… ни распада СССР, ни колоссальных издержек установления постсоветской демократии» (с. 269–270).
Остро критиковал Тютюкин и деятельность небольшевистских партий. Анализируя её, он убеждался в том, что «незавершённость процесса модернизации, недостаточно чёткое социальное, идеологическое и политическое структурирование общества, многонациональный характер населения империи, впервые по-настоящему проснувшегося в 1905 г. к активной социальной жизни, придали российской многопартийности особенно мозаичный и причудливый характер» (с. 396). Но, при всей её слабости, «в чём российские партии явно превосходили своих западных собратьев, так это в полнейшей нетерпимости к инакомыслию» (с. 400).
Одним из первых, ещё в 1969 г., Станислав Васильевич изложил историю конституционно-демократической партии в обобщающем очерке и одновременно убедительно продемонстрировал, что «полемическая заострённость была характерна для всех работ Ленина, посвящённых критике кадетов» (с. 337)2. Но, пожалуй, наибольший интерес у него вызывали «товарищи противники» (по выражению П. Б. Аксельрода) ленинцев по РСДРП. «Меньшевики, – написал Тютюкин в 1993 г., – гораздо больше своих конкурентов-большевиков следовали букве марксизма… Меньшевики были убеждены в том, что социальное освобождение пролетариата должно быть делом прежде всего самих рабочих, а не какой-то заговорщической революционной организации, которая будет выступать от их имени, захватит власть, а потом установит свою партийную диктатуру во главе с новым марксистским вождём. Поэтому высшим критерием успеха социал-демократической работы меньшевики считали не скорейший захват РСДРП власти, а систематическую подготовку пролетариата как класса в целом к выполнению его главной исторической миссии – миссии борца за народную демократию и могильщика капитализма. Не замещать пролетариат на политической арене профессиональными революционерами-интеллигентами, а просвещать, организовывать, развивать его самодеятельность, инициативу, социальную и политическую активность – вот как представляли себе меньшевики главную задачу РСДРП» (с. 383). При этом на словах они «выступали за необходимость творческого подхода к марксизму, но на практике», в отличие от большевиков, «так и не смогли адаптировать его классический вариант применительно к сложной и противоречивой российской ситуации» (с. 385).
В 2014 г., говоря о позициях социалистических партий в годы Первой мировой войны и, в частности, упомянув про сближение правых эсеров с меньшевиками-«оборонцами», а левых – с большевиками (вплоть до 6 июля 1918 г.), Тютюкин объяснял различия между «правыми» и «левыми» социалистами как марксистского, так и народнического толка прежде всего факторами «психологического и национального характера» (с. 417–418). Исследователь учитывал, что «в многонациональной России и в РСДРП, и в ПСР были люди самых разных национальностей, причём среди большевиков и эсеров явно преобладали русские, а среди меньшевиков было много евреев и грузин. Во всех указанных партиях преобладала демократическая интеллигенция и в гораздо меньшей степени рабочие (причём не так называемая “рабочая аристократия”, а их средние слои) и до осени 1917 г. особенно крестьяне» (с. 418).
Выразительные портреты участников революционного движения, созданные Тютюкиным в разные годы, представлены (наряду с образами исторических деятелей других эпох) в разделе «Биографии». В 2010 г., подводя итог многолетнего изучения судьбы и творчества Г. В. Плеханова, Станислав Васильевич заключал: «Бесспорно, ранняя (в 23 года) и затянувшаяся почти до конца жизни 37-летняя эмиграция, сохранившая Плеханову жизнь, а также тяжёлая многолетняя болезнь сыграли с ним поистине злую шутку. Сделав его “русским европейцем” и оторвав от родины в один из самых важных и во многом решающих периодов его развития, они помешали Плеханову по-настоящему слиться с Россией и её народом, лучше понять обстановку на далёкой родине и её реальные нужды, отучили от принятия смелых, хотя и рискованных стратегических решений. Плеханов так и не смог преодолеть издержки, связанные с его отрывом от родины и спецификой эмигрантской среды (преобладание мелких дел, борьба личных честолюбий, уход от большой политики в сугубо бытовые вопросы и т. д.). С трудом находил он и контакт с талантливыми представителями молодого поколения русских марксистов, которые лучше него знали ситуацию в рабочем и крестьянском движении на родине и теснее, чем он, были связаны с РСДРП. В итоге Плеханов остался на уровне лучших образцов “классического” марксизма XIX в., счастливо избежав рискованных, часто неоправданных и не всегда согласовавшихся с революционной моралью ленинских политических экспериментов, но не поняв и необходимости выработки новых стратегических и тактических марксистских решений, отвечающих вызовам времени и конкретным условиям России начала ХХ в. Плеханов не стал ни вождём РСДРП, ни лидером политически активной части народа России, оставшись до конца своих дней в основном кабинетным учёным и социалистическим журналистом, который был недоволен и Лениным, и Троцким, и Мартовым, но который не мог предложить “свой”, марксистско-плехановский, вариант конкретных действий для того, чтобы вывести Россию из того тупика, в котором она оказалась к началу 1917 г.» (с. 651). И всё же немаловажно, что созданная им группа «Единство», по сути, призывала отстаивать не социалистическую революцию, а Родину, да и сам Плеханов в 1914 г. выступал как истинный патриот.
В те же годы, как ещё в 1966 г. установил Тютюкин, Г. В. Чичерин был сторонником каутскианской теории «ультраимпериализма» (с. 458–461). В РСДРП он оставался белой вороной и к февралю 1917 г. «был ещё лишь на подступах к большевизму, занимая среднюю линию между меньшевиками-мартовцами, с одной стороны, и Троцким – с другой». Но это не мешало ему в 1915–1917 гг. активно участвовать «в живой интернационалистской работе, приносившей свои плоды» (с. 473).
Раскрывая в 1994 г. историю споров Ленина и Н. И. Бухарина, ставшего в годы Первой мировой войны идеологом леворадикального крыла марксизма, Тютюкин считал необходимым «сказать правду не только о его выдающихся способностях и трагической судьбе, но и о таких чертах Николая Ивановича, как идейная неустойчивость, политический импрессионизм, причудливое сочетание в его менталитете гуманистического и авторитарного начала, чередование попыток “прислониться” к сильному вождю (будь то Ленин или Сталин) и бунта против него» (с. 562). Станислав Васильевич также напоминал, что «уверенность большевиков в победе мировой революции оказалась иллюзорной, процесс перестройки мировой империалистической системы пошёл сложными, извилистыми путями, а “ультраимпериализм” оказался куда более реальным, чем это представлялось Ленину и Бухарину, программа которых отражала лишь одну из возможных альтернатив общественного развития. Тем не менее, стратегический курс большевиков, хотя и в урезанном, деформированном, а затем и извращённом виде, получил свою частичную реализацию в 1917 г. и в последующий период, что делает работы Ленина и Бухарина не только литературными памятниками, но и важными политическими документами той эпохи, в которую они создавались» (с. 568).
Тютюкин принадлежал к числу тех, кто заложил фундамент научного изучения жизни и деятельности Л. Д. Троцкого. Очертив в 1991 г. путь, пройденный им до вступления в большевистскую партию, историк обнаружил, что «различия между Троцким и Лениным действительно были, хотя и не всегда там, где их искали прежде. Несмотря на то, что Ленин сознательно не шёл на конкретизацию своих представлений о сроках демократического этапа революции в России, не подлежит сомнению, что Троцкий намного превосходил его в стремлении уплотнить и сжать этот этап во времени, предполагая при этом решать задачи буржуазного переворота в основном силами рабочих, а не всего народа во главе с пролетариатом. Не отрицая большого значения аграрного вопроса в такой крестьянской стране, как Россия, Троцкий тем не менее считал главной ареной революции город. Что касается роли крестьянства в революции, то Троцкий оценивал её намного скромнее, чем Ленин» (с. 534–535). Любопытно, что при этом попытка военного переворота, предпринятая большевиками в Петрограде 3–5 июля 1917 г., описывалась строго в соответствии с советским каноном: «В столице состоялись мощные народные демонстрации, носившие в основном мирный характер, но сопровождавшиеся отдельными вооружёнными столкновениями, которые были спровоцированы контрреволюционными элементами и привели к человеческим жертвам» (с. 555).
В 1994 г. в краткой, но ёмкой статье Тютюкин смог дать исчерпывающую характеристику личности Ю. О. Мартова, которого «судьба» обрекла «на роль вечного оппозиционера»: в Российской империи он боролся с царизмом, при Временном правительстве защищал Ленина от обвинений в государственной измене, а в конце 1917 г. «оказался в конфликте и с новой, большевистско-левоэсеровской, властью» (с. 586). Подметив эту черту Юлия Осиповича, Станислав Васильевич подчеркнул, что даже «сестра Мартова Л. О. Цедербаум-Дан признаёт ответственность брата за разрыв с Лениным», тогда как «Ленин и после раскола партии продолжал питать добрые чувства к Мартову». В целом же, по наблюдениям историка, в «обстановке взаимного озлобления, крайней нетерпимости к мнению оппонента и всеобщей подозрительности, которые пышным цветом расцветали сначала в русской социал-демократической эмиграции, а затем и в партийных организациях в самой России, и меньшевики, и большевики оказались явно не на высоте положения. Личные амбиции и обиды нередко отодвигали интересы дела на второй план, мешали слушать и понимать своих оппонентов. Однако чем дальше, тем больше становилось ясно, что в основе раскола РСДРП лежат разные подходы обеих фракций к задачам и тактике партии, рабочему движению, наконец, к самому марксизму» (с. 580).
Но если революционное движение страдало разобщённостью, то, как полагал Тютюкин, «знаменитый прыжок [А.Ф.] Керенского во власть стал возможен весной 1917 г. благодаря его центристской позиции между диаметрально противоположными социально-политическими силами российского общества – буржуазией, дворянством, чиновничеством и армейской верхушкой, с одной стороны, и трудовыми слоями населения – с другой. Успех такой политики мог носить, однако, лишь кратковременный характер и был обусловлен полной недееспособностью царизма на фронте и в тылу, что – пусть в разной мере и в разных формах – не устраивало уже всю страну. Недаром даже “экстремист” Ленин, для которого марксистское деление общества на классы и их борьба как движущая сила человеческой истории была аксиомой, признавал, что Февральская революция 1917 г. на короткое время действительно соединила самые разные потоки общественного движения, и именно этот факт и привёл Керенского во Временное правительство» (с. 665).
Книгу завершают воспоминания о С. В. Тютюкине его коллег и учеников. О том, что это был замечательный человек и крупный принципиальный учёный, сказано уже немало. В 2004 г. меня, в то время – начинающего специалиста Российского государственного военного архива, направившего в журнал «Отечественная история» свою первую статью, поразило, с каким интересом главный редактор расспрашивал о жизни и научной работе совершенно «зелёного» автора. Я увидел живого, цепкого, открытого всему новому человека, а позднее понял, что поиск молодых исследователей Станислав Васильевич считал одной из своих важнейших задач. Он блестяще сочетал в себе строгость авторитарного руководителя и удивительную отывчивость в общении с коллегами. Пожалуй, это был лучший организатор исторической науки начала XXI в.
1 К сожалению, большое издание редко обходится в наше время без досадных опечаток. Так, в данном случае вместо «копился» в книге ошибочно набрано «коптил» (с. 176). Ср. первую публикацию статьи: Тютюкин С. В. Реформы и революция 1905–1907 гг. // Реформы и реформаторы в истории России. Сборник статей. М., 1996. С. 144.
2 Его статья «“Оппозиция Его Величества” (партия кадетов в 1905–1917 гг.)» вышла в сборнике с характерным названием «В. И. Ленин о социальной структуре и политическом строе капиталистической России» (М., 1969) (с. 331).
About the authors
Sergey S. Voitikov
Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, старший научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Станислав Васильевич Тютюкин. Избранные труды / Сост. И.С. Удальцов, В.Л. Телицын, В.В. Шелохаев, при участии М.И. Удальцовой. М.: Собрание, 2022. 718 с.
- Тютюкин С.В. Реформы и революция 1905–1907 гг. // Реформы и реформаторы в истории России. Сборник статей. М., 1996.
Supplementary files

Note
*Stanislav Vasilyevich Tyutyukin. Selected works / Comp. I. S. Udaltsov, V. L. Telitsyn, V. V. Shelokhaev, with the participation of M. I. Udaltsova. Moscow: Sobranie, 2022. 718 p.