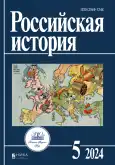The riddles of Boris Savinkov
- Authors: Kan G.S.1
-
Affiliations:
- State Archive of the Russian Federation
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 225-230
- Section: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274878
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050188
- EDN: https://elibrary.ru/SJQEDU
- ID: 274878
Cite item
Full Text
Abstract
The review is devoted to the latest biography of B.V. Savinkov, written by K.N. Morozov.
Keywords
Full Text
К. Н. Морозов, один из крупнейших исследователей истории партии эсеров, опубликовал фундаментальную биографию Б. В. Савинкова (1879–1925), детально осветив сложную и даже загадочную фигуру этого человека.
Савинков многолик и противоречив. Борец за свободу и разрушение имперской государственности России, он в то же время оставался патриотом и сторонником сильной власти, отвергнувшим в конце жизни принципы парламентской демократии. Террорист, не раз прибегавший к насильственным действиям, он в своих размышлениях не мог найти оправдание насилию. Вращаясь преимущественно в нерелигиозной среде, Савинков интересовался христианством и не скрывал неприятия позитивистской «рутины». Революционер и политик уживались в нём с талантливым писателем, ставившим в своих произведениях острые моральные проблемы.
В первой главе книги рассматриваются юные годы Савинкова и обстоятельства его присоединения к революционному движению. Он родился в Харькове в многодетном, образованном и интеллигентном семействе: отец – судебный деятель, мать – писательница, сестра художника Н. А. Ярошенко, шестеро детей. Затем все они переехали в Варшаву, Борис окончил там 1-ю мужскую гимназию, о которой впоследствии вспоминал саркастически и враждебно (с. 63–68). Видимо, учёба немало способствовала возникновению у него оппозиционных настроений. В 1897–1899 гг. полиция задерживала Савинкова за участие в студенческих волнениях, в 1901 г. – за принадлежность к социал-демократической организации «Рабочее знамя». Находясь в 1902–1903 гг. в ссылке в Вологде, Савинков примкнул к Партии социалистов-революционеров (ПСР) и стал сторонником политического террора.
Что привело его на этот путь? Морозов полагает, что главную роль сыграли правительственные репрессии и отсутствие в России политической свободы. 4 марта 1901 г. Борис Викторович и его первая жена В. Г. Успенская (дочь писателя) попали в Петербурге под нагайки казаков, защищая избиваемую курсистку. Подобные случаи и толкали социалистов к радикальным действиям (с. 78, 91). Как писал друг Савинкова террорист Е. С. Созонов, «вся его деятельность носила какой-то странно-личный характер: он боролся как будто потому, что лично его оскорбили, его честь благородного человека» (с. 676). В составе Боевой организации (БО) ПСР Савинков занимал левые, полуанархистские позиции и утверждал, что парламентаризм не может улучшить положение трудящихся и необходимы прямые (видимо, вооружённые) действия против власти и буржуазии. Впрочем, в 1905 г. он придерживался уже более умеренных убеждений, соответствовавших программным установкам ПСР (с. 95–96).
Личная жизнь Савинкова первоначально складывалась удачно: женившись в 20 лет, он растил сына и дочь. Но появилась БО, и с 1903 г. супруги проживали раздельно, связь между ними постепенно ослабла. В 1906 г. Савинков увлёкся Е. И. Зильберберг, и в начале 1908 г. его брак с Успенской распался. В 1920 г. он расстался и с Зильберберг, родившей ему в 1912 г. сына. Последней его «сердечной подругой» стала Л. Е. Дикгоф-Деренталь (с. 103–115).
Во второй главе прослеживается участие Савинкова в делах БО, куда он изначально стремился и попал благодаря М. Р. Гоцу. Между ними установились доверительные товарищеские отношения. Именно Гоц назвал Савинкова «надломленной скрипкой Страдивариуса» (с. 131–133). С Азефом у Савинкова, напротив, всё складывалось не так просто. Первоначально они не находили общего языка. Но впоследствии Азеф своим показным вниманием и заботливостью о боевиках завоевал его расположение. При этом, интригуя, он умело ссорил Савинкова и членов ЦК ПСР (с. 148–151).
Многие члены БО (Е. С. Созонов, И. П. Каляев, М. А. Беневская, М. А. Прокофьева) стали близкими друзьями Савинкова, к остальным он относился с уважением и симпатией, и те отвечали ему взаимностью. В минуты отдыха Савинков оставался «просто товарищем в товарищеском кругу», «делался обаятельным» (с. 136–142). После гибели Каляева впечатлительный террорист не спал четыре ночи подряд1.
Морозов подробно описал деятельность БО в 1909–1911 гг., когда после разоблачения Азефа ею руководил Савинков, организовавший в Париже при помощи знаменитого борца с провокаторами В. Л. Бурцева и перешедшего на сторону ПСР филёра Э. Р. Лейта «революционную» контрразведку. Ей удалось раскрыть связь с полицией Т. М. Цейтлин, которая пыталась проникнуть в БО. Однако Савинков настоял на том, что поскольку из-за неё никто не погиб, то и «не нужно смерти» (с. 196). Цейтлин отпустили в Россию, где она вышла замуж за полицейского чиновника И. В. Доброскока. В 1917 г. обоих арестовали. Морозов предполагает, что при большевиках их расстреляли (с. 197). Однако если судьба Цейтлин неизвестна, то Доброскок эмигрировал и в 1947 г. умер в Швейцарии, где служил пономарём2.
Весьма показательно дело эсера А. А. Петрова, который, будучи арестован в январе 1909 г. в Саратове, дал местной охранке откровенные показания и согласился стать секретным сотрудником. Полиция устроила ему побег, но, оказавшись за границей, Петров сообщил обо всём Бурцеву. Савинков и другие эсеры решили дать Петрову возможность искупить вину, ликвидировав одного из высокопоставленных полицейских чиновников. Речь поначалу шла о бывшем начальнике Петербургского охранного отделения А. В. Герасимове, но 8 декабря Петров при помощи БО взорвал в Петербурге его преемника С. Г. Карпова. Арестованного в тот же день убийцу 13 января 1910 г. повесили (с. 201–203). Детально рассмотрев данный эпизод, Морозов пишет, что Савинков и его товарищи, помогая Петрову, нарушили моральные и партийные нормы (с. 204–213). Но этот вывод кажется спорным, поскольку они опирались на прецедент из истории «Народной воли», в 1883 г. в схожей ситуации предложившей подобный вариант С. П. Дегаеву.
Тем не менее и в «савинковской» БО оказался сотрудник полиции И. П. Кирюхин. В марте 1910 г., когда бóльшая часть боевиков находилась в Петербурге и выслеживала передвижения Николая II, П. А. Столыпина и вел. кн. Николая Николаевича, Савинков заподозрил наличие среди них осведомителя. Сперва подозрение пало на другого члена БО, но в октябре 1910 г. благодаря болтливости Кирюхина и бдительности Н. С. Климовой агента разоблачили (с. 213–228).
Савинкова жёстко критиковали за неудачи, хотя, по мнению Морозова, он делал всё, что мог. Сказывалось отсутствие финансовой поддержки, осуждение террора в образованном обществе, не забывшем про историю Азефа, раздуваемые недоброжелателями сплетни о Савинкове, невыгодный для боевиков резонанс дела Петрова (с. 235–241).
Тем временем Судебно-следственная комиссия (ССК) при ЦК ПСР по делу Азефа, созданная в 1909 г., составила к осени 1910 г. первый вариант своего заключения, возложив вину за роль провокаторов в ПСР прежде всего на БО. Савинков тогда же дал показания ССК, защищая боевиков и напоминая об ответственности ЦК ПСР. Однако в окончательном заключении ССК, опубликованном в марте 1911 г., резкая критика БО сохранилась. Савинков готовил коллективный протест, но отказался от этого замысла из-за несогласия некоторых членов БО его поддержать. Своё возмущение он выразил в письмах к другу – эсеру И. И. Фондаминскому, близкому к руководству ПСР. Порвав отношения со многими лидерами партии, Борис Викторович заявлял: «Они для меня никто» (с. 265–271).
В пятой главе Морозов проанализировал морально-этические поиски Савинкова, уделив особое внимание его знакомству и общению с Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус и Д. В. Философовым, которые стремились соединить христианство и революцию и даже создать при ПСР своеобразную религиозно-революционную организацию. Их смутные идеи вызывали у Савинкова интерес и симпатию (с. 289–298). 3 июля 1907 г. он писал В. Н. Фигнер о своём неприятии «духа позитивизма и рационализма», которым питалось «всё наше поколение», и признавался: «В моих “ересях” я вижу попытку, быть может, слабую, – всё равно, – революции духа, борьбы с той стороной человеческого “я”, которая… во всех, даже самых свободных людях несвободна и глубоко консервативна» (с. 738). Морозов констатирует, что Савинков так и не стал верующим. Но всё же «попытка преодолеть моральные парадоксы революционного насилия обращением к ценностям христианства выдвигает его в первый ряд среди революционеров своего времени» и «ценна сама по себе» (с. 304–305).
Моральным парадоксам были посвящены литературные произведения Савинкова – повесть «Конь бледный» (1909) и роман «То, чего не было» (1912–1913). В них изображались разные революционные типажи, включая и тех, кто полагал, что ради революции «всё позволено», и других, близких автору, для кого применение насилия становилось мучительной и нерешаемой проблемой (с. 315–318). Так, по словам одного из персонажей, даже «кровью своей не оправдан убийца, что если дóлжно и можно убить, то нельзя и не надо искать оправданий, ибо горе тому, кто убил» (с. 317). В «Коне бледном» главный герой, глава боевой группы, организовав успешное покушение на генерал-губернатора, убивает затем из сугубо личных соображений офицера, мужа своей возлюбленной, после чего ему становится скучно жить, поскольку своим поступком он обесценил не только чужую, но и собственную жизнь (с. 322). И в повести, и ещё больше в романе обличались «члены Комитета», не понимающие трагедию насилия и безуспешно пытающиеся руководить массами. Многие эсеры, даже среднего звена, восприняли всё это как пасквиль на ПСР и революционное движение в целом (с. 324–335, 358–359, 715). Действительно, какие-то образы в художественных произведениях могли казаться неправдоподобными и шаржированными. Однако их автор по-прежнему сохранял верность делу революции и чтил память погибших за её идеалы.
Морозов убедительно показал, что, несмотря на влияние декадентства, Савинков был абсолютно искренен в своей рефлексии. Доказательством тому служат его письма к близким людям (Успенской, Прокофьевой), в которых не было места какому-либо фразёрству или позёрству (с. 344–349). Доказывает это и его дневниковая запись, сделанная 25 апреля 1925 г. Вспоминая про убийство Плеве и вел. кн. Сергея Александровича, он отмечал: «Никто и никогда не поймёт, что пережил я 15 июля 1904 и 4 февраля 1905 г. … Ивановская (член БО. – Г.К.) в своих воспоминаниях написала: “Точно наводнение прошло по лицу”. Оно и прошло. И не только по лицу»3.
Характеризуя взаимоотношения эсеров и социал-демократов в начале 1910-х гг. (с. 375–378), автор монографии пишет про сближение Савинкова с Г. В. Плехановым и издание ими совместно с В. М. Черновым в 1913 г. газеты «Юг» (с. 369, 379–380).
Шестая глава рассказывает о судьбе Савинкова в годы Первой мировой войны. В 1914 г. ПСР, сохраняя внешнее единство, фактически раскололась на интернационалистов и оборонцев, к которым после некоторых колебаний примкнул Савинков, ставший военным корреспондентом петроградских газет на Западном фронте. При этом он не идеализировал войну, видел её ужасы («траншеи, пожары и трупы») и не скрывал, что его корреспонденции сочинялись только для денег. Впрочем, многие из них написаны живо и представляют немалый интерес (с. 386–400).
К 1916 г. у Савинкова возник конфликт с супругами М.О. и М. С. Цетлиными, которые давали деньги в долг его семье (с. 403–405). К тому же М. О. Цетлин являлся племянником Д. В. Высоцкого, главного спонсора ПСР, и сам снабжал партию немалыми суммами4. В письме к Фондаминскому – человеку, близкому к Цетлиным, Савинков заявлял о неприятии мещанства, свойственного будто бы их кругу. «Под мещанством, – пояснял он своё отношение, – я понимаю не только внешне спокойную, построенную не на труде, а на деньгах жизнь. Под мещанством я понимаю душевные стоячие воды: примирённость, сердечный стоячий комфорт, самодовольство и вытекающую из них самоуверенность в обращении с людьми… В вас нет ни душевного волнения, ни душевного мятежа» (с. 405). Сам Борис Викторович не желал мириться с несправедливостью и жестокостью жизни, будучи и в 1911–1916 гг. мятежником, полным волнения и страсти.
В 1917 г., сблизившись с А. Ф. Керенским, Савинков сделал военную карьеру, став комиссаром 7-й армии Юго-Западного фронта, а затем управляющим Военным министерством. Проявив храбрость в нескольких боях, он заслужил доверие первоначально не принимавших его офицеров, сблизился с генералом Л. Г. Корниловым и поддержал его программу ужесточения власти в стране, что задело бы не только большевиков, но и советы. Однако Савинков надеялся осуществить её в союзе с Керенским. Как известно, это привело к неудачному выступлению Корнилова против Временного правительства. Савинков, не согласившись с тактикой верховного главнокомандующего, остался верен Керенскому и был назначен им петроградским генерал-губернатором, но вскоре под давлением советов лишился всех постов. Когда же он отказался объяснять свою позицию комиссии при ЦК ПСР, его исключили из партии. Эсеры (и, в частности, Чернов) полагали, что Савинков сыграл роль интригана, спровоцировавшего Корнилова на мятеж. Но сам Борис Викторович утверждал, что действовал честно, расходясь и с Корниловым, и с Керенским, поэтому отставка казалась ему несправедливой. Морозов указывает на то, что корниловский курс, антидемократичный и губительный для страны, привёл в результате к резкому ослаблению власти и армии и к усилению большевиков, а это вовсе не соответствовало планам Савинкова (с. 427–441).
Седьмая глава рассказывает о борьбе Савинкова с большевизмом в октябре 1917 – августе 1924 г. Он вёл её активно и яростно, уже 26–31 октября 1917 г. примкнув к Керенскому и П. Н. Краснову. Весной 1918 г. Савинков выступил создателем и руководителем Союза защиты родины и свободы, организовавшего Ярославское восстание 6–21 июля, после поражения которого стал бойцом в отряде подполковника В. О. Каппеля (с. 445–480). Подробно говорится в этой главе и о возможной причастности Савинкова к покушению Ф. Е. Каплан на В. И. Ульянова (Ленина) и убийству М. С. Урицкого (с. 481–587).
В октябре 1918 г. после создания Временного Всероссийского правительства (Уфимской директории) Савинков отправился с дипломатической миссией в Париж. Признав власть свергнувшего Директорию А. В. Колчака, он вошёл там в состав Русской политической делегации, встречался с влиятельными государственными деятелями западных стран. В 1920–1921 гг., проживая в Варшаве, Савинков участвовал в организации походов войск атамана С. Н. Булак-Балаховича на территорию Белоруссии и создал Народный союз защиты родины и свободы, отстаивавший народовластие, созыв Учредительного собрания, предоставление всем гражданам политических и гражданских прав, передачу всей земли в мелкую частную собственность крестьян (что означало отход от идей ПСР) (с. 600–630).
В октябре 1921 г. Борис Викторович, высланный по требованию РСФСР из Польши, поселился в Париже. Провозгласив себя защитником крестьянства, он отмежевался от Белого движения и иностранной интервенции. Его идейная эволюция продолжилась. В мае 1924 г., разочаровавшись в демократии, он в одном из писем восхвалял итальянский фашизм и резко нападал на парламентаризм. Фашизм рассматривался им как народный режим, опирающийся на крестьянство (с. 731–732). А в конце августа 1924 г., после того как его в ходе спецоперации ОГПУ заманили в Россию и арестовали, Савинков искренне признал благом большевистский режим. К тому времени у него возникло ощущение (отчасти внушённое чекистами), что народ полностью поддерживает коммунистов и считает их власть своей.
Арест, следствие, суд, заключение и гибель Савинкова освещены Морозовым в восьмой главе. Как известно, приговорённый к десяти годам лишения свободы, Савинков 7 мая 1925 г. покончил с собой, выбросившись из окна Внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке. В эмиграции писали, что он мог быть убит (с. 649–657). Однако, изучив сохранившиеся документы, зафиксировавшие обстоятельства смерти Савинкова, Морозов не сомневается в его самоубийстве. К этому шагу его подталкивали обманутые надежды на освобождение и чувство протеста, для которого не оставалось иного выхода. Кроме того, Морозов не исключает, что Савинков успел усомниться в правдивости слов чекистов, а в дальнейшем, как бы ни сложилась его судьба, непременно разочаровался бы в большевиках (с. 659–668). И тогда, скорее всего, всё тоже оборвалось бы самоубийством – пережить обман и вновь бороться Савинков психологически уже не смог бы.
Подводя итоги своего исследования, Морозов безоговорочно утверждает, что Савинков не был безыдейным политическим авантюристом. Напротив, он всегда руководствовался именно идеями, которые со временем менялись. Вместе с тем в революцию и политику его влекли и экзистенциальные переживания, острое ощущение неизбежного конца, попытки найти смысл жизни перед лицом смерти, что отразилось и в прозе, и в стихах, и в дневниковых записях, сделанных Савинковым весной 1925 г. (с. 350–354, 684–686). Знавший его в 1917 г. философ Ф. А. Степун полагал, «что если Савинков был чем-нибудь до конца захвачен в жизни, то лишь постоянным самопогружением в таинственную бездну смерти». Более того, «вся террористическая деятельность Савинкова и вся его кипучая комиссарская работа на фронте были в своей последней, метафизической сущности лишь постановками каких-то лично ему, Савинкову, необходимых опытов смерти». Именно «смертельная опасность не только повышала в нём чувство жизни, но и наполняла его душу особою, жуткою радостью… Не раз бросался Савинков вниз головой в постоянно манившую его бездну смерти, пока не размозжил своего черепа о каменные плиты, выбросившись из окна московской тюрьмы ГПУ» (с. 684).
Польский политик К. Вендзягольский, также близко общавшийся с Савинковым в 1917 г., отмечал, что, будучи революционером, тот в своих литературных произведениях бросал вызов и революции, и самому себе, а превратившись в государственника, утратил всякую парадоксальность. Если «Савинков-убийца искал оправдания у Савинкова-поэта и философа», то «Савинков-патриот и государственник» будто бы «почувствовал долг отдать всего себя родине, дабы воспрепятствовать позорному разрушению государства и содействовать целям, погубленным революцией». Правда, в своих наблюдениях Вендзягольский противоречил сам себе, заявляя, что «дореволюционный и пореволюционный Савинков кажутся мне совершенно различными людьми», однако «это были разные воплощения одной и той же человеческой души» (с. 688–689).
Морозов настаивает на том, что раздвоенность, свойственная Савинкову-революционеру, сохранялась и позже, ярко проявившись в 1923 г. в повести «Конь вороной», наполненной рефлексией относительно сопротивления большевикам (с. 691–694). Вообще же, как писал эсер М. М. Чернавский, в Савинкове «жили два различных человека», ведшие «между собой постоянную борьбу, которая всё обострялась» (с. 691). Это был и революционер, рвавшийся к свободе, и патриот, ставший жёстким государственником, и рефлексирующий интеллигент, сомневавшийся до 1914 г. в праве на убийство, а в 1920-е гг. в правомерности своих действий. Сам Савинков в одном из писем к Успенской назвал себя человеком «изломанным и составленным из мозаичных кусков» (с. 690).
Объективно обозревая идейный и политический путь, пройденный Савинковым, Морозов всё же ошибочно заключает, будто Савинков никогда не был демократом, социалистом и всегда отрицал парламентаризм (с. 734, 751). Судя по материалам, приведённым в книге (с. 93, 96, 626–627), социалистом он являлся вплоть до 1917 г., а демократом и сторонником парламентаризма – с 1905 до конца 1923 г.
Бунт Савинкова против всего косного и догматического в революционной среде Морозов сближает со схожим по сути восстанием Н. А. Бердяева против «тоталитаризма» значительной части левой интеллигенции (с. 736–741). Жизненная траектория и интеллектуальный выбор этих людей в конечном счёте оказались различны, но обоих отличала устремлённость к «эмансипации духа». И, несмотря на признание большевизма в 1924 г., Савинков, по словам Философова, остался в его памяти человеком, «который хотел расширить человеческую свободу и исправить, так или иначе, то, что человек сотворил из человека»5.
Монография К. Н. Морозова – первое масштабное и многоаспектное исследование жизни Б. В. Савинкова, которая всегда будет привлекать внимание историков, да и вообще людей творческих профессий. Для её дальнейшего изучения и понимания данный труд создаёт серьёзную основу.
1 Борис Савинков на Лубянке. Документы. М., 2001. С. 189.
2 Бурцев В. Л. Борьба за свободную Россию. СПб., 2012. С. 402.
3 Борис Савинков на Лубянке… С. 189.
4 Подробнее см.: Савинков Б. В. Воспоминания. М., 1990. С. 306; Кан Г. С. Наталья Климова: жизнь и судьба. СПб., 2012. С. 21–23.
5 Дюррант Д. С. По материалам архива Д. В. Философова // Лица: биографический альманах, 5. М.; СПб., 1994. С. 459.
About the authors
Grigoriy S. Kan
State Archive of the Russian Federation
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
кандидат исторических наук, ведущий специалист
Russian Federation, MoscowReferences
- Борис Савинков на Лубянке. Документы. М., 2001
- Бурцев В.Л. Борьба за свободную Россию. СПб., 2012
- Дюррант Д.С. По материалам архива Д. В. Философова // Лица: биографический альманах, 5. М.; СПб., 1994.
- Кан Г.С. Наталья Климова: жизнь и судьба. СПб., 2012
- Савинков Б. В. Воспоминания. М., 1990
Supplementary files

Note
*Morozov K. N. Boris Savinkov: the experience of scientific biography. Moscow; St. Petersburg: Nestor-istoriya, 2022. 768 p.