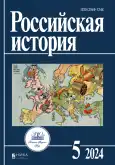After the Victory: the veteran movement in the post-war USSR in the reflection of social and political history
- Authors: Popov A.D.1, Sak K.V.2,1
-
Affiliations:
- V. I. Vernadsky Crimean Federal University
- Institute of World History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 231-237
- Section: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/274880
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24050194
- EDN: https://elibrary.ru/SJMSIY
- ID: 274880
Cite item
Full Text
Abstract
The article describes the monograph by the Australian historian of German origin Mark Edele, “Soviet veterans of the Second World War. A popular movement in an authoritarian society, 1941–1991” (2008; 2023), translated into Russian, which is the first comprehensive study of the history of the veterans’ movement in the USSR in the post-war period.
Keywords
Full Text
В 1990-х гг. за рубежом в рамках новой социальной истории начало формироваться интересное тематическое направление – история ветеранов (veteran’s history). Увидели свет несколько монографий и сборников, авторы которых исходят из широкой трактовки понятия «ветеран», применяя его ко всем участникам вооружённых конфликтов и стремясь проанализировать их возвращение к мирной жизни в разных странах, новый социальный статус, групповую идентичность, политическую активность1. В 2008 г. в издательстве Оксфордского университета вышла книга австралийского историка немецкого происхождения Марка Эделе о ветеранах Великой Отечественной войны и их роли в послевоенном обществе2. До сих пор она остаётся самой содержательной работой на данную тему. Отдельные попытки охарактеризовать социальный статус бывших участников войны3, а также деятельность их самой массовой организации – Советского комитета ветеранов войны (СКВВ)4 – предпринимались и российскими исследователями. Однако основная масса отечественных публикаций с ключевыми словами «ветеран» и «ветеранское движение» либо представляет собой биографии отдельных лиц, либо посвящена деятельности соответствующих организаций конкретных учреждений, предприятий, учебных заведений. В 2023 г. монография Эделе издана в переводе на русский язык под несколько политизированным названием: «Советские ветераны Второй мировой войны: народное движение в авторитарном государстве, 1941–1991». Благодаря этому российские читатели получили возможность ознакомиться с собранным автором богатым фактографическим материалом, а также его выводами и обобщениями, не все из которых являются бесспорными.
Рецензируемая книга – результат многолетней работы. Основой для неё стал внушительный массив документов федеральных (ГА РФ, РГАНИ, РГАСПИ, РГАЭ) и региональных (Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород) архивов. Кроме того, активно использовались опубликованные источники, мемуары, материалы советской прессы, образы из литературы и кинематографа. Для обозначения социальной общности бывших участников войны Эделе предложил термин «сообщество заслуживающих», последовательно проводя мысль о том, что определяющей идеей групповой идентичности ветеранов являлось ожидание признания их заслуг перед государством и обществом. По наблюдению историка, в источниках постоянно использовались слова «заслужить», «заслужил(и)», «заслуживает», а носителями морального долга перед ветеранами назывались «советская власть», «государство», «Родина», «народ» (с. 374–379).
Логика размещения материала в монографии не вполне прозрачна. Сам автор лишь уточняет, что «первые две части посвящены внутригрупповой дифференциации, а последняя – оформлению [ветеранов как] целостной группы» (с. 46). Фактически часть I «Реинтеграция» построена по хронологическому принципу: подробно описываются возвращение бывших военнослужащих к мирной жизни и процесс их первоначальной адаптации, включая вопросы обеспечения жильём, трудоустройства, предоставления других мер социальной поддержки. На отдельных примерах рассказывается, как демобилизованные, в том числе вернувшиеся с фронта женщины, делали карьеру, обзаводились семьями и т. п. (с. 155–160).
Содержание первой части наиболее фактографично, насыщено социально-демографической статистикой и во многом перекликается с публикациями Е. Ю. Зубковой о демобилизованных фронтовиках как «новом социуме», проходившем сложный процесс адаптации5. В тяжёлых условиях послевоенного восстановления, когда «в расчёте на одну ветеранскую душу выделенных денег и товаров решительно не хватало» (с. 98), выяснилось, что бюрократическая система плохо справляется с «вписыванием» участников войны в мирную жизнь. Государственная политика предполагала максимально быстрое возвращение демобилизованных к гражданским занятиям и профессиям, не давая им возможности «почивать на лаврах» и права «требовать какого-то воздаяния за былую военную службу» (с. 38, 82, 88). В 1947 г. по экономическим соображениям даже упразднили введённые в военное время выплаты за боевые награды. В этих условиях часть бывших участников войны, сталкиваясь с многочисленными жилищно-бытовыми и иными проблемами, равнодушием, волюнтаризмом и проч., апеллировала к представителям власти в индивидуальном порядке – посредством жалоб, «писем во власть», посещения партийно-советских руководителей в качестве просителей (с. 92). Автор видит в этом проявление формирующейся, но пока ещё непубличной субъектности. Кроме того, в условиях дефицита внимания со стороны государства бывшим фронтовикам приходилось создавать неформальные социальные сети, построенные не только на идеях боевого товарищества, но и вполне прагматических «теневых» схемах (с. 121–128). Именно такая низовая активность, по мнению Эделе, стала одним из условий формирования и последующего официального признания ветеранского движения.
Часть II «Победители и жертвы» охватывает 1953–1991 гг. и рассматривает различные категории участников войны, их участие в общественной жизни. Так, глава 4 «“Отличная профессия”» фокусируется на инвалидах Великой Отечественной, а глава 5 «Пожизненно “меченные”» – на судьбе бывших военнопленных. Эделе утверждает, что инвалидам, которые составляли от 10 до 19% вернувшихся с фронта, государство гарантировало лишь минимальный уровень материального обеспечения, к тому же зависевший от присвоенной группы инвалидности, которую необходимо было регулярно подтверждать. Таким образом, формировалась «иерархия нищеты» (с. 162–167). Несмотря на это, некоторые инвалиды достигали заметных успехов в карьере. С другой стороны, многие представители этой категории прибегали к различным способам получения нетрудовых доходов, включая нищенство и спекуляцию (с. 183–188). По мнению автора, именно инвалиды, раньше других фронтовиков получившие юридически оформленный статус, оказались одновременно и «одной из наименее контролируемых государством групп населения» (с. 185), и самой разобщённой группой участников войны (с. 202).
Ещё более проблемной категорией с политико-идеологической и моральной точки зрения являлись советские граждане, побывавшие в плену. По подсчётам автора, их оказалось около 2,8 млн человек, т. е. до 14% от общего числа бывших военнослужащих. По окончании войны они подверглись стигматизации (с. 226): не только вынуждены были пройти фильтрационные мероприятия спецслужб, но и могли в дальнейшем стать жертвами политических репрессий. В середине 1950-х гг., впрочем, началась не только юридическая, но и символическая реабилитация пребывания в плену, в том числе путём его героизации (например, через описание участия советских военнопленных в сопротивлении нацистам в концлагерях на территории Европы). Но процесс остался не завершён, и даже в период перестройки истинные масштабы пленения советских военнослужащих в начальный период войны и морально-этическая оценка факта сдачи в плен вызывали острые публичные дискуссии (с. 248–249).
Завершается часть II главой 6 «Слава победителям!», где автор на различных примерах рассматривает значение участия в войне для основной массы фронтовиков, не ставших инвалидами и не попавших в плен. Показывается несостоятельность двух крайних точек зрения. Согласно одной из них, статус ветерана однозначно облегчал карьеру в послевоенном обществе, в соответствии с другой – ветераны оказались не столько победителями, сколько «жертвами войны, политических репрессий, экономических неурядиц», отодвинутыми на обочину представителями советской системы (с. 254)6. В действительности же карьерная траектория бывших бойцов определялась жизненными обстоятельствами, личными качествами, социальными связями, а в значительной степени также особенностями конкретных исторических периодов. В послевоенные годы фронтовики могли воспользоваться лишь немногими официальными льготами, например, упрощенным поступлением в вузы (с. 262–263). Наличие боевых наград и даже членство в партии как таковые не гарантировали преференций, однако могли способствовать карьерному росту.
В этой же главе Эделе останавливается на положении фронтовичек, составлявших от 2 до 4% всех ветеранов. Отношение общества к ним он оценивает как «странную смесь почтения и недоброжелательства» (с. 282), объясняя это влиянием гендерных стереотипов и других морально-психологических факторов. Женщинам, в 1941–1945 гг. выполнявшим некоторые традиционно «мужские» роли (например, лётчицам), редко предоставлялась возможность продолжить военную службу в «нормальных», мирных условиях (с. 288).
Достаточно сложная и противоречивая история представительства ветеранов в различных структурах, включая создание и деятельность СКВВ, рассмотрена в части III «Советское ветеранское движение». Первоначально органы власти не поддерживали создание таких организаций по идеологическим, политическим и экономическим соображениям (с. 299). Впрочем, и в межвоенный период не сформировалось общественных объединений участников Первой мировой и Гражданской войн, хотя за рубежом аналогичный процесс шёл активно (с. 298). Лишь в 1956 г. руководство страны санкционировало создание СКВВ, который первоначально планировалось использовать почти исключительно как инструмент культурной дипломатии – для обеспечения участия СССР в деятельности международных ветеранских организаций (с. 37).
Однако вскоре обозначилось стремление рядовых ветеранов, комиссий и даже руководства комитета решать прежде всего проблемы социального и мемориального характера в самом СССР (с. 309–323)7. Кроме того, первоначально предполагалось, что это будет единственная ветеранская организация в стране. Но практически сразу объединения ветеранов начали появляться на предприятиях, при местных комитетах партии, военкоматах, домах офицеров или политпросвещения, краеведческих музеях. Причём их участники не всегда признавали монополию СКВВ (с. 329–330).
Символический статус бывших участников войны как «сообщества заслуживавших» значительно возрос в 1965 г. Это выразилось, в первую очередь, в возвращении Дню Победы статуса нерабочего, проведении 9 мая военного парада на Красной площади, а также массовом награждении медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (с. 34–35, 368)8. На этом фоне была одобрена возможность создания региональных секций СКВВ (март 1965 г.), после чего ряды организации начали расти, и к началу 1980-х гг. она объединяла более 1 млн человек9. При этом, впрочем, «заметная доля ветеранской активности оставалась вне контроля со стороны СКВВ» (с. 334–335).
При обсуждении проекта новой Конституции СССР 1977 г. высказывались предложения о дальнейшем повышении статуса ветеранов, в том числе путём улучшения их социального положения (с. 383–384). Возможно, этим объясняется принятие 10 ноября 1978 г. совместного постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны». Впервые в послевоенный период вводился конкретный и достаточно содержательный перечень льгот для данной категории населения (с. 37, 366, 387).
Эделе отмечает ещё одну важную тенденцию – постепенное расширение круга тех, кого признавали ветеранами на фоне неуклонной демографической убыли участников войны, вследствие чего эта социальная группа всё больше «размывалась», превращаясь в поколенческую (с. 352, 391). Произошло если не «смыкание», то, во всяком случае, сближение понятий «ветеран» и «пенсионер» (с. 49). Но автор полагает, что вследствие этого усилилось напряжение в их отношениях с молодёжью 1970–1980-х гг., которую на фоне нарастания кризисных явлений в экономике могли раздражать ветеранские льготы, прежде всего продовольственные пайки и право без очереди приобретать дефицитные товары. В годы перестройки эта тема действительно становилась предметом публичного обсуждения (с. 396–400).
По мнению Эделе, к середине 1980-х гг. ветераны окончательно закрепили свой привилегированный статус, превратившись в «институциональную опору политической системы» (с. 342). Одним из проявлений этого явилось создание в 1986 г. альтернативной СКВВ Всесоюзной организации ветеранов войны и труда. Она имела более разветвлённую территориально-производственную структуру, а вскоре оказалась вовлечена в политическую деятельность, получив возможность делегировать 75 представителей на Съезд народных депутатов СССР (с. 343–346).
В заключении автор, видимо, стремясь подтвердить заявленный в названии книги тезис о ветеранском движении как «народном», констатирует, что его активность в тоталитарном, а затем авторитарном Советском Союзе «постоянно выплёскивалась за рамки дозволенного» (с. 412).
Таким образом, в монографии поднимаются важные вопросы социальной и политической роли ветеранов и ветеранских объединений в послевоенном советском обществе. В то же время не всем сторонам их деятельности уделено равное внимание. Так, по сути, за рамками исследования остались мемориальные усилия бывших фронтовиков. Используя для послевоенной политики памяти о войне претенциозные характеристики «религия войны», «квазиметафизическая система памяти», «спонсируемый и продвигаемый государством культ» (с. 34), Эделе не описал ни одного случая активности ветеранов в вопросах сооружения мемориальных объектов, пополнения календаря памятных дат, награждения орденами и медалями живых и погибших героев войны, т. е. проигнорировал сферу коллективной памяти (memory studies). Не рассматривается и активное участие ветеранов в воспитательно-патриотической работе и поисковом движении, военно-прикладной подготовке молодёжи, многочисленных ритуально-символических практиках позднесоветского периода: парадах, гражданских обрядах у памятников, «уроках мужества», «вахтах памяти», мемориальных постах № 1 и проч. Автор лишь констатирует, что ветераны и ветеранские организации оказались частью политической системы, а «ритуалы и дискурсы культа войны символически укореняли ветеранов в советском обществе в целом» (с. 351).
Отсутствие ответов на вопросы о мотивах, формах и последствиях этого «укоренения», возможно, связано со спецификой использованных источников. Многие сюжеты книги относятся к микроисторическим и реконструированы преимущественно на основе официальных отчётов, «писем во власть» и публикаций в СМИ. В результате в поле зрения автора – либо позитивный, либо негативный опыт, связанный с самыми общественно активными и известными представителями ветеранского движения или же, наоборот, с жертвами наиболее вопиющих случаев ущемления прав ветеранов. Для более полной картины следовало бы использовать материалы интервью с бывшими участниками войны об их жизни в послевоенный период, а также информацию, полученную в ходе достаточно массовых анкетирований, проводившихся в позднесоветский период военкоматами, музейными учреждениями, самими ветеранскими организациями. Отсутствие этих материалов мешает всесторонне изучить повседневность, реконструировать жизненные ценности и модели поведения основной части ветеранов, которые в 1960–1980-х гг. оставались вне круга активистов или «жалобщиков», а в работу «своих» организаций вовлекались эпизодически, формально или вообще по тем или иным причинам дистанцировались от них.
Эделе уделил преимущественное внимание деятельности СКВВ, основная документация которого сконцентрирована в отдельном фонде ГА РФ (ф. Р-9541). В меньшей степени изучено влияние на жизнь и деятельность ветеранов военкоматов и других структур Министерства обороны СССР (фонды ЦАМО РФ автором не использовались; Эделе косвенно объяснил это ограниченностью доступа к советским военным архивам (с. 309)), местных партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, Всесоюзного общества «Знание».
Рассматривая книгу как часть направления veteran’s history, логично ожидать от автора сравнений с историей ветеранского движения в других странах мира. Однако такие попытки немногочисленны. Интересно утверждение, что если ветераны Второй мировой войны в США возвращение к мирной жизни воспринимали как переход из «мира бессмыслицы» в «мир здравомыслия», то для советских военнослужащих, наоборот, после демобилизации начинался болезненный период неопределённости (с. 112). Это явное упрощение. Автор основывает свой вывод на документах, связанных с активностью «искавших правды», которые среди бывших участников войны составляли меньшинство. Следует отметить, что и не участвовавшие в войне граждане СССР также сталкивались с колоссальными трудностями в быту и на производстве. Непонятно, учтены ли при этом жертвы и разрушения, понесённые «хромым монстром» СССР (с. 115), тогда как США фактически избежали военных действий на своей территории.
Признавая большое историографическое значение книги Эделе как первой попытки комплексного исследования истории ветеранского движения в СССР, надеемся на появление новых публикаций, авторы которых с опорой на более широкий круг источников и с постановкой более разнообразного круга исследовательских вопросов (включая мемориальную проблематику) смогут всесторонне охарактеризовать роль, которую играли ветераны Великой Отечественной войны в жизни послевоенного советского общества.
1 См., например: Gambone M. D. The greatest generation comes home. The veteran in American society. Texas, 2005; War veterans and the world after 1945: Cold War politics, decolonization, memory / Ed. by Á. Alcalde, X. M. Núñez Seixas. L., 2018; Crotty M., Diamant N. J., Edele M. The politics of veteran benefits in the Twentieth century. A comparative history. Ithaca (N.Y.), 2020.
2 Edele M. Soviet veterans of the Second World War. A popular movement in an authoritarian society, 1941–1991. Oxford, 2008.
3 Черторицкая Т. В. Дорогие мои ветераны: из истории разработки и принятия законодательства о ветеранах. СПб., 1995; Буреева Е. В. Оформление статуса «Ветеран Великой Отечественной войны» в советском законодательстве // Гуманитарные науки в XXI веке. 2019. № 12. С. 21–29; и др.
4 Отечеству верны / Авт.-сост. А. В. Никаноров. М., 2006; Попов А. Д., Сак К. В. Глобальный мир и фронтовые раны: создание Советского комитета ветеранов войны и противоречия политики памяти в СССР 1950-х годов // Вестник Пермского университета. История. 2023. № 4. С. 108–121.
5 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М., 2000. С. 28–36.
6 Данная точка зрения, противопоставляющая рядовых фронтовиков и коммунистическую систему, наиболее чётко артикулирована в интервью с историком Г. А. Бордюговым (Украденная победа // Комсомольская правда. 1990. 5 мая).
7 См. также: Попов А. Д., Сак К. В. Глобальный мир и фронтовые раны…
8 Попов А.Д., Пивоваров Н. Ю., Сак К. В. Ритмы прошлого: первые годовщины Великой Отечественной войны в советской политике памяти 1945–1965 гг. // Российская история. 2023. № 3. С. 109–114.
9 Видимо, это количество отражает примерную численность ветеранов, вовлечённых в деятельность коллективных членов СКВВ, так как его устав не предусматривал индивидуального членства.
About the authors
Alexey D. Popov
V. I. Vernadsky Crimean Federal University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
кандидат исторических наук, доцент
Russian Federation, SimferopolKsenia V. Sak
Institute of World History, Russian Academy of Sciences; V. I. Vernadsky Crimean Federal University
Email: otech_ist@mail.ru
кандидат исторических наук, научный сотрудник, старший научный сотрудник
Russian Federation, Moscow; SimferopolReferences
- Эделе М. Советские ветераны Второй мировой войны: народное движение в авторитарном государстве, 1941–1991 / Авториз. пер. с англ. Е. Иванушкиной. М.: Новое литературное обозрение, 2023. 480 с.
- Gambone M.D. The greatest generation comes home. The veteran in American society. Texas, 2005.
- War veterans and the world after 1945: Cold War politics, decolonization, memory / Ed. by Á. Alcalde, X.M. Núñez Seixas. L., 2018.
- Crotty M., Diamant N.J., Edele M. The politics of veteran benefits in the Twentieth century. A comparative history. Ithaca (N.Y.), 2020.
- Edele M. Soviet veterans of the Second World War. A popular movement in an authoritarian society, 1941–1991. Oxford, 2008.
- Черторицкая Т.В. Дорогие мои ветераны: из истории разработки и принятия законодательства о ветеранах. СПб., 1995.
- Буреева Е.В. Оформление статуса «Ветеран Великой Отечественной войны» в советском законодательстве // Гуманитарные науки в XXI веке. 2019. № 12. С. 21–29.
- Отечеству верны / Авт.-сост. А.В. Никаноров. М., 2006.
- Попов А.Д., Сак К.В. Глобальный мир и фронтовые раны: создание Советского комитета ветеранов войны и противоречия политики памяти в СССР 1950-х годов // Вестник Пермского университета. История. 2023. № 4. С. 108–121.
- Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М., 2000. С. 28–36.
- Попов А.Д., Сак К.В. Глобальный мир и фронтовые раны…
- Попов А.Д., Пивоваров Н.Ю., Сак К.В. Ритмы прошлого: первые годовщины Великой Отечественной войны в советской политике памяти 1945–1965 гг. // Российская история. 2023. № 3. С. 109–114.
Supplementary files

Note
*Edele M. Soviet veterans of the Second World War: the people's movement in an authoritarian state, 1941-1991 / Author. translated from English by E. Ivanushkina. Moscow: New Literary Review, 2023. 480 p.