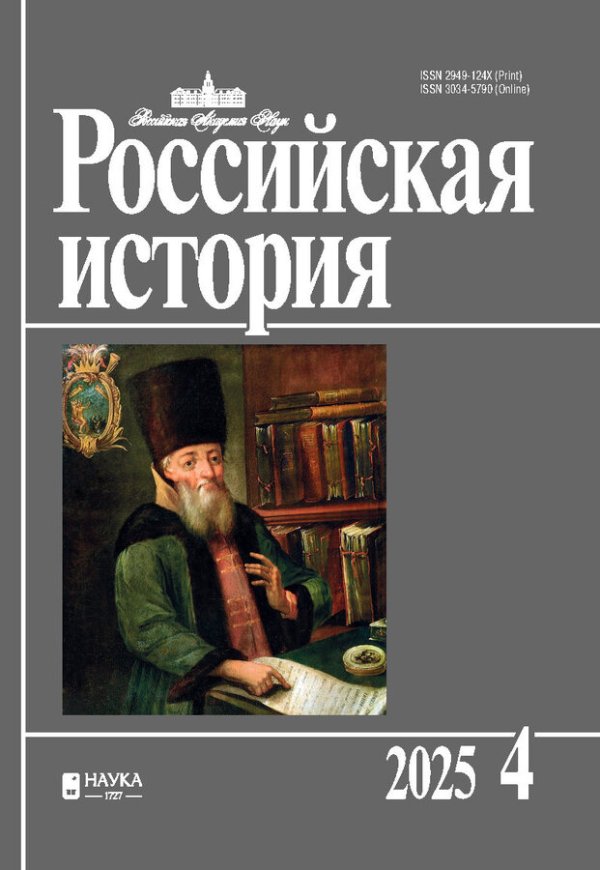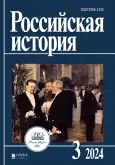Liberals and the «historical state power» at the dawn of the great upheavals
- Authors: Almazov M.G.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 57-68
- Section: Dialogue about the book
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/264335
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030071
- EDN: https://elibrary.ru/GDNHVR
- ID: 264335
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the analysis of the first scientific edition of V.A. Maklakov's memoirs. The author examines the problems of the relationship between the autocracy and the social movement in the Russian Empire at the beginning of the twentieth century.
Full Text
Научное издание главного произведения В. А. Маклакова «Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника», сочетающего черты мемуаров, публицистического произведения и исторического исследования и никогда не публиковавшегося на Родине автора, – значительное событие в отечественной историографии. Текст книги удачно дополнен вступительной статьёй и пространными комментариями С. В. Куликова – авторитетного исследователя политической истории России конца XIX – начала XX в., справедливо отметившего, что идеи, высказанные Маклаковым почти сто лет назад, оказали существенное влияние на концепции российских и зарубежных учёных (с. 29–30).
Мемуарист охарактеризовал взаимодействие самодержавия и политически активных слоёв российского общества с 1880-х до 1906 г., уделив особое внимание событиям, происходившим с конца 1904 по апрель 1906 г. По его мнению, после Великих реформ 1860–1870-х гг. самодержавию следовало «дать развиться созданным им учреждениям, укорениться новыми идеями, – и затем разделить свою власть с выросшим и подготовленным обществом» (с. 47). Однако поступательное движение страны в данном направлении сорвала «реакционная» политика Александра III и Николая II, не воспользовавшегося в начале царствования возможностью начать диалог с представителями лояльной общественности (с. 46–50, 135–136). Это привело к радикализации настроений интеллигенции, создавшей деструктивный «Союз освобождения», который подчинил себе «старых» земских либералов (с. 140).
Сквозь призму этой борьбы Маклаков рассматривал процессы, разворачивавшиеся в деревне, на фабриках и в университетах, на национальных окраинах и в террористическом подполье. Корень «аграрных беспорядков» виделся ему в гражданской неравноправности крестьян и в их «обособленности» от других сословий, искусственно укреплявшейся властью (с. 184–202). «Студенческие забастовки» он объяснял попустительством и даже подстрекательством со стороны «либеральных» профессоров и «Союза освобождения» (с. 170–176), заводские стачки – вмешательством государства во взаимоотношения рабочих и предпринимателей, создавшим в 1890-е гг. благоприятную почву для пропаганды социал-демократов (с. 178–184), всплеск террора – сочувствием либеральной общественности (с. 168–170), рост национальных сепаратистских движений – угнетением народностей и поддержкой со стороны «Союза освобождения» и революционных партий (с. 204). При этом радикально-либеральное «освободительное движение», по мнению Маклакова, вместо борьбы с социал-демократией за симпатии рабочих потворствовало «друзьям слева», дабы не раскалывать «главный фронт», выступавший против самодержавия (с. 181), а также требовало не столько расширения гражданских прав крестьян, сколько предоставления им «прирезки» за счёт помещичьей земли, чтобы вовлечь их в политическую борьбу (тогда как преобладание мелких крестьянских хозяйств вело к регрессу сельского хозяйства, поскольку крупные имения отличались большей производительностью) (с. 192–202).
События 1904–1906 гг. Маклаков не признавал революцией, так как они не сопровождались насильственным переворотом, «когда народные массы сбрасывают прежнюю власть, когда возникает новая власть, с прежней не связанная». Но после Манифеста 17 октября 1905 г. «была великая реформа, совершённая законной властью, была октроированная конституция, о которой издавна мечтал либерализм» (с. 348). Предшествовавшие этому обстоятельства («банкетная кампания», рескрипт Николая II министру внутренних дел А. Г. Булыгину 18 февраля 1905 г. и др.) описывались довольно неопределённо, как образование «оппозиционного фронта», «агония самодержавия» и т. п. (с. 305, 320), а обстановка конца 1905 г. характеризовалась как «революционная ситуация» (с. 351). Тем самым всё сводилось к политическому кризису, порождённому противоречиями между «исторической властью» и либеральной общественностью, от позиции которой во многом и зависел исход конфликта. Как бы то ни было, это заставляет несколько скорректировать устоявшееся мнение о том, что «для современников событий… факт начавшейся в ней революции не подлежал сомнению» 1.
Маклакову казалось, что «русский либерализм» имел шанс заключить с правительством союз и в перспективе получить от него власть, но ошибочно предпочёл занять положение радикальной оппозиции (с. 220). Вместе с тем политик признавал, что «одно освободительное движение не смогло бы сломить самодержавия, если бы рядом с ним не шла антигосударственная стихия, Ахеронт, и если бы освободительное движение не пошло с ним заодно. Этот новый шаг закончил “блокаду” и “самодержавие” изолировал; он дал победу движению. Но этот шаг оказался роковым для дальнейшего: он создал либерализм совершенно нового типа, который после победы управлять государством не мог». Поэтому и после Манифеста 17 октября 1905 г. «представители побеждённого старого режима стали опять необходимы для порядка в России» (с. 164–165). К сожалению, в комментариях публикатор далеко не всегда поясняет, насколько адекватно подобные авторские представления отражали историческую реальность.
Безусловно, у Маклакова легко найти немало тонких наблюдений, касавшихся психологии либералов и политического развития России в начале XX в. Например, о создании либеральным сообществом, недовольным «произволом» власти, «питательной среды» для революционного терроризма. Сразу вспоминается, как известная «освобожденка», а впоследствии – один из лидеров Конституционно-демократической партии А. В. Тыркова передавала в дневнике ощущения своего окружения после гибели В. К. Плеве: «И потом непосредственное чувство радости. Убит. Нет его, чиновника-деспота, топтавшего и давившего всё живое и желающее жить» 2.
Однако зачастую построения мемуариста страдали схематизмом. Вслед за либеральной публицистикой он чересчур противопоставлял «освобожденческую интеллигенцию» и «земство». Но кем – «интеллигентами» или «земцами» – были никогда не имевший тяги к сельскому хозяйству председатель Московской губернской земской управы Ф. А. Головин, приват-доцент Московского университета и гласный саратовского земства С. А. Котляревский или радикальный политик кн. Д. И. Шаховской? Все они по своему мировоззрению и связям в равной мере принадлежали и к земству, и к интеллигенции 3.
Размышляя об аграрной политике, Маклаков практически не учитывал различия в обеспеченности землёй бывших владельческих, государственных и удельных крестьян, в доходности сельского хозяйства в разных регионах страны, неразмежёванность помещичьих и общинных земель, наконец, связь землепользования и обычного права с природно-климатическими условиями 4. В то же время он сильно преувеличивал действенность принятых при Александре III законов, направленных на ограничение семейных разделов, запрещение досрочного выкупа наделов, подчинение мира контролю земских начальников и проч. Между тем эти меры скорее носили декларативный характер, нежели серьёзно влияли на положение деревни 5. Похоже, мемуарист, ратовавший за развитие пролетарского самоуправления, имел довольно смутные представления и о масштабах забастовочного движения: накануне революции в стачках принимало участие 5–10% рабочих, и бóльшая их часть боролась за улучшение материального положения и условий труда 6.
Основное внимание Маклаков уделял либеральному (особенно земскому) движению и тактике Конституционно-демократической партии на рубеже 1905–1906 гг. Вспоминая о земских съездах 1904–1905 гг., он утверждал, что под влиянием леволиберальной интеллигенции позиция земцев становилась всё более радикальной, но, несмотря на это, будто бы сохранялась возможность соглашения между ними и «исторической властью». По его словам, в ноябре 1904 г. «на съезд собралось всё, что было лучшего в земстве… Были и председатели управ, и предводители, и просто выборные гласные. Всё были земские люди… Земский съезд громадным большинством высказался за конституцию, но одновременно с этим показал, что революционного переворота не хочет». Маклаков допускал, что при поддержке министра внутренних дел кн. П. Д. Святополк-Мирского «наиболее зрелая часть» земства («меньшинство» съезда) «стала бы самостоятельной политической силой, опирающейся на союз с государственной властью, а не идущей в хвосте революции». Складывалась благостная картина: «Если земцы нашли, наконец, либерального, понимающего их министра внутренних дел, то не менее отрадно было и то, что нашёлся слой русской общественности, который мог понимать положение и сделаться опорою власти» (с. 286–289).
Однако этому явно противоречили пылкие речи делегатов (Ф. И. Родичева, И. И. Петрункевича, Н. А. Карышева, кн. Д. И. Шаховского и др.) о необходимости установления правового строя и конституционного порядка, отнюдь не свидетельствовавшие о готовности ораторов к компромиссу. А в выступлениях кн. Шаховского, Карышева и Петрункевича даже звучала, открыто или завуалированно, мысль о том, что следует передать разработку начал нового государственного строя на рассмотрение «собрания народных представителей» 7, т. е. созвать Учредительное собрание. И Маклаков лукавил, категорически заявляя, будто ничего подобного съезд не требовал и, напротив, «единогласно отверг» столь радикальные предположения (с. 287).
Характерно, что и «меньшинство», которым так восторгался Маклаков, весьма легкомысленно относилось к обсуждению важнейших государственных проблем. Так, А. А. Стахович, видя, что «в настоящее время собрались представители от 33 земских губерний», полагал, будто «такое собрание… вполне компетентно высказаться по вопросам народного образования даже и без специально разработанного доклада». Но тут же Карышев, отказываясь от обсуждения конкретных инициатив, напомнил «о полной невозможности установить какие-либо нормальные отношения с Министерством народного просвещения» 8.
Более того, история подготовки съезда показывает, что его единство, столь ценное для Маклакова, во многом стало результатом дипломатических усилий земцев-освобожденцев, стремившихся использовать данное событие для давления на власть наряду с «банкетной кампанией» 9. Той самой, в которой Василий Алексеевич усматривал помеху «мирной политике Земского съезда» (с. 290). Кроме того, не следует забывать, что делегатов на съезд никто не выбирал, и отношение к нему в широких кругах дворянства и земства было неоднозначным. Как вспоминал гласный Казанского земского собрания Н. А. Мельников, «огромное большинство… находило, что петербургское Совещание не было правомочным, а по существу дела подняло такие вопросы и приняло такие решения, которые во время нелёгкой войны и при общем приподнятом настроении в стране будут на руку только тем, кто ведёт борьбу против всего существующего строя и не желает, чтобы реформы шли сверху» 10. Поэтому попытки Маклакова представить ноябрьский съезд 1904 г. некоей конструктивной альтернативой начинавшейся революции выглядят совсем неубедительно. Досадно, что эти обстоятельства не нашли отражения в комментариях, где приводятся лишь фрагменты мемуаров, газетных статей, стенограмм и резолюций съездов, упомянутых автором «Власти и общественности» (с. 610–619).
При описании «коалиционного» съезда, состоявшегося в мае 1905 г., мемуарист констатировал глубокий раскол в земской среде между радикальными и умеренными элементами – сторонниками соглашения с властью или борьбы с ней (с. 324–326). Судя по стенографическому отчёту, Петрункевич заявлял: «Я – конституционалист, и никаких уступок из нашей партийной программы делать не согласен… Если мы отправим депутацию не по вопросу о войне, она не будет достаточно единомышленна». Левые участники (М. И. Туган-Барановский, кн. В. А. Оболенский, В. Е. Якушкин и др.) желали, чтобы адрес требовал прекращения «диктатуры Трепова» и введения всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права. В то же время Д. Н. Шипов настаивал на том, что сплочение «во имя спасения отечества» возможно лишь «в согласии с властью» 11. При таких разногласиях неудивительно, что текст адреса, написанный профессором кн. С. Н. Трубецким (и приведённый Куликовым в комментариях), возник в результате компромисса и отличался размытостью формулировок. В нём осуждалась задержка в исполнении предписания императора о созыве «народных представителей для совместного с Вами строительства земли», звучал призыв «во утверждение порядка и мира внутреннего» «без замедления созвать народных представителей, избранных для сего равно и без различия всеми подданными Вашими» для решения «вопроса о войне и мире» и установления при участии монарха «обновлённого государственного строя» (с. 637). Но трудно согласиться с Маклаковым в том, что, «по существу, адрес не провоцировал революции, не задавался целью колебать историческую власть; он обещал ей поддержку русского земства, т. е. выражал идеологию земского меньшинства» (с. 327). Ведь и сам кн. С. Н. Трубецкой признавался: «Если бы я мог сказать то, что мне хотелось бы, я бы просто сказал: “Поросёнок, давай нам конституцию”» 12.
Приём 6 июня земской делегации императором, по мнению мемуариста, свидетельствовал о конструктивном «настроении даже левого земства, когда оно было на надлежащем месте, оставалось самим собой и освобождалось из-под влияния профессиональной интеллигенции». Тем не менее, хотя «историческая власть и избранная общественность находили почву для совместной работы», «соглашение вышло призрачным по вине обеих сторон», а радикальное крыло земцев осудило делегацию съезда за лояльность царю (с. 328–329). Более того, ознакомившись с проектом учреждения Государственной думы, выработанным совещанием под руководством А. Г. Булыгина, съезд обрушился на него с упрёками за неконституционный характер представительства и наличие избирательного ценза 13. В целом же весной–летом 1905 г. настроения земцев в различных губерниях колебались от надежд на создание законодательной палаты до стремления к созыву совещательного Земского собора, причём бóльшая часть гласных высказывалась в пользу двухпалатного парламента, избранного на основе всеобщего избирательного права 14.
Дворянство, представители которого задавали тон в земских собраниях, формально декларировало свою лояльность, но делало это с весьма выразительными оговорками. Так, в записке, составленной в середине июня 1905 г. 25 губернскими предводителями, утверждалось, что «Россия – в преддверии анархии, осталась только тень правительства», которое «стало представляться чем-то чуждым, враждебным, нетерпимым; отсюда чудовищное явление розни даже перед лицом победоносного внешнего врага». Разумеется, у авторов не возникало сомнений в том, что «для спасения нашего отечества необходимо как можно скорее восстановить твёрдую законность, крепкую государственную власть, сильное правительство, такое, которое имело бы нравственный авторитет, встречало бы в стране доверие, сочувствие и общую поддержку, которое было бы в живой связи с народом». Но, по их мнению, «всё это может явиться лишь тогда, когда государь в делах правления будет опираться не на чиновников только, а на выборных от своей земли, и воссоздастся, таким образом, общение царя и народа», а «другого пути нет». 18 июня петербургский и московский губернские предводители гр. В. В. Гудович и кн. П. Н. Трубецкой прочли эту записку императору, выразившему им «полное своё удовольствие», поручившему благодарить остальных её составителей и обещавшему сделать «всё возможное для ускорения созыва выборных людей» 15.
Делегация курского дворянства, дистанцировавшаяся от обращения 25 предводителей и принятая Николаем II 20 июня, заверила монарха: «Государь, повели призвать выборных по сословиям и верь, что русская деревня, поместное дворянство и твои хлебопашцы не предадут державы твоей, не поколеблют незыблемых основ твоего самодержавия». Московские консерваторы во главе с кн. А. Г. Щербатовым, Ф. Н. Шиповым, А.Д. и Ф. Д. Самариными опубликовали открытое письмо к кн. П. Н. Трубецкому, обвинив его в превышении полномочий и выражении своих личных взглядов от имени избравшего его дворянства, которое их не разделяло. При этом прямо указывалось на то, что претензии «съезда “земских и городских деятелей”» несовместимы «с убеждением в необходимости сохранять и укреплять самодержавную царскую власть», а «в настоящее тревожное время», когда «пожар так страшно разгорается и дело доходит до мятежа буйной толпы в больших городах и деревнях и до открытого возмущения на военных судах, всего менее можно помышлять о созыве народного представительства и о введении парламентской формы правления», поскольку «в таких обстоятельствах нужна сильная единоличная власть, а не палата представителей» 16. Со своей стороны, кн. П. Н. Трубецкой в 1905 г. действительно сблизился с Д. Н. Шиповым и «земским меньшинством» 17. И Маклаков вполне обоснованно заключал, что «к 1905 году образовался один общий фронт, от революционеров до консервативных слоёв нашего общества. Единомыслия в этом лагере быть не могло. Но в одном все были согласны: что продолжать по-прежнему невозможно» (с. 305).
Радикализации настроений в обществе способствовали и профессиональные союзы, возникавшие весной 1905 г. по инициативе «освобожденческой» интеллигенции и объединившиеся в мае в Союз союзов. Мемуарист пишет о «боевом» характере этих организаций, создававшихся прежде всего для борьбы с самодержавием и формирования представления о единстве политических устремлений разных социальных групп (созыв Учредительного собрания и т. п.) (с. 313–317). Однако, рассказывая преимущественно о Союзе адвокатов, Маклаков нивелировал различия в позиции отдельных объединений, не оговаривается она и в комментариях. Между тем союзы фармацевтов, учителей и врачей выдвигали значительно более радикальные требования, нежели рассчитывал лидер Союза союзов П. Н. Милюков, а Всероссийский железнодорожный союз, выступавший под социалистическими лозунгами, превратился в один из локомотивов рабочего движения 18.
Деятельность Всероссийского крестьянского союза Маклаков сводит к раскручиванию массовой подачи крестьянами петиций («приговоров»), включавших заявления о переделе земли и политические лозунги («пожелания об Учредительном собрании и четырёххвостке»). В результате «крестьянство приобрело видимость организованности» и получило «программу», которая «соблазнительно совпадала» с планами «Освобождения» (с. 317–318). Всё это так 19, но не следует игнорировать политизированность самих крестьян, проявлявшуюся без всякого влияния членов Крестьянского союза и даже до его образования 20.
Маклаков сурово осуждал своих товарищей по Конституционно-демократической партии за отказ после Манифеста 17 октября 1905 г. от соглашения с правительством гр. С. Ю. Витте и самоуверенное стремление «добить врага до конца». Мемуаристу казалось, что либералам после «победы» над самодержавием следовало поддержать власть в борьбе с «Ахеронтом» (с. 384–385, 409), чему помешало сосуществование в партии двух «крыльев» – левого и правого – и лавирование Милюкова между ними (с. 411–428). Выходом мог бы стать раскол, но учитывая то, что ведущую роль в кадетских структурах играла демократическая интеллигенция, тесно связанная с традициями «освободительного движения» и увлекавшаяся социалистической идеологией 21, разрыв с «левой периферией», скорее всего, не укрепил бы позиции ЦК, а напротив, сулил ему участь «генералов без армии» наподобие Партии демократических реформ. Наконец, весьма резонным представляется риторический вопрос И. А. Христофорова: «Да и мыслимо ли было превращение кадетов в “умеренную” партию в условиях пика революции и мощного напора “снизу”?» 22.
Впрочем, демагогия и политиканство в то время были присущи далеко не только кадетам. «Союз 17 октября» также не спешил поддерживать гр. Витте, а его лидеры А. И. Гучков и Д. Н. Шипов, отказавшись войти в правительство вместе с П. Н. Дурново, в конце 1905 г. защищали в Совете министров и Особом совещании под председательством императора неосуществимый проект введения всеобщего избирательного права23.
Характерно, что о консерваторах Маклаков упоминает сравнительно редко и скупо. Так, он отмечал, что в начале 1905 г. «убеждённые сторонники самодержавия покидали его за его слабость и начинали смотреть на либерализм как на силу, которая одна могла бы остановить революцию». По словам мемуариста, «такие люди были крысы, которые покидали тонущий корабль и искали спасения» (с. 306–307). Но последующее формирование правого движения и черносотенных организаций им попросту игнорируется.
Революционная борьба в 1904–1906 гг. очерчена Маклаковым конспективно, а её участникам фактически отведена роль деструктивного «партнёра» либералов. Даже про «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. сказано вскользь, оно изображено как «совместные действия революционеров и охранного отделения», способствовавшие радикализации общества (с. 304). Мимоходом сообщается о крестьянских беспорядках, покушениях террористов (с. 305), военных бунтах вроде «Потёмкина» (с. 342). Не указаны мемуаристом и организаторы Всероссийской стачки («очевидно, её кто-то организовывал»), но при этом упомянуто, что к 17 октября забастовка начала выдыхаться, обыватель устал и заговорили о конфликтах среди бастовавших (с. 343–344). Слухи о намерении части железнодорожников выйти на работу зафиксировал и Л. А. Тихомиров 24. Их распространение заставляет задуматься о перспективах кризиса в октябре 1905 г. Лишь одной туманной фразой Маклаков обмолвился о том, что «если “освободительное движение”, того не желая, помогало успеху японцев, то Япония за эту услугу ему заплатила сторицей» (с. 305). Куликов в комментарии показывает, что японские деньги («не менее 1 млн иен») тратились на «упрочение межпартийных связей» антиправительственных организаций, а также на стачки, подпольные типографии и т. д. Вслед за американским журналистом Э. Диллоном и полковником М. Акаси, руководившим созданием агентурной сети в России, именно с этой «финансовой поддержкой» он связывает «широкое распространение» революционных выступлений во время войны (с. 626–627). Между тем, согласно исследованию японского историка Инаба Чихару, бывшему военному атташе микадо удалось устроить лишь несколько партийных конференций, неудачную попытку перевезти в Россию партию оружия на пароходе «Джон Графтон» и доставку винтовок для грузинских революционеров 25.
В конце 1905 г., как вспоминал Маклаков, «сначала самые мирные обыватели, которые раньше всего “опасались”, поверили в успех революции, превратились в “непримиримых” и не шли ни на какие уступки. Для них всего было мало… Но с какой лёгкостью они потом успокоились и стремились искупить своё увлечение. Эти сначала расхрабрившиеся, а потом струсившие обыватели были не только в интеллигенции. Они были и в революционной пролетарской среде… и в деревне» (с. 364–365). 18 октября, в «дни свободы», мемуарист побывал в Московской консерватории на митинге, где рассуждали о преимуществах разных видов оружия, причём тут же в фойе шёл сбор денег на вооружённое восстание (с. 350). «Один из руководителей левого лагеря» уверял Василия Алексеевича в силе революционеров буквально «за несколько дней» до начала декабрьских боёв (с. 361). Тем не менее правый кадет даже в эмиграции верил, что их могло остановить дальнейшее дарование «свобод» и назначение либералов, если бы они согласились, на министерские посты.
При этом Маклаков преуменьшал масштабы беспорядков, с которыми тогда столкнулось правительство, и мифологизировал их. Так, по его словам, «главою революции был Рабочий совет», т. е. Петербургский совет рабочих депутатов (с. 363). Однако, хотя он и принимал политические решения всероссийского уровня (например, 19 октября распорядился о прекращении через два дня всеобщей забастовки), но действовал в основном в Петербургском районе и не обладал ресурсами для влияния на события в других частях страны 26.
Ещё более странным выглядит утверждение Маклакова, будто в конце 1905 г. «восстание произошло только в Москве», где «по газетным отчётам оно казалось страшнее, чем было на деле». Во всяком случае, правильного боя там не получилось, поскольку «силы сторон были несоизмеримы», хотя «всё-таки улицы были перерезаны “баррикадами”; по ним стреляли из орудий и пулемётов» (с. 364). Поэтому не столько сами бои, сколько «расправа правительства с революцией» оставила глубокие следы в психологии общества 27. Между тем зимой 1905/06 гг. череда вооружённых стычек и мятежей произошла в Нижнем Новгороде и Сормово, Мотовилихе, Александрове, Харькове, Екатеринославской губ., Ростове-на-Дону, Новороссийске, Закавказье, на Транссибирской магистрали, а в Остзейском крае вспыхнула настоящая гражданская война между местными крестьянами (эстонцами и латышами) и землевладельцами (немцами) 28. В Москве же из-за малочисленности войск и полиции (около 5 тыс. человек) группкам боевиков-дружинников (около 1 500 человек) удавалось оказывать сопротивление более недели. Не говоря уже о том, что жестокость и ошибки, допущенные администрацией в начале восстания, временно привлекли на сторону революционеров достаточно широкие круги обывателей 29. Так или иначе, но протестный потенциал общества в те годы ещё нуждается в изучении.
Освещая политику самодержавия, Маклаков утверждал, что после гибели В. К. Плеве у общественности появился шанс выстроить доверительные отношения с новым главой МВД – кн. П. Д. Святополк-Мирским, приверженцем «либерального самодержавия» в духе Великих реформ. Однако из-за деструктивного радикализма «освобожденцев» и противодействия председателя Комитета министров Витте этого не случилось. Впоследствии мемуарист не раз беседовал с ним о тех временах и не сомневался, что хорошо понял логику «виттевской мысли»: «Витте был сторонником самодержавия, но понимал и выгоды конституции, зато был врагом смешения того и другого». Он полагал, что «соединять самодержавие с представительством – значит узаконить борьбу в центре государственного аппарата», допускать «соединение двух противоположных начал, которые не уживутся». Соответственно «совещательное представительство для него было не “меньше”, чем конституция, а просто явление “другого” порядка; не давая выгод конституции, оно ослабляло самодержавие, узаконяло бессилие» (с. 293). Кн. Святополк-Мирский же желал именно включения выборных в состав Государственного совета. Дискредитировав его в глазах как царя, так и общественности, Витте добился того, что разработка важнейших внутриполитических мер сосредоточилась не в МВД, а в Комитете министров. Но эта тонкая интрига, описанная в историографии 30, не раскрывается ни в мемуарах Маклакова, ни в комментариях к ним, где приводятся лишь пространные цитаты из воспоминаний Д. Н. Шипова и стенографированных рассказов гр. Витте (с. 620–621).
Как считал Маклаков, в основе указа 12 декабря 1904 г., изданного по инициативе кн. Святополк-Мирского, лежала «программа, принятая земцами ещё на шиповском Совещании 1902 года» (с. 291). Тогда за неё «земства получили выговор и запрещение собираться». Теперь же «Мирский, предлагая программу преобразований государю, взял за её основание резолюцию земского съезда, не исключив из неё и пункта о представительстве», правда, «в редакции меньшинства, предлагая не конституцию, а “совещательное представительство”» (с. 288). Куликов, соглашаясь с Р. Ш. Ганелиным 31, уточняет, что программный всеподданнейший доклад князя, представленный императору 24 ноября, был составлен по поручению министра С. Е. Крыжановским и имел «самостоятельное значение», а вовсе не являлся развитием идей ноябрьского съезда (с. 614–615). Однако сам Крыжановский свидетельствовал, что министр, ставя перед ним задачу, заявил «о необходимости пойти навстречу пожеланиям умеренной части оппозиции и сделать уступки» 32. Тесные контакты главы МВД с тем же Д. Н. Шиповым и его единомышленниками также не составляли секрета 33. Поэтому, скорее всего, князю в докладе нужен был некий «свод» пожеланий консервативной и умеренно-либеральной общественности.
В 1905 г., по мнению мемуариста, самодержавие, не находя поддержки, делало уступку за уступкой. Маклаков объяснял это тем, что «если бы против самодержавия шла одна революция, самодержавие могло бы не уступать. Оно сочло бы себя обязанным бороться с ней до конца… Благодаря участию лояльного либерализма в борьбе этого не случилось… Оно не могло бить по либерализму так, как могло бы бить по революции» (с. 306). Действительно, в условиях неудачной войны при недостатке войск и полиции в Европейской России позиция земства, т. е. социально активной части дворянской элиты, являлась важным фактором кризиса режима. Не случайно и сам Николай II, и новый глава МВД Булыгин в итоге склонялись к мнению «большинства» дворянства (например, когда речь шла о «классовом» характере выборов) 34.
К числу наиболее опрометчивых решений власти Василий Алексеевич относил акты 18 февраля 1905 г. (манифест, указ Сенату и рескрипт Булыгину), в которых одновременно содержались призывы к борьбе с «мятежом» и к укреплению порядка, приглашение направлять в Комитет министров предложения по реформированию государственного строя и обещание созвать «выборных от населения». Всё вместе это отталкивало от правительства потенциальных сторонников и создавало правовую базу для самоорганизации его противников (с. 309–311). Но ещё более пагубным оказался указ 27 августа, наспех даровавший автономию университетам и превративший студенческие аудитории в площадку для политических дискуссий (с. 340–341). В результате осенью учебный процесс в высшей школе был практически сорван из-за митингов, собиравших массу посторонней публики, и невмешательства властей 35. Вину за это Маклаков совершенно обоснованно возлагает на столичного генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел Д. Ф. Трепова. Однако, судя по комментариям Куликова, он в данном случае лишь воплощал рекомендации общественности, изложенные, в частности, в записке кн. С. Н. Трубецкого (с. 644). Ранее, на июльских совещаниях под председательством императора в Петергофе «диктатор», который, по словам Маклакова, «кое-что понимал», высказывался за предоставление будущей Государственной думе права отклонять внесённые законопроекты (с. 339).
Между тем Дмитрий Фёдорович принадлежал к кружку, включавшему также его брата Владимира, И. Л. Горемыкина и А. В. Кривошеина, которые активно боролись с Витте и стремились вырвать из его рук процесс подготовки реформ 36. Другая, не менее влиятельная группа сановников, неформальным лидером которой можно назвать председателя Государственного совета гр. Д. М. Сольского, в 1904–1905 гг. вела дело к ограничению самодержавия и созданию объединённого правительства. Осенью 1905 г., вступив в союз с Витте, именно они склонили Николая II к подписанию Манифеста 17 октября, а не только то, что «самодержавие чувствовало себя в тупике» (с. 342).
Сложившаяся затем в правящих кругах расстановка сил в мемуарах Маклакова существенно упрощена. В его изображении гр. Витте долго пытался добиться сотрудничества с общественностью и, лишь разочаровавшись, дал волю Дурново, предпочитавшему силовые методы борьбы с революцией (с. 362–363). Однако в октябре – начале декабря 1905 г. управляющий МВД также вёл себя весьма осторожно. 3 ноября на заседании Совета министров в присутствии императора звучали его заявления о необходимости «твёрдо и послед[овательно] проявлять власть», но резких практических шагов первоначально он не предпринимал. Так, характеризуя на заседании Совета министров 9 ноября Всероссийский крестьянский союз как «революционную организацию», причем «самую опасную», Дурново не спешил немедленно арестовать её членов. В его собственном ведомстве против «мятежного» союза почтово-телеграфных служащих вплоть до 19 ноября прямых репрессий не осуществлялось 37. Таким образом, приспособление представителей власти к новым реалиям протекало более сложно, нежели это показано Маклаковым. В целом же, сведение им всех переплетений политической борьбы к противостоянию либералов и «исторической власти», как и запоздалые сожаления о недостатке «государственного понимания» радикальной общественности, приводят к заметной схематизации и искажению реалий прошлого.
1 Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005. С. 8.
2 Наследие Ариадны Владимировны Тырковой. Дневники. Письма / Сост. Н. И. Канищева. М., 2012. С. 66. Подробнее см.: Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.). Изд. 2. М., 2016. С. 300–306.
3 Головин Ф. А. Воспоминания. 1870–1918 / Сост. А. К. Афанасьев, М. А. Горячева. М., 2020. С. 171, 300–301; Наследие Ариадны Владимировны Тырковой… С. 61–62.
4 Первая революция в России… С. 38–41. О многообразии причин крестьянских беспорядков накануне революции см.: Крестьянское движение в России в 1901–1904 гг. М., 1998; Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России. 1907–1914 гг. М., 1992; Тюкавкин В. Г. Великорусское крестьянство и Столыпинская аграрная реформа. М., 2001; Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте–Столыпина. СПб., 2016.
5 Христофоров И. А. Судьба реформы. Русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М., 2011. С. 349.
6 Рабочее движение в России. 1895 – февраль 1917 гг. Хроника. Вып. 6. 1900 г. / Сост. И. М. Пушкарёва. СПб., 1999; Вып. 7. 1901 г. / Сост. И. М. Пушкарёва. СПб., 2000; Первая революция в России… С. 92–95, 190.
7 Либеральное движение в России. 1902–1905 гг. М., 2001. С. 97–99, 100, 104, 105, 112, 113.
8 Там же. С. 125, 129.
9 Там же. С. 570–571, 575–576; Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905–1907 гг. Организация. Программы. Тактика. М., 1985. С. 279–281.
10 Мельников Н.А. 19 лет на земской службе (автобиографический очерк и воспоминания) / Публ. Ю.Б. фон Шлиппе // «Российский архив». История отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Вып. 17. М., 2008. С. 264–265.
11 Либеральное движение в России… С. 228, 229, 232, 233, 237.
12 Оболенский В. А. Моя жизнь и мои современники. Т. 1. М., 2017. С. 338.
13 Там же. С. 292–294.
14 Земское самоуправление в России. 1864–1918 гг. Кн. 2. М., 2005. С. 24–28.
15 Российское дворянство в революции 1905 года: «Беседы» губернских предводителей / Сост. И. В. Лукоянов. СПб., 2017. С. 311–322.
16 Там же. С. 322–329.
17 Там же. С. 119–122, 174–175; Шипов Д. Н. Воспоминания и думы о пережитом / Публ. С. В. Шелохаева. М., 2007. С. 313–314.
18 Первая революция в России… С. 244–246.
19 Приговоры и наказы крестьян Центральной России 1905–1907 гг. Сборник документов / Сост. Л. Т. Сенчакова. Под ред. В. П. Данилова и А. П. Корелина. М., 2000. С. 46–50, 58–60, 63.
20 Там же. С. 34–36, 69–70.
21 Подробнее см.: Селезнев Ф. А. Конституционные демократы и буржуазия (1905–1917 гг.). Н. Новгород, 2006. С. 107; Шелохаев В. В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. М., 2015. С. 84.
22 Первая революция в России… С. 396.
23 Там же. С. 395; Российская монархическая государственность на последнем этапе своей истории. 20 октября 1894 г. – 3 марта 1917 г. Сборник документов / Сост. Н. Д. Ерофеев. М., 2014. С. 164–167; Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК / Сост. Д. Б. Павлов. Т. 1. М., 1996. С. 46–48.
24 Дневник Л. А. Тихомирова. 1905–1907 гг. / Сост. А. В. Репников, Б. С. Котов. М., 2015. С. 137.
25 Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. М., 2013. С. 191–192. См. также: Павлов Д. Б. Японские деньги и первая русская революция. М., 2011.
26 Всероссийская политическая стачка. Т. 1. М., 1955. С. 371–373, 382–385.
27 Схожего мнения придерживался и М. В. Челноков: «Я утверждал и утверждаю сейчас, что Дубасов никакого подвига не сделал, что не было надобности разгромить Пресню…, где не было никаких революционеров, что не было никакой надобности расстреливать 360 человек на линии Рязанской дороги – по станциям» (Представительные учреждения Российской империи в 1906–1917 гг. Материалы перлюстрации Департамента полиции / Отв. ред. В. В. Шелохаев. Сост. К. А. Соловьёв. М., 2014. С. 199).
28 Первая революция в России… С. 376–377.
29 Подробнее см.: Алмазов М. Г. Фёдор Дубасов и подавление Декабрьского восстания в Москве // Российская история. 2020. № 1. С. 51–74.
30 Подробнее см.: Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991. С. 32–39; Крылова Е. Н. Министерство внутренних дел и общественная инициатива накануне Первой русской революции. СПб., 2019. С. 101–191. См. также: Колышко И. И. Великий распад / Публ. И. В. Лукоянова. М., 2009. С. 145–146.
31 Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году… С. 26–27.
32 Воспоминания. Из бумаг С. Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи / Публ. А. В. Лихоманова. СПб., 2009. С. 52–53.
33 Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году… С. 26; Шипов Д. Н. Воспоминания и думы… С. 259–275.
34 Российское дворянство в революции 1905 года... С. 23–25.
35 Всероссийская политическая стачка. Т. 1. С. 25–27, 37–41.
36 Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году… С. 160; Первая революция в России… С. 414–415.
37 РГИА, ф. 1328, оп. 2, д. 9, л. 28–32 об.; Совет министров Российской империи. 1905–1906. Документы и материалы / Сост. Б.Д. Гальперина. Л., 1990. С. 36, 44; Высший подъём революции 1905–1907 гг. Вооружённые восстания. Ноябрь–декабрь 1905 г. Ч. 1. М., 1955. С. 116–117.
About the authors
Mikhail G. Almazov
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
кандидат исторических наук, ассистент исторического факультета
Russian Federation, MoscowReferences
- Алмазов М.Г. Фёдор Дубасов и подавление Декабрьского восстания в Москве // Российская история. 2020. № 1. С. 51–74.
- Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.). Изд. 2. М., 2016.
- Воспоминания. Из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи / Публ. А.В. Лихоманова. СПб., 2009.
- Всероссийская политическая стачка. Т. 1. М., 1955. С. 373, 382–385.
- Высший подъём революции 1905–1907 гг. Вооружённые восстания. Ноябрь–декабрь 1905 г. Ч. 1. М., 1955.
- Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991.
- Головин Ф.А. Воспоминания. 1870–1918 / Сост. А.К. Афанасьев, М.А. Горячева. М., 2020
- Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте–Столыпина. СПб.,2016.
- Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. / Сост. А.В. Репников, Б.С. Котов. М., 2015.
- Земское самоуправление в России. 1864–1918 гг. Кн. 2. М., 2005.
- Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России. 1907–1914 гг. М., 1992.
- Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. М., 2013.
- Колышко И.И. Великий распад / Публ. И.В. Лукоянова. М., 2009.
- Крестьянское движение в России в 1901–1904 гг. М., 1998.
- Крылова Е.Н. Министерство внутренних дел и общественная инициатива накануне Первой русской революции. СПб., 2019.
- Либеральное движение в России. 1902–1905 гг. М., 2001.
- Мельников Н.А. 19 лет на земской службе (автобиографический очерк и воспоминания) / Публ. Ю.Б. фон Шлиппе // «Российский архив». История отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Вып. 17. М., 2008.
- Наследие Ариадны Владимировны Тырковой. Дневники. Письма / Сост. Н.И. Канищева. М., 2012.
- Оболенский В.А. Моя жизнь и мои современники. Т. 1. М., 2017.
- Павлов Д.Б. Японские деньги и первая русская революция. М., 2011.
- Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК / Сост. Д.Б. Павлов. Т. 1. М., 1996.
- Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005.
- Представительные учреждения Российской империи в 1906–1917 гг. Материалы перлюстрации Департамента полиции / Отв. ред. В.В. Шелохаев. Сост. К.А. Соловьёв. М., 2014.
- Приговоры и наказы крестьян Центральной России 1905–1907 гг. Сборник документов / Сост. Л.Т. Сенчакова. Под ред. В.П. Данилова и А.П. Корелина. М., 2000.
- Рабочее движение в России. 1895 – февраль 1917 гг. Хроника. Вып. 6. 1900 г. / Сост. И.М. Пушкарёва. СПб., 1999.
- Рабочее движение в России. 1895 – февраль 1917 гг. Хроника. Вып. 7. 1901 г. / Сост. И.М. Пушкарёва. СПб., 2000.
- Российская монархическая государственность на последнем этапе своей истории. 20 октября 1894 г. – 3 марта 1917 г. Сборник документов / Сост. Н.Д. Ерофеев. М., 2014.
- Российское дворянство в революции 1905 года: «Беседы» губернских предводителей / Сост. И.В. Лукоянов. СПб., 2017.
- Селезнев Ф.А. Конституционные демократы и буржуазия (1905–1917 гг.). Н. Новгород, 2006.
- Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и Столыпинская аграрная реформа. М., 2001.
- Христофоров И.А. Судьба реформы. Русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М., 2011.
- Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905–1907 гг. Организация. Программы. Тактика. М., 1985.
- Шелохаев В.В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. М., 2015.
- Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом / Публ. С.В. Шелохаева. М., 2007.
Supplementary files