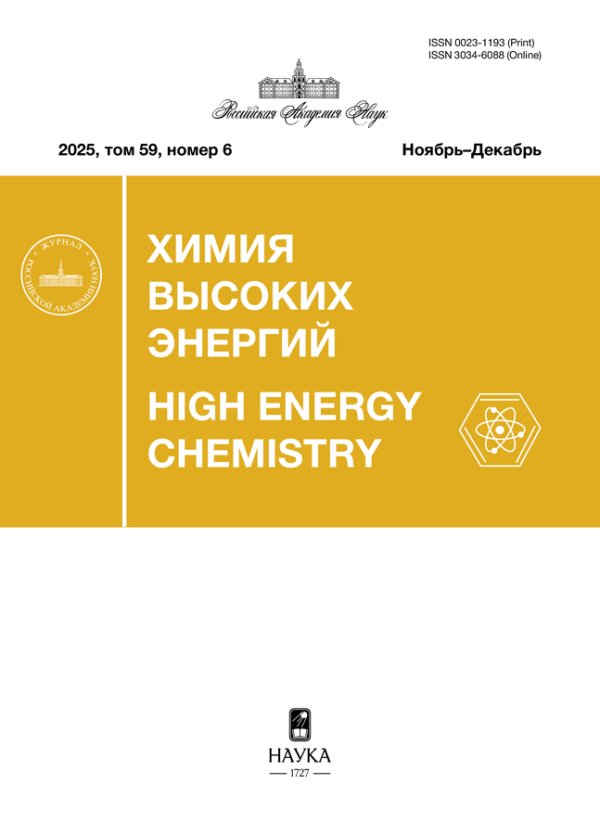Прямое действие быстрых электронов на гексафторацетилацетон
- Авторы: Власов С.И.1, Холодкова Е.М.1, Пономарев А.В.1
-
Учреждения:
- ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
- Выпуск: Том 58, № 4 (2024)
- Страницы: 304-311
- Раздел: РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0023-1193/article/view/274634
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023119324040097
- EDN: https://elibrary.ru/TPWFGC
- ID: 274634
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследовался радиолиз жидкого и кипящего гексафторациетилацетона. Структура основных продуктов радиолиза свидетельствует о преобладании разрывов связей С–CF3 и С–F. Образуются 10 соединений, включая монокетоны, трифторуксусную кислоту, кетоспирты и таутомерные тетракетоны. Моноксид углерода является главным газообразным продуктом, и его выход возрастает в условиях кипения. Начальный выход разложения гексафторацетилацетона составляет 0.29 ± 0.2 и 0.32 ± 0.2 мкмоль/Дж при 293 и 343 К соответственно. Накопления свободной HF при низких дозах не наблюдается. Продукты радиолиза менее разнообразны, чем в ацетилацетоне, что обусловлено усилением эффекта “клетки”, увеличением онзагеровского радиуса и способностью трифторметильных групп рассеивать энергию возбуждения.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Гексафторацетилацетон (ГФАА) – удобный комплексообразователь для многих ионов металлов [1]. Получаемые металлокомплексы стабильнее и летучее [2], чем ацетилацетонаты, что привлекает к ним интерес в современных технологиях парофазного (электронно-лучевого) осаждения наноструктур на поверхностях материалов [3, 4], а также в радиохимическом извлечении лантаноидов и актиноидов из отработанного ядерного топлива [2, 5, 6]. В обоих случаях важны сведения о радиационной стойкости ГФАА.
Газофазные радиолитические процессы в ГФАА и ацетилацетоне (АА) существенно различаются [7, 8]. Группа CF3 в 4.6 раз тяжелее, чем СН3. Энергия диссоциации связи C–F выше, чем у С–Н связи (около 456 и 435 кДж/моль соответственно). Группы CF3 обладают сильным отрицательным индуктивным эффектом, снижающим электронную плотность на соседних атомах углерода. Энергия дикето-формы на 0.3–0.4 эВ выше, чем у енольной формы, поэтому при нормальных условиях все молекулы ГФАА находятся в енольной форме [9, 10]. Водородная связь в ГФАА существенно слабее, чем в АА, в частности из-за конкуренции между атомами О и F в ее образовании [7]. Низший потенциал ионизации у ГФАА (10.5–10.7 эВ) выше, чем у АА (9.63 эВ). Более того, энергия ионизации у CF3 групп достигает 13–14 эВ, что предопределяет различие между АА и ГФАА в переносе заряда и избыточной энергии по углеродному скелету. Фторирование влияет на физико-химические свойства. Так, температура кипения ГФАА на 70° ниже, чем у АА, а плотность и динамическая вязкость достигают 1.47 кг/дм3 и 1.39 мПа ∙ с соответственно, что намного выше, чем у АА (0.975 кг/дм3 и 0.762 мПа ∙ с).
Ранее радиолиз жидкого ГФАА не исследовался. Соответственно, радиационная стойкость ГФАА в жидкой фазе неочевидна из предыдущих газофазных исследований. Ключевое отличие жидкофазного радиолиза обусловлено высокой ролью ион-молекулярных и радикал-молекулярных реакций, эффективным рассеянием избыточной энергии, эффектом клетки, а также межмолекулярными взаимодействиями (в том числе водородными связями) [11]. В настоящей работе исследовался радиолиз жидкого и кипящего ГФАА.
МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
Коммерческий ГФАА (от Ferak Berlin) осушали над безводным MgSO4 и перегоняли в атмосфере аргона с отбором фракции с точкой кипения 343 К. Содержание основного вещества в дистилляте составляло не менее 99.5%. Облучателем служил линейный ускоритель LINS-03-350 (от RadiaBeam Systems), генерирующий горизонтальный несканируемый пучок 3 МэВ электронов (длительность импульса 4 мкс; частота повторения импульсов 50 Гц). Доза за импульс составляла 2.7 ± 0.1 Гр. Поглощенную дозу определяли с помощью пленочных дозиметров СО ПД(Ф)Р-5/50 [12]. Облучение проводили при 295 К (режим AR) и 343 К (режим BR) в закрытых стеклянных виалах (внешний и внутренний диаметры 9 и 7.5 мм соответственно). Непосредственно перед облучением в режиме АР образцы 30 мин продувались очищенным Ar. Перед облучением в режиме БР образцы дезаэрировались кипячением (≈343 К) в течение 2 мин с непрерывным удалением паровой фазы. В режиме БР нагрев осуществлялся снизу. Пары конденсировались за счет водяного охлаждения верхней части виалы. В обоих режимах жидкость облучалась по всей высоте (за исключением крышки и зоны конденсации).
Облученные образцы сразу охлаждали до 276 К, насыщали аргоном высокой чистоты и спустя 15 мин после облучения анализировали на хроматомасс-спектрометре Agilent 5977EMSD / 7820AGC (газ-носитель He; капиллярная колонка 19091S-916; 60 м × 0.32 мм × 0.25 мкм) и газовом хроматографе Биохром-1 (катарометр; газ-носитель Ar; стальная колонка 3 м × 2 мм с молекулярным ситом 13X, 80–110 меш). Для идентификации молекулярных продуктов использовались библиотека масс-спектров NIST и программа AMDIS. Механизм радиолитических превращений оценивался из анализа состава молекулярных продуктов радиолиза. Радиационно-химические выходы продуктов определяли по результатам трех независимых опытов, используя начальные участки кривых радиолитического накопления (экстраполяция к нулевой дозе).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдаемый начальный выход деградации ГФАА составляет 0.29 ± 0.02 и 0.32 ± 0.02 мкмоль/Дж в режимах АР и БР соответственно. Это ниже, чем выход деградации АА (почти в 2 раза при 293 К и в 3 раза при 342 К) [11, 13]. Выходы первичных продуктов радиолиза, образование которых регистрируется при дозах до 30 кГр, показаны на рис. 1. Выходы неидентифицируемых миноритарных продуктов не превышают 0.001 мкмоль/Дж, и их общая концентрация составляет менее 5%. При более высоких дозах образуется олигомер с массой около 580 (0.003 и 0.005 мкмоль/Дж в режимах АР и БР соответственно) и несколько вторичных продуктов. Преобладающим газообразным продуктом является моноксид углерода (рис. 1). Образование СО типично для радиолиза карбонильных соединений как следствие распада ацетильных и ацетонильных радикалов, а также возбужденных молекул [13, 14]. Выходы других газообразных продуктов не превышают 0.001 мкмоль/Дж.
Рис. 1. Радиационно-химические выходы G первичных продуктов в ГФАА.
Главные молекулярные продукты радиолиза тяжелее, чем ГФАА (рис. 1). Их строение указывает, что радиолиз приводит к перераспределению групп CF3 (Z7, Z8 и Z9) и атомов F (Z6, Z8 и Z9). По-видимому, образование Z8-Z10 обусловлено рекомбинацией тяжелых радикалов, возникающих в результате отрыва F, CF3 или Н от молекулы ГФАА. Легкие продукты Z2 и Z3 обусловлены разрывом связи С(2)–С(3), при этом продукт Z3 свидетельствует о разрыве связи С–ОН. Продукт Z4 отличается от ГФАА замещением группы ОН на F, а продукт Z5 – отсутствием одной из двойных связей. Таким образом, главными продуктами являются: моноксид углерода (Z1), монокетоны (Z2 и Z4), кислота (Z3), кетоспирты (Z5 и Z7) и таутомерные тетракетоны (Z8–Z10).
Возможно несколько путей отщепления группы CF3. Масс-спектры дикето- и енольной форм (рис. 2) свидетельствуют о нестабильности молекулярного катион-радикала (m/z 208), который преимущественно распадается с образованием иона (m/z 69):
Рис. 2. Катионные масс-спектры енольной и дикетоформ ГФАА
Такой распад закономерен, поскольку энергия разрыва связи С-СF3 около 4.45 эВ [15], энергия разрыва C–F около 5.7 эВ, а группа С(2)–С(4) стабилизирована за счет сопряжения связей. Движущей силой распада служит избыточная энергия катион-радикала (в среднем, 4 ± 2 эВ), приобретаемая вследствие ионизации с внутренних электронных оболочек [16]. В реакции (1) образуется весьма неустойчивый бутандионовый радикал, который может распадаться с элиминированием СО (продукт Z1):
Реакция (2), скорее всего, является главным источником СО в жидком ГФАА. В частности, об одновременном образовании Z1 и Z2 свидетельствуют их близкие выходы (рис. 1). Реакция (2) приводит к более стабильному трифторацетонильному радикалу, который, однако, может иметь несколько изомерных форм:
Наличие группы CF3 повышает реакционную способность изомеров трифторацетонильного радикала в отщеплении атома Н от соседней молекулы ГФАА с образованием трифторацетона (продукт Z2) и радикала, неспаренный электрон которого, как и в случае АА, локализуется преимущественно у атома С(3):
Разрыв связи С–СF3 возможен также при диссоциативном присоединении электрона к молекуле ГФАА [17, 18] :
Такой процесс наиболее вероятен при энергии электрона недовозбуждения 4–10 эВ, однако его пороговая энергия составляет около 2.64 эВ. Термализованные ионы и могут участвовать в образовании Z7:
с последующей реакцией алкокси-радикала с соседней молекулой ГФАА:
Отщепление Н в реакциях типа (4) и (8) происходит вероятнее от гидроксила, поскольку связь О–Н слабее, чем С–Н (4.3 и 5.1 эВ соответственно), однако благодаря сопряжению связей образующийся радикальный центр локализуется на С(3), как следует из структуры Z10 и было показано в АА [11, 13].
Разрыв связи С–СF3 с образованием радикала ×СF3 возможен также при распаде возбужденной молекулы ГФАА:
или при распаде возбужденных катион-радикала и анион-радикала. Вместе с тем роль реакции (9) мала из-за эффекта “клетки”, поскольку высокие плотность и вязкость ГФАА замедляют диффузию радикалов от места их образования. Вместе с тем радикал ×СF3 может быть захвачен соседней молекулой ГФАА:
с последующим образованием Z7. Среди продуктов радиолиза ГФАА не обнаружено гексафторэтана (димер ×CF3), трифторметана или перфторметана (продукты отщепления Н или F). Это указывает на быструю гибель ×CF3 в реакции присоединения (10) или в реакции, обратной (9). Вместе с тем сходство выходов Z7 в режимах АР и БР (рис. 1) может означать, что основными предшественниками Z7 служат первичные ионы СF3+ и СF3–, для которых эффект клетки менее значим.
Кетоны – эффективные акцепторы вторичных электронов, причем в реакции принимают участие преимущественно нетермализованные электроны (электроны недовозбуждения) [14, 16]. Заряд вероятнее локализуется на карбонильной группе:
В газовой фазе анион-радикал нестабилен и быстро распадается с элиминированием ×Н [18]:
В жидкой вязкой среде, где диссипация избыточной энергии облегчается, можно ожидать, что первичный анион-радикал более стабилен. По крайней мере, анализ состава продуктов жидкофазного радиолиза (рис. 1) не указывает на существенную роль реакции (12). Образования Н2 незаметно, возможно, потому что ×Н быстро присоединяется к ГФАА.
Считается, что атом F не имеет сродства к электрону с энергией ниже 5 эВ [15]. Однако масс-спектр диссоциативного присоединения электронов к ГФАА указывает на возможность разрыва одинарной связи С–F [17, 18]. Максимальная вероятность элиминирования F- наблюдается при энергии вторичного электрона между 10 и 11 эВ, но несколько меньшие вклады наблюдаются около 4 и 7 эВ, а пороговая энергия составляет 2.27 эВ:
Таким образом, при условии захвата электронов недовозбуждения возможно отщепление F- из ГФАА. Анион F- может служить прямым предшественником радикала ×F, прежде всего в результате нейтрализации F- первичным катион-радикалом:
Прямое присоединение F - к катион-радикалу затруднено из-за избыточной энергии обоих реагентов. Термализованный ×F (из реакции (14)) может присоединяться к ГФАА как с образованием предшественника Z6:
так и путем диссоциативного присоединения с образованием Z4:
Радикал, возникающий в реакции (15), далее может преобразоваться в Z6 за счет диспропорционирования с некоторыми Н-дефицитными радикалами
Радикал ×F неактивен в процессах F-отщепления [19], но проявляет высокую реакционную способность в Н-отщеплении с образованием НF:
НF может появляться при протонировании F- (например, в присутствии Z3) или в результате прямого элиминирования HF из анион-радикала [18, 20]. Однако гомолитический разрыв одиночной связи в жидкости более вероятен, по сравнению со сложной перегруппировкой, дающей молекулу HF. Радиолиз частично фторированных алифатических соединений, как правило, сопровождается образованием НF по радикальному механизму. Например, при облучении формаля-2 (бис(2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентокси)-метана, C11F16H8O2) выход HF достигает 0.5 мкмоль/Дж [19, 21]. Но формаль-2 состоит из насыщенных связей, а электронная доля F (0.615) и H (0.034) в нем выше, чем в ГФАА (около 0.529 и 0.020 соответственно). Число атомов Н в ГФАА в 3 раза меньше, чем атомов F, и они располагаются в пределах системы сопряжения, т.е. рядом с двойными связями. Таким образом, в формале-2 легкие радикалы преимущественно отщепляют Н, а в ГФАА доминирует их присоединение. НF весьма реакционноспособная кислота, способная присоединяться по двойным связям:
В результате образуется Z6. Тем самым реакция (20) снижает содержание ненасыщенных соединений. Высокая концентрация окружающих молекул ГФАА (около 7.07 моль/дм3) делает реакцию (20) весьма значимой. Это, с одной стороны, препятствует определению начального выхода HF и, с другой стороны, не дает возможности вычленить основной механизм образования Z6. В принципе, накопление НF является негативным с точки зрения радиолитической стабильности вещества – несвязанная кислота повышает вероятность его пост-радиационной деградации в процессах альдольно-кротоновой конденсации и окисления двойных связей. Но строение и химические свойства ГФАА препятствуют накоплению свободной HF, что благоприятно с точки зрения стабильности облученного ГФАА. Однако в многокомпонентных экстракционных системах, содержащих алифатические соединения, возникновение HF неизбежно вследствие отщепления Н атомами фтора от алкильных групп.
Катионный и анионный масс-спектры ГФАА свидетельствуют о сравнительно низкой вероятности прямого отрыва группы ОН [9]. Однако появление трифторуксусной кислоты (Z3) свидетельствует о реализации разрыва одинарной связи С-ОН. Возможно, предшественником Z3 является радикал ×ОН, образующийся в реакции типа (16). Радикал ×ОН способен присоединяться к карбонильным соединениям [13, 14, 16], причем вероятно диссоциативное присоединение:
По крайней мере, выходы Z3 и Z4 довольно близки, что согласуется с возможностью образования Z3 через последовательные реакции (16) и (21).
Обычно свободная диффузия ионов и радикалов из первичной “клетки” способствует разнообразию продуктов радиолиза. Но согласно рис. 1, в жидком ГФАА набор продуктов довольно ограниченный. Быстрый захват электронов еще на стадии их термализации ведет к образованию анионов на сравнительно малом расстоянии от первичных катионов. При этом анионы менее подвижны, чем электрон. А более низкая полярность и слабое межмолекулярное взаимодействие в ГФАА, по сравнению с АА и спиртами, обеспечивает более широкий радиус кулоновского взаимодействия ионов. Таким образом, вероятно, что большинство катионов и анионов, будучи громоздкими, пребывают в пределах онзагеровского радиуса относительно друг друга. Парная нейтрализация первичных ионов обычно генерирует возбужденную молекулу, а трифторметильные группы способствуют быстрому рассеянию избыточной энергии. Как следствие, выход деградации ГФАА снижается. Первичные радикалы тоже вынуждены реагировать друг с другом непосредственно в “клетке”, поскольку высокая плотность и вязкость ГФАА препятствуют их миграции наружу. Вследствие обратных процессов радикальной рекомбинации наблюдаемый выход деградации ГФАА также понижается.
С другой стороны, низкая мобильность анион-радикалов по сравнению с электронами повышает вероятность того, что реакции некоторых первичных высоковозбужденных катионов с растворителем, а также реакции их перегруппировки или фрагментации успеют осуществиться до парной нейтрализации. Об этом, в частности, свидетельствует заметный выход разрыва С–СF3 связи с образованием продуктов Z1, Z2, Z8 и Z9 (рис. 1).
Таким образом, в ГФАА преобладают разрывы одинарных связей С–СF3 и С–F. Образуются тяжелые радикалы, где радикальный центр локализован на атомах С(2) или С(1). Кроме того, в первичных реакциях типа (4) и (8) возникает радикал с неспаренным электроном при С(3). Именно радикалы ×С(1), ×С(2) и ×С(3) образуют тяжелые продукты Z8 (×С(1) + ×С(2)), Z9 (×С(1) и ×С(3)) и Z10 (димеризация ×С(3)). Однако продуктов димеризации ×С(1) или димеризации ×С(2), а также продукта рекомбинации ×С(2) и ×С(3) практически не наблюдается. Это маловероятно при гомогенном распределении этих радикалов. Но вполне вероятно, если рекомбинация радикалов происходит в “клетке”. Следовательно, преобладают клетки, где а) одновременно происходит разрыв одинарных связей С–СF3 и С–F, и б) где доминирует разрыв связи С–СF3. При этом в обоих типах клеток возникает радикал ×С(3) как продукт реакций ГФАА с первичным катион-радикалом или с малым фрагментарным радикалом. По-видимому, клеток, содержащих только ×С(3), немного, поэтому выход Z10 наименьший. В свою очередь, часть радикалов ×С(2) распадается с элиминированием СО (реакция (2)).
Для органических ионов характерны реакции с растворителем, состоящие в ион-молекулярной конденсации или в переносе протона. Например, в кетонах и дикетонах возможна реакция:
Последующая нейтрализация катиона приводит к образованию кетоспирта Z5:
Z5 мог бы также возникать при диспропорционировании Н-аддуктов:
Однако отсутствие других продуктов, образуемых с участием Н-аддуктов, указывает на малую роль реакций (12) и (24). Ионные процессы могут также обусловливать образование некоторых вторичных олигомеров, наблюдающихся в облученном ГФАА при высоких поглощенных дозах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Связи С–СF3 наиболее слабые в ГФАА, но их меньше, чем связей С–F. К тому же при сильном эффекте “клетки”, наиболее компактным интермедиатам (F- и ×F) легче отдалиться от комплиментарного иона или радикала. Поэтому наблюдаемые выходы разрыва связей С–F (0.062–0.66) и С–СF3 (0.66–0.67) сопоставимы друг с другом. Главным летучим продуктом является СО. Он, вероятно, образуется при термостимулируемом распаде радикалов ×С(2). Хотя разница температур между режимами АР и БР довольно мала (50°), она обеспечивает разный выход образования СО. При 293 К распадается около 22% радикалов ×С(2), а при 343 К – около 34%.
Радиолиз жидкого ГФАА приводит к образованию кислот – уксусной и фтористоводородной. Однако свободной НF практически не наблюдается вследствие присоединения ее предшественников к ГФАА. HF также может расходоваться в реакциях альдольно-кротоновой конденсации и окисления ГФАА. Начальный выход деградации ГФАА близок к 0.29 и 0.32 мкмоль/Дж при 293 и 343 К соответственно. Увеличению выхода с ростом температуры способствует ослабление эффекта “клетки”.
Эффективное участие CF3-групп в тушении возбуждения и сильный эффект “клетки” снижают выход деградации ГФАА по сравнению с алканами и АА. Наиболее тяжелыми продуктами в АА являлись димеры радикала, имеющего неспаренный электрон у атома С(3). Их выходы составляли около 0.015 и 0.05 мкмоль/Дж в режимах АР и БР соответственно. В облученном ГФАА выход таких димеров намного ниже. Одна из причин этого состоит в медленной диффузии радикалов из-за высокой вязкости и плотности ГФАА. Вероятно, большинство радиолитических реакций в жидком ГФАА происходят в “клетке”. Схожий низкий выход деградации (0.30 мкмоль/Дж) наблюдался ранее при радиолизе жидкого формаля-2 [19, 21].
В данной работе описаны ключевые процессы деградации ГФАА при прямом поглощении энергии ионизирующего излучения. Несомненно, в радионуклидных комплексах и адсорбционных слоях на основе ГФАА эти процессы дополняются реакциями с участием интермедиатов, образующихся из воды, азотной кислоты, нитратов и вспомогательных ингредиентов.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы благодарны Центру коллективного пользования физико-химическими методами исследования ИФХЭ РАН за предоставленное оборудование.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа выполнена в рамках государственной темы 122011300061-3.
Об авторах
С. И. Власов
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Email: ponomarev@ipc.rssi.ru
Россия, Москва
Е. М. Холодкова
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Email: ponomarev@ipc.rssi.ru
Россия, Москва
А. В. Пономарев
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: ponomarev@ipc.rssi.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Utke I., Swiderek P., Höflich K., Madajska K., Jurczyk J., Martinović P., Szymańska I.B. // Coord. Chem. Rev. 2022. V. 458. P. 213851.
- Travnikov S.S., Fedoseev E.V., Davydov A.V., Myasoedov B.F. // J. Radioanal. Nucl. Chem. Lett. 1985. V. 93. P. 227.
- Gandomi F., Vakili M., Takjoo R., Tayyari S.F. // J. Mol. Struct. 2022. V. 1248. P. 131347.
- Lutoshkin M.A., Taydakov I.V. // J. Solution Chem. 2023. V. 52. P. 304.
- Liu H., Wang X., Lan Z., Xu H. // Sep. Purif. Technol. 2021. V. 262. P. 118309.
- Shahbazi S., Stratz S.A., Auxier J.D., Hanson D.E., Marsh M.L., Hall H.L. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2017. V. 311. P. 617.
- De Vries B., Muyskens M. // Comput. Theor. Chem. 2016. V. 1097. P. 15.
- Haugen E.A., Hait D., Scutelnic V., Xue T., Head-Gordon M., Leone S.R. // J. Phys. Chem. A 2023. V. 127. P. 634.
- Lugo P.L., Straccia V.G., Rivela C.B., Patroescu-Klotz I., Illmann N., Teruel M.A., Wiesen P., Blanco M.B. // Chemosphere 2022. V. 286. P. 131562.
- Gutiérrez-Quintanilla A., Chevalier M., Platakyté R., Ceponkus J., Crépin C. // Eur. Phys. J. D 2023. V. 77. P. 158.
- Vlasov S.I., Smirnova A.A., Ponomarev A.V., Uchkina D.A., Sholokhova A.Yu., Mitrofanov A.A. // High Energy Chem. 2023. V. 57. P. 258.
- Gromov A.A., Zhanzhora A.P., Kovalenko O.I. // Meas. Stand. Ref. Mater. 2022. V. 17. P. 23.
- Uchkina D.A., Ponomarev A.V. // Mendeleev Commun. 2023. V. 33. P. 390.
- Vlasov S.I., Kholodkova E.M., Ponomarev A.V. // High Energy Chem. 2021. V. 55. P. 393.
- Traven V.F. Frontier orbitals and properties of organic molecules (Ellis Horwood Series in Organic Chemistry) / Mellor, J. ed. New York: Ellis Horwood Ltd, 1992.
- Woods R., Pikaev A. Applied radiation chemistry. Radiation processing. NY: Wiley, 1994.
- Shuman N.S., Miller T.M., Friedman J.F., Viggiano A.A., Maergoiz A.I., Troe J. // J. Chem. Phys. 2011. V. 135. P. 054306.
- Ómarsson B., Engmann S., Ingólfsson O. // RSC Adv. 2014. V. 4. P. 33222.
- Zhestkova T.P., Zhukova T.N., Ponomarev A.V., Tananaev I.G. // Mendeleev Commun. 2008. V. 18. P. 338.
- Disselkoen K.R., Alsum J.R., Thielke T.A., Muyskens M.A. // Chem. Phys. Lett. 2017. V. 672. P. 112.
- Belova E.V., Ponomarev A.V., Smirnov A.V. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2022. V. 331. P. 4405.
Дополнительные файлы