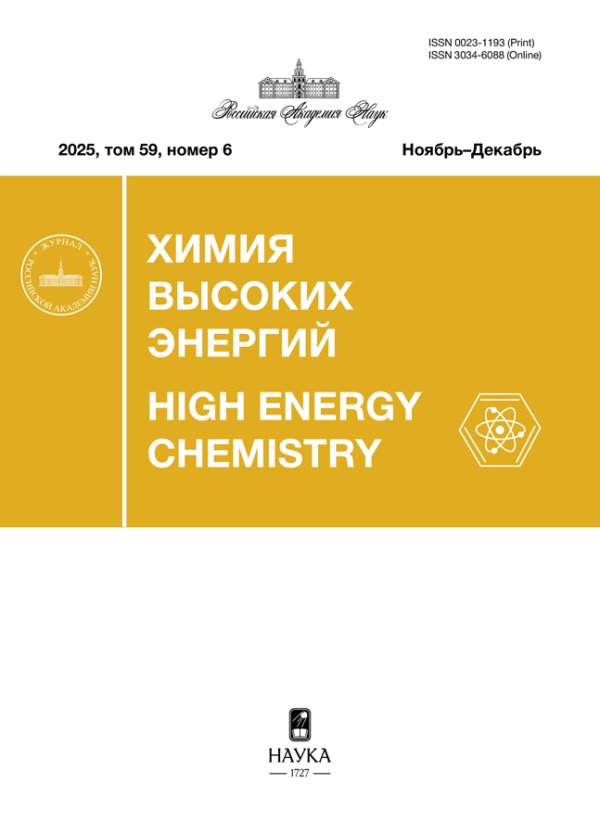Conformational structure of a complex of two oppositely charged polyelectrolytes on the surface of a charged spherical metallic nanoparticle
- Authors: Kruchinin N.Y.1, Kucherenko M.G.1
-
Affiliations:
- Orenburg State University
- Issue: Vol 58, No 6 (2024)
- Pages: 436-446
- Section: GENERAL QUESTIONS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0023-1193/article/view/281529
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023119324060034
- EDN: https://elibrary.ru/TIDRZO
- ID: 281529
Cite item
Full Text
Abstract
This study employs molecular dynamics to investigate the conformational changes of a complex comprising two oppositely charged polyelectrolytes and a polyampholyte block copolymer adsorbed on the surface of a spherical metallic nanoparticle, as a function of its electrical charge. A mathematical model is presented for the rearrangement of two macromolecular shells of different signs spread on a charged spherical nanoparticle, together with an estimate of the stiffness of the polyelectrolyte chain as a function of its charge. Radial distributions of the average density of atoms of the polyelectrolyte complex and block copolymer situated on the surface of a charged spherical metallic nanoparticle are calculated. The polyelectrolytes with differing charges in the complex, along with the block copolymer, formed a tight envelope around the neutral spherical nanoparticle. As the absolute value of the nanoparticle charge increased, the macromolecular edge underwent swelling, resulting in the formation of two layers comprising differently charged polyelectrolytes or block copolymer fragments.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Золотые наночастицы с модифицированной полимерными молекулами поверхностью широко применяются в биомедицине и биохимии в качестве нанозондов и наноконтейнеров для доставки лекарственных препаратов, а также в различных химических сенсорах, основанных на эффекте гигантского комбинационного рассеяния [1–6]. Особый интерес вызывает использование в качестве полимерной оболочки молекул полиэлектролитов или в целом нейтральных полиамфолитов [7–10], конформационная структура которых чувствительна к величине электрического заряда на поверхности адсорбента. При этом на наночастице могут быть адсорбированы как одна макромолекула, состоящая из блоков с различным составом звеньев, так и несколько полиэлектролитных макроцепей. Если с макромолекулой будут связаны фотоактивные молекулы (например, молекулы красителей), то их расположение относительно поверхности адсорбента также будет изменяться при перестройке конформаций макроцепей, причем различные фотоактивные молекулы могут быть связаны с разными частями блок-сополимера или различными полиэлектролитами в зависимости от состава их звеньев [11, 12]. При изменении конформаций макроцепей под воздействием электрического поря будет изменяться расстояние связанных с макроцепью органических люминофоров от поверхности плазмонной наночастицы, а их кинетические и радиационные характеристики, имеющие сильную дистанционную зависимость от поверхности, будут изменяться. А это позволит управлять характеристиками наносенсоров и нанозондов, у которых в качестве активного элемента используются подобные гибридные наносистемы плазмонных наночастиц с макромолекулярной оболочкой.
Конформационные изменения в целом нейтральных полиамфолитов с периодическим распределением заряженных звеньев по макроцепи [13–17], а также однородно заряженных полиэлектролитов [18–20] на поверхности металлической наночастицы существенно зависят от ее электрического заряда или дипольного момента, индуцированного внешним электрическим полем. Другая картина конформационных изменений будет наблюдаться, если на поверхности наночастицы расположить две противоположно заряженные макроцепи полиэлектролита. Если заряд этих полиэлектролитных макромолекул равен по модулю, то они будут образовывать на поверхности наночастицы в целом нейтральную полимерную оболочку, состоящую из молекул двух типов. Если изменить заряд наночастицы, то конформационная структура адсорбированных полиэлектролитов, находящихся в данном комплексе, будет меняться по-разному в зависимости от их знака заряда. Также вызывает интерес исследование характера конформационных изменений на поверхности заряженной сферической металлической наночастицы макромолекулы блок-сополимера, в котором два противоположно заряженных полиэлектролита последовательно объединены в один в целом нейтральный полиамфолит.
Таким образом, целью данной работы является исследование изменений конформаций двух противоположно заряженных полиэлектролитов, в том числе последовательно соединенных в один в целом нейтральный полиамфолит, на поверхности сферической металлической наночастицы в зависимости ее электрического заряда.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНФОРМАЦИЙ ЦЕПЕЙ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ И БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ, АДСОРБИРОВАННЫХ НА СФЕРИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦАХ
Модель сферического конденсатора и эффективного полиамфолита
Если разноименно заряженные блоки полиэлектролитного блок-сополимера имеют достаточно большую длину l>>R, то оба варианта полиэлектролитных систем, отдельных разноименно заряженных полимерных цепей и блок-сополимеров, будут демонстрировать одинаковое поведение в отношении формирования конформационной структуры при их адсорбции на наночастице радиуса R. Различия будут заметными лишь в случае коротких блоков l~R. В предельном варианте l<R два сопряженных (+ −) блока образуют электрический диполь с моментом p, а цепь блок-сополимера будет представлять собой полиамфолит с трудно ориентируемыми во внешнем поле диполями. Для более протяженных блоков приходим к модели двусортного полиэлектролита.
Длинноцепной предел. В случае независимых цепей двух противоположно заряженных полиэлектролитов и очень длинных l>>R блоков сополимеров на первое место выходят зарядовые корреляции объемного типа. При адсорбции цепей можно предположить высокую вероятность формирования слоистой структуры с чередующимися слоями противоположного знака. В такой ситуации уместно использовать наглядную модель сферического конденсатора из двух макроцепных оболочек разного знака. При адсорбции на заряженной наночастице взаимное притяжение соседствующих слоев конкурирует с эффектом их разделения в поле заряженного шара.
Сила Fjk взаимного притяжения двух участков с площадями из разных слоев j = 1, 2, несущих заряды ∆q1 и ∆q2 противоположного знака:
,
где – элемент телесного угла, опирающегося на площадку , определяется произведением ∆q1∆q2, поскольку
.
Таким образом, парциальные заряды ∆q1 и ∆q2 полностью определяются величинами полных зарядов q1 и q2 оболочек и единым элементарным телесным углом .
Сила, действующая на элементы заряженных слоев из цепей со стороны заряженного шара с зарядом Q, – кулоновская. Поэтому
.(1)
В силу теоремы Ирншоу она не может уравновешивать силу Fjk – эта роль отведена силам реакции твердой поверхности наночастицы, однако кулонова сила FC влияет на величину равновесного радиуса rj внешнего слоя. С увеличением заряда Q зазор между слоями увеличивается, то есть структура эффективно “разбухает”.
Предел коротких блоков. В противоположном пределе малых длин l < R блоков сополимера приходим к модели эффективного полиамфолита, поскольку пара смежных противоположно заряженных блоков образует в целом электронейтральный диполь. К сожалению, описание взаимодействия дипольных моментов p двойных блоков с внешним электрическим полем заряженной наночастицы не может быть произведено в рамках ранее использованной в ряде работ [14, 17–20] модели независимых звеньев по уже упомянутой причине затрудненного выстраивания векторов дипольного момента в поле заряда наночастицы. Очевидно, что в этом случае в модель должна быть введена эффективная персистентная длина L >2l блочного сополимера, которая должна быть меньше по величине, чем персистентная длина L0 цепи однородного полиэлектролита. Блочная структура сополимера с малой величиной l эффективно уменьшает персистентную длину L. Это происходит по причине укорачивания дальнодействующего кулоновского взаимодействия при переходе от монополя к диполю.
Жесткость цепей полиэлектролита и регулярного сополимера в пределе коротких длин блоков
Однородно заряженный (Q) фрагмент цепи длиной L с линейной плотностью заряда будет обладать тем большей жесткостью, чем больший суммарный заряд Q будет находиться на этом фрагменте. Определим энергию U суммарного кулоновского взаимодействия звеньев фрагмента друг с другом, полагая, что при изгибе он имеет одинаковую кривизну с радиусом кривизны R. Тогда энергия U будет определяться следующим двойным интегралом:
, (2)
где – угловые координаты сегментов цепи на дуге L с радиусом кривизны R.
Выполняя интегрирование по одному из углов приходим к квадратурному выражению для энергии U:
. (3)
Для устранения расходимости в расчетах нижний предел интегрирования следует заменить на l/(2R), где l – характерная длина сегмента цепи. Не имеющий размерности интеграл в (3) параметрически зависит от радиуса R кривизны изогнутого фрагмента. Увеличение общего заряда Q приводит к возрастанию жесткости цепи и росту R. Изгиб фрагмента с большей величиной кривизны приводит к росту энергии U. Вероятность деформации отрезка L в растворе с температурой Т определяется больцмановским фактором exp(-U/kT), поэтому изгибы с малыми радиусами R затруднены для цепей с большим зарядом Q.
В случае регулярного блок-сополимера, в пределе коротких длин блоков два смежных блока на цепи образуют дипольный момент pj. Вводя дипольный момент единицы длины цепи соотношением , для энергии взаимодействующих диполей цепного фрагмента L можем записать
. (4)
В этом варианте цепи как эффективного полиамфолита кратные интегралы в (4) допускают вычисление в аналитическом виде:
. (5)
Первое слагаемое в (4) дает основной вклад в энергию Up, так как отражает взаимодействие соседних диполей блок-сополимера. Выражение в квадратных скобках (5) представляет собой величину интеграла диполь-дипольного взаимодействия всех сегментов, включенных в фрагмент L.
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
С использованием программного комплекса NAMD 2.14 [21] было произведено молекулярно-динамическое (МД) моделирование полипептидов на поверхности заряженной сферической золотой наночастицы радиуса 1.5 нм, модель которой была получена путем вырезания из кристалла золота [22]. При этом атомы наночастицы в процессе моделирования оставались зафиксированными.
Были рассмотрены по три положительно и отрицательно заряженных полипептидов с различным расстоянием между заряженными звеньями в макроцепи, состоящие из 400 аминокислотных остатков:
1) полипептид P1 (суммарный заряд макроцепи +20e), состоящий из 380 звеньев Ala (A) с равномерно распределенными 20 звеньями Arg (R, заряд звена +1e) – (A10RA9)20;
2) полипептид P2 (суммарный заряд макроцепи +40e), состоящий из 360 звеньев Ala с 40 звеньями Arg – (A5RA4)40;
3) полипептид P3 (суммарный заряд макроцепи +80e), состоящий из 320 звеньев Ala с 80 звеньями Arg – (A2RA2)80;
4) полипептид N1 (суммарный заряд макроцепи –20e), состоящий из 380 звеньев Ala с равномерно распределенными 20 звеньями Asp (D, заряд звена –1e) – (A10DA9)20;
5) полипептид N2 (суммарный заряд макроцепи –40e), состоящий из 360 звеньев Ala с 40 звеньями Asp – (A5DA4)40;
6) полипептид N3 (суммарный заряд макроцепи –80e), состоящий из 320 звеньев Ala с 80 звеньями Asp – (A2DA2)80.
Полипептиды с одинаковыми по модулю зарядами попарно располагались на поверхности сферической наночастицы, образую нейтральный полимерный комплекс: P1 и N1, P2 и N2, P3 и N3.
Также были рассмотрены три в целом нейтральные полиамфолитные молекулы блок-сополимера длиной 800 звеньев, состоящего из соединенных в одну макроцепь пар полиэлектролитных полипептидов с одинаковым по модулю зарядом:
7) полипептид NP1 – (A10DA9)20(A10RA9)20;
8) полипептид NP2 – (A5DA4)40(A5RA4)40;
9) полипептид NP3 – (A2DA2)80(A2RA2)80.
Для полипептидов было использовано силовое поле CHARMM36 [23, 24]. Взаимодействие с золотой наночастицей описывалось потенциалом Леннарда-Джонса, параметризованным в работе [25] и широко использующимся при МД-моделирования молекул на поверхности золотой наночастицы [26–31]. Потенциал Ван-дер-Ваальса обрезался на расстоянии 1.2 нм с помощью функции сглаживания между 1.0 и 1.2 нм. Электростатические взаимодействия рассчитывались непосредственно на расстоянии 1.2 нм, для больших дистанций использовался метод “частица–сетка” Эвальда (PME) [32] с шагом сетки 0.11 нм. Вся молекулярная система была помещена в куб с ребрами 22 нм, заполненный молекулами воды TIP3P [33].
МД-моделирование производилось при постоянной температуре (термостат Берендсена): сначала температура устанавливалась равной 600 К, а на конечном участке траектории – 300 К. Это позволяло достигать более глубоких минимумов конформационной энергии макроцепи, в том числе на более коротком участке траектории. Для контроля получения равновесных конформаций осуществлялось наблюдение за изменением среднеквадратичного расстояния между атомами полипептида в различных конформациях (RMSD). Время моделирования достигало 30 нс при шаге 1 фс.
Сначала производилось моделирование на поверхности нейтральной сферической золотой наночастицы. При этом пары противоположно заряженных полипептидов или один полиамфолитный блок-сополимер располагались в виде неравновесных клубков рядом с поверхностью золотой наночастицы. Было рассмотрено по три конформации для каждого комплекса из двух полиэлектролитных полипептидов или блок-сополимера на поверхности наночастицы.
Конформации полипептидов, адсорбированных на поверхности нейтральной наночастицы, были использованы в качестве стартовых при моделировании на поверхности заряженной наночастице. Поверхность наночастицы заряжалась путем присваивания парциальных зарядов атомам, расположенным на ее поверхности [34, 35]. Были получены следующие значения поверхностной плотности заряда сферической наночастицы: σ±0.05≈ ±1e/нм2, σ±0.1≈ ±2e/нм2, σ±0.2≈ ±4e/нм2. Нижний индекс обозначает парциальный заряд атома на поверхности наночастицы.
По результатам моделирования по всем полученным конформациям для каждой пары полиэлектролитов или каждого полиамфолитного блок-сополимера при различных зарядах наночастицы рассчитывались радиальные распределения средней плотности атомов полипептида, в том числе с дифференциацией по типам звеньев и различно заряженным фрагментам блок-сополимера.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В результате молекулярно-динамического моделирования двух разноименно заряженных полиэлектролитов происходила адсорбция макромолекул на поверхности сферической золотой наночастицы и ее обволакивание (рис. 1а). Противоположно заряженные макроцепи притягивались друг к другу, образуя в целом нейтральный макромолекулярный комплекс, который удерживался на поверхности наночастицы за счет Ван-дер-Ваальсова притяжения. На рис. 1в (кривые 2 и 3) изображены радиальные распределения средней плотности атомов полиэлектролитов, находящихся в комплексе и адсорбированных на поверхности нейтральной сферической наночастицы. Данные радиальные распределения средней плотности атомов полипептидов имеют характерный пик у поверхности адсорбента, схожий для случая адсорбции нейтральных макроцепей [12, 13].
Рис. 1. Полиэлектролиты P3 и N3 (а), а также блок-сополимер NP3 (б) после МД-моделирования на нейтральной сферической золотой наночастице (красным цветом изображены положительно заряженные макроцепь или фрагмент блок-сополимера, а синим – отрицательно заряженные макроцепь или фрагмент блок-сополимера). Радиальные зависимости средней плотности атомов полипептидов (в) на поверхности нейтральной наночастицы: суммарное комплекса полипептидов P3 и N3 (1), отдельные для с полипептидов N3 (2) и P3 (3), блок-сополимера NP3 (4), а также отрицательно (5) и положительно (6) заряженных фрагментов полипептида NP3.
Такой характер адсорбции комплекса из двух полиэлектролитных полипептидов значительно отличается от конформаций однородно заряженных полипептидов, адсорбированных на поверхности наночастиц по одиночке [18, 19]. C увеличением доли заряженных звеньев вследствие их отталкивания друг от друга у полиэлектролита возрастает жесткость макроцепи. Вследствие этого, для адсорбированных на наночастице полипептидов с равномерно распределенными по макроцепи заряженными аминокислотными остатками одного знака наблюдалось выбрасывание больших по длине петель макромолекулы, а также спиралевидное обвивание полиэлектролитом нанообъекта [18].
Конформационная структура адсорбированного на нейтральной наночастице полиамфолитного блок-сополимера (рис. 1б), состоящего из соединенных последовательно полиэлектролитов, была схожей с конформацией комплекса из раздельных заряженных макроцепей. На рис. 1в видно, что кривая радиального распределения средней плотности атомов полипептида NP3 (кривая 4) практически совпадает с суммарным радиальным распределением плотности атомов полипептидов N3 и P3 (кривая 1), а кривые распределений средней плотности по атомам отрицательного и положительного фрагмента блок-сополимера NP3 (кривые 5 и 6) подобны кривым 2 и 3, построенными для заряженных полипептидов N3 и P3 в комплексе.
При увеличении абсолютной величины заряда наночастицы, вследствие притяжения противоположно заряженных аминокислотных остатков к поверхности наночастицы и отталкивания одноименно заряженных аминокислотных остатков, плотная конформационная структура блок-сополимера или комплекса из двух полиэлектролитов, образованная за счет притяжения противоположно заряженных звеньев друг к другу, разрушалась (рис. 2). На поверхности заряженной сферической металлической наночастицы звенья одноименно заряженного по отношению к ней полиэлектролита в комплексе из двух полиэлектролитов (рис. 2а, 2б, 2г) или звенья одноименно заряженного фрагмента блок-сополимера (рис. 2в) отдалялись от поверхности и располагались на периферии, образовывая при этом значительные по длине петли макроцепи, которые выбрасывались в пространство вокруг наночастицы. Это происходило потому, что звенья одноименно заряженного полиэлектролита при увеличении абсолютного заряда наночастицы все сильнее высвобождались от сцепления с противоположно заряженной макроцепью. Вследствие жесткости заряженной макроцепи, обусловленной отталкиванием звеньев друг от друга, образовывались значительные по длине петли. Поэтому периферийный слой из макроцепи с одноименным знаком заряда по отношению к наночастице становился очень рыхлым (рис. 2).
Рис. 2. Полиэлектролиты P3 и N3 (а, б), блок-сополимер NP3 (в), а также полиэлектролиты P2 и N2 (г) после МД-моделирования на заряженной с поверхностной плотностью σ+0.1 (а), σ+0.2 (б, г) и σ–0.2 (в) сферической золотой наночастице (красным цветом изображена положительно заряженные макроцепь или фрагмент блок-сополимера, а синим – отрицательно заряженные макроцепь или фрагмент блок-сополимера).
А у поверхности наночастицы находился полиэлектролит или фрагмент блок-сополимера со знаком заряда, противоположным знаку заряда наночастицы. При этом из-за электростатического притяжения к наночастице выброса петель полиэлектролита или фрагмента блок-сополимера, заряженных противоположно по отношению к поверхности, не происходило. Этот слой около наночастицы был значительнее плотнее периферийного, но также набухал по сравнению со случаем с нейтральной наночастицы из-за Ван-дер-Ваальсового и электростатического взаимодействия с периферийным противоположно заряженным макроцепным слоем. При этом характер конформационных изменений для комплекса из двух противоположно заряженных полиэлектролитов и для полиамфолитного блок-сополимера, составленных их этих полиэлектролитов, был схожим.
Как видно из рис. 3а, на заряженной наночастице при поверхностной плотности заряда σ+0.05 (кривая 2) радиальная зависимость средней плотности атомов всего комплекса из полиэлектролитов N3 и P3 почти не изменилась по сравнению со случаем нейтральной наночастицы (кривая 1). При увеличении поверхностной плотности заряда наночастицы до σ±0.1 происходило значительное снижение кривых радиальных распределений средней плотности атомов комплекса полиэлектролитов (рис. 2а, кривые 3 и 4), а дальнейшее увеличение абсолютной величины поверхностной плотности заряда наночастицы до σ±0.2 привело еще к более сильному набуханию опушки на поверхности наночастицы (рис. 2а, кривые 5 и 6).
При этом видно, что для отрицательно заряженной наночастицы (рис. 3а, кривые 4 и 6) зависимости радиальных распределений средней плотности атомов полиэлектролитного комплекса ниже, чем зависимости радиальных распределений средней плотности для того же полиэлектролитного комплекса на положительно заряженной наночастице (рис. 3а, кривые 3 и 5) при той же абсолютной величине поверхностной плотности заряда. Такое отличие связано со структурой заряженных аминокислотных остатков Arg и Asp, у которых избыточный заряд сосредоточен на конце радикала. У положительно заряженного аминокислотного остатка Arg радикал имеет значительно большую длину, чем у отрицательного заряженного аминокислотного остатка Asp. При адсорбции комплекса полиэлектролитов на отрицательно заряженной наночастице у поверхности в основном сосредоточены звенья Arg (рис. 4), а на положительно заряженной поверхности наночастицы адсорбированы звенья Asp. При адсорбции на сильно заряженной поверхности [12, 13] заряженные аминокислотные остатки касаются поверхности, как правило, только заряженным концом радикала, а остальная часть радикала вытягивается от поверхности и соединяется с пептидным остовом. Большая длина радикала заряженного аминокислотного остатка, адсорбированного на противоположно заряженной поверхности, приводит к более сильному смещению от поверхности всего полиэлектролитного полипептида и, следовательно, к большему снижению плотности макромолекулярной опушки у поверхности.
Рис. 3. Радиальные зависимости средней плотности атомов комплекса полипептидов P3 и N3 (а), а также блок-сополимера NP1 (б) на поверхности заряженной сферической металлической наночастицы с различной поверхностной плотностью заряда: 0 (1), σ+0.05 (2), σ+0.1 (3), σ–0.1 (4), σ+0.2 (5) и σ–0.2 (6).
Рис. 4. Радиальные зависимости средней плотности атомов комплекса полиэлектролитов N2 и P2 на поверхности сферической металлической наночастицы, заряженной с поверхностной плотностью σ–0.2 (1 – суммарное по всем атомам комплекса полиэлектролитов, 2 и 3 — по атомам полиэлектролитов N2 и P2, 4 и 5 — по атомам звеньев Arg и Asp).
Подобная картина при адсорбции на заряженной сферической металлической наночастице наблюдалась для всех рассмотренных полиэлектролитных комплексов, а также для полиамфолитных блок-сополимеров. На рис. 3б изображены радиальные распределения средней плотности блок-сополимера NP1 в зависимости от заряда наночастицы. Видно, что характер набухания макромолекулярной оболочки блок-сополимера схож с со случаем полиэлектролитного комплекса (рис. 3а), в котором положительные и отрицательно полиэлектролиты не соединены в одну макроцепь. А на рис. 5 изображено сравнение радиальных распределений средней плотности положительно и отрицательно заряженных фрагментов блок-сополимера NP3 (кривые 3 и 4) с такими же распределениями, но построенными для разделенных его фрагментов (кривые 1 и 2), находящихся на поверхности наночастицы, заряженной с поверхностной плотностью заряда σ-0.2. Видно, что данные зависимости для полиэлектролитного комплекса из двух противоположно заряженных молекул и для фрагментов полиамфолитного блок-сополимера, почти совпадают, что говорит о схожем характере конформационных изменений.
Рис. 5. Радиальные зависимости средней плотности атомов полиэлектролитов N3 (1) и P3 (2) в их комплексе, а также отрицательно (3) и положительно (4) заряженных фрагментов блок-сополимера NP3 на поверхности сферической металлической наночастицы, заряженной с поверхностной плотностью σ–0.2 .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На нейтральной поверхности сферической металлической наночастицы два полиэлектролита, разноименно заряженных с одинаковым по модулю зарядом, плотно обволакивают наночастицу, переплетаясь между собой и образуя в целом нейтральный макромолекулярный комплекс. При этом характер адсорбции полиэлектролитного комплекса из двух заряженных макроцепей был схож со случаем, когда эти два полиэлектролита были соединены последовательно в одну макромолекулу блок-сополимера. Кривые радиальных распределений средней плотности атомов комплекса из двух противоположно заряженных полиэлектролитов были схожи кривыми радиальных распределений средней плотности атомов блок-сополимера, состоящего из этих полиэлектролитов.
В случае адсорбции комплекса из двух противоположно заряженных полиэлектролитов на поверхности заряженной сферической металлической наночастицы происходит набухание макромолекулярной опушки с появлением двух разноименно заряженных слоев, которые становились все более рыхлыми при увеличении абсолютной величины заряда наночастицы. Такие конформационные изменения полиэлектролитного комплекса согласуются с поведением макромолекулярных оболочек разного знака на поверхности заряженной наночастицы, описанным в математической модели.
В связи с тем, что при увеличении абсолютной величины заряда наночастицы происходит разъединение переплетенных между собой макромолекул полиэлектролита, у макроцепи полиэлектролита, отталкивающейся от наночастицы и расположенной на периферии, образуются большие петли макроцепи, которые выбрасываются в пространство вокруг наночастицы. Так как в данном случае заряд звеньев полиэлектролита, расположенного на периферии, не компенсировался противоположно заряженным полиэлектролитом, который располагался у поверхности, то жесткость цепи при высвобождении от второго полиэлектролита все сильнее возрастала, вследствие отталкивания звеньев друг от друга, что и приводило к образованию таких петель.
Конформационные изменения блок-сополимера на поверхности заряженной сферической наночастицы были схожими с перестройкой конформаций комплекса из двух полиэлектролитов, из которых был составлен полиамфолитный блок-сополимер. При этом конформации заряженных фрагментов этого блок-сополимера были подобны конформациям полиэлектролитов того же знака.
Таким образом, на поверхности сферической металлической наночастицы конформационная структура комплекса из двух разноименно заряженных полиэлектролитов или блок-сополимера, состоящего их них, существенно изменяется при изменении заряда наночастицы. Такое изменение плотности и формы макромолекулярной оболочки в зависимости от заряда наночастицы может найти применение для регулировки характеристик поляризуемости гибридной наносистемы “ядро–слой” и позволит управлять ее плазмонными свойствами. Подобные наносистемы с регулируемой плотностью слоев макромолекулярной оболочки могут найти применение при создании и модификации наносенсоров, нанозондов, а также других чувствительных элементов измерительной наноэлектроники.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках научного проекта № FSGU-2023-0003, гранта на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технического развития 075-15-2024-550.
About the authors
N. Y. Kruchinin
Orenburg State University
Author for correspondence.
Email: kruchinin_56@mail.ru
Center of Laser and Informational Biophysics
Russian Federation, OrenburgM. G. Kucherenko
Orenburg State University
Email: kruchinin_56@mail.ru
Center of Laser and Informational Biophysics
Russian Federation, OrenburgReferences
- Theodosiou M., Boukos N., Sakellis E. et al. // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019. V. 183. P. 110420.
- Chen G., Song F., Xiong X., Peng X. // Ind. Eng. Chem. Res. 2013. V. 52. P. 11228.
- Mieszawska A.J., Mulder W.J.M., Fayad Z.A., Cormode D.P. // Mol. Pharmaceutics. 2013. V. 10. P. 831.
- Dallari C., Lenci E., Trabocchi A. et al. // ACS Sens. 2023. V. 8. P. 3693.
- Huang H., Liu R., Yang J. et al. // Pharmaceutics. 2023. V. 15. P. 1868.
- Sproncken C.C.M., Gumí-Audenis B., Foroutanparsa S. et al. // Macromolecules. 2023. V. 56. P. 226.
- Bakhtiari S.E., Joubert v, Pasparakis G. et al. // European Polymer Journal. 2023. V. 189. P. 111977.
- Lueckheide M., Vieregg J.R., Bologna A.J. et al. // Nano Lett. 2018. V. 18. P. 7111.
- Huang B., Wen J., Yu H. et al. // Journal of Molecular Structure. 2022. V. 1256. P. 132510.
- Fuller M., Kӧper I. // Polymers. 2018. V. 10. P. 1336.
- Kucherenko M.G., Izmodenova S.V., Kruchinin N.Yu., Chmereva T.M. // High Energy Chem. 2009. V. 43. P. 592.
- Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G. // Colloid Journal. 2019. V. 81. P. 110.
- Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G. // Surfaces and Interfaces. 2021. V. 27. P. 101517.
- Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G. // High Energy Chemistry. 2022. V. 56. №. 6. P. 499.
- Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G. // Polymer Science Series A. 2023. V. 65. P. 224.
- Kruchinin N.Yu. // Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 2023. V. 14. P. 719.
- Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G., Neyasov P.P. // High Energy Chemistry. 2023. V. 57. P. 459.
- Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G. // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2022. V. 96. № 3. P. 622.
- Kucherenko M. G., Kruchinin N. Yu., Neyasov P.P. // Eurasian Physical Technical Journal. 2022. V. 19. № 2 (40). P. 19–29.
- Kruchinin N.Yu., Kucherenko M. G. // Polymer Science Series A. 2022. V. 64. № 3. P. 240.
- Phillips J.C., Braun R., Wang W. et al. // J. Comput. Chem. 2005. V. 26. P. 1781.
- Mhashal A.R, Roy S. // PLoS One. 2014. V. 9. Is. 12. P. e114152
- MacKerell A.D. Jr., Bashford D., Bellott M. et al. // J. Phys. Chem. B. 1998. V. 102. P. 3586.
- Huang J., Rauscher S., Nawrocki G. et al. // Nature Methods. 2016. V. 14. P.71.
- Heinz H., Vaia R.A., Farmer B.L., Naik R.R. // J. Phys. Chem. C. 2008. V. 112. P. 17281.
- Miyata T., Kawagoe Y., Okabe T. et al. // Polymer Journal. 2022. V. 54. P. 1297.
- Farhadian N., Kazemi M.S., Baigi F.M., Khalaj M. // Journal of Molecular Graphics and Modelling. 2022. V. 116. P. 108271.
- Rabani R., Saidi M.H., Rajabpour A. et al. // Langmuir. 2023. V. 39. P. 15222.
- Zhang C., Jia H., Zhang Y., Du S. // J. Phys. Chem. B. 2023. V. 127. P 9543.
- Gutiérrez-Varela O., Lombard J., Biben T. et al. // Langmuir. 2023. V. 39.P. 18263.
- Wang M., Ni S., Yin Y. et al. // Langmuir. 2024. V. 40. P. 1295.
- Darden T., York D., Pedersen L. // J. Chem. Phys. 1993. V. 98. P. 10089.
- Jorgensen W.L., Chandrasekhar J., Madura J.D. et al. // J. Chem. Phys. 1983. V. 79. P. 926.
- Shankla M., Aksimentiev A. // Nature Communications. 2014. V. 5. P. 5171.
- Chen P., Zhang Z., Gu N., Ji M. // Molecular Simulation. 2018. V. 44. P. 85.
Supplementary files