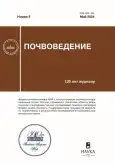Soils of Steppe areas in the Cis-Tundra Open Woodland Subzone on the Right Bank of the Kolyma River in Its Lower Reaches
- Authors: Fedorov-Davydov D.G.1, Davydov S.P.2, Gubin S.V.1, Davydova A.I.2, Zanina O.G.1, Shchelchkova M.V.3, Boeskorov G.G.4
-
Affiliations:
- Institute of Physico-Chemical and Biological Problems of Soil Science of the Russian Academy of Sciences
- Pacific Institute of Geography FEB RAS, North-Eastern Research and Experimental Station
- North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
- Institute of Geology of Diamond and Precious Metals SB RAS
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 707-727
- Section: GENESIS AND GEOGRAPHY OF SOILS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0032-180X/article/view/270790
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24050058
- EDN: https://elibrary.ru/YLMATL
- ID: 270790
Cite item
Full Text
Abstract
The small steppe plots (steppoids) occur at southern slopes among open larch forests of the Lower Kolyma area (northeast Siberia). Depending on a soil parent material they are divided into petrophytic (on a bedrock eluvo-diluvium) and thermophytic (on a silty loam of the Yedoma formation (Ice Complex)) steppoids. A xeromorphic deep thawing soils with diverse humus accumulative horizons, high roots content and considerable water stable powder-like structure develop under steppoids. Soils of steppoids are zooturbated, especially thermophytic ones. They differ from those of the surrounding taiga landscape in the following features: decreased actual and potential acidity; higher content of exchange bases, water-soluble salts, carbonates and organic nitrogen; smaller ratio between concentrations of oxalate- and dithionite-extractable iron. Dark mulle-like forms of humus on the surface of mineral grains are widely represented among the microaccumulations of organic matter in taiga-steppe soils. The cryoxerozem soil formation trait shows better in the event of petrophytic steppoids. Despite the similarity of the soils of thermophytic steppoids with steppe cryoarid ones, they differ in the absence of carbonate accumulative and criohumic horizons as well as the relatively high acidity. Flow-carbonaceous grey-humus lithozem and flow-carbonaceous grey-humus or duff dark-humus soils are distinguished within the petrophytic steppoids just as surface-turbated (zooturbated) grey-humus or duff dark-humus soils are distinguished within the thermophytic steppoids.
Full Text
Введение
В пределах таежной зоны Восточной Сибири, как в горах, так и на равнинах, широко распространены участки со степной растительностью. В разных местах отличаются их названия: “степняки”, “елаканы”, “добуны”, “солнопеки” и т.д. На Крайнем северо-востоке Евразии степные сообщества впервые были описаны Шелудяковой [44] в верховьях Индигирки и Яровым [52] в верховьях Яны. В настоящее время установлено распространение холодных степей в бассейне Индигирки до 69° N [39] и в бассейне Яны до 70° N [49]. Как правило, участки со степной растительностью приурочены к склонам южной экспозиции, часто очень крутым (до 40°), а также к дренированным присклоновым позициям водоразделов и террас. Возможность их существования объясняется локальным сочетанием благоприятных для развития травянистых фитоценозов гидротермических условий на фоне резко континентального семиаридного климата. Многие исследователи рассматривают подобные сообщества в качестве реликтов высокопродуктивных плейстоценовых степей [2, 27, 46, 49, 52–54].
Летом почвы остепненых участков являются наиболее теплыми и сухими [33]. Они фигурировали под разнообразными названиями: каштановидные суглинки [52], таежно-степные [34], горные мерзлотно-таежно-степные [22], горные лугово-степные [12], горно-степные черноземовидные [15], горные мерзлотные маломощные черноземы и темно-каштановые почвы [39], степные криоаридные [7, 9, 13], криодерновые [29], высокогумусные криоксероземы [8], примитивные почвы степоидов [31]. На основании изучения почв холодных степей было составлено представление об ультраконтинентальном холодном аридном [40] или криоксероземном [8] почвообразовании. В классификацию почв России [23] в качестве самостоятельного типа в отделе палево-метаморфических почв вошли криоаридные почвы, выделение которых было обосновано Волковинцером [13]. В настоящее время последние предлагается относить к отделу светлогумусовых аккумулятивно-карбонатных почв [6].
Степные сообщества встречаются и на севере Колымской низменности как в таежной, так и в тундровой зоне. Начало изучению почв под ними было положено Максимовичем [31], который получил ряд ценных сведений об их строении и химическом состоянии.
Цель работы – рассмотреть почвы остепненных участков Колымской низменности в пределах подзоны притундровых редколесий.
Исследования проводили на севере Якутии, в низовье р. Колымы, в районе пос. Черского. Участки со степной растительностью на крутых склонах южной экспозиции описаны авторами работ [11, 19, 25, 31, 49, 55].
Объекты и методы
Регион и объекты исследования. По данным метеостанции Черский, среднегодовая температура воздуха изменяется от –10.5 до –7.3°С1. Средняя температура июля составляет 10.4–16.2°С, а января –35.9…–30.1°С. Величина годовой амплитуды температур колеблется в пределах 46.0–49.2°С. Климат может быть охарактеризован как среднеконтинентальный, степень континентальности по Иванову (202) близка к верхнему пределу значений для этой области. Период положительных среднесуточных температур – 115–145 сут. По количеству осадков (171–322 мм) климат умеренно сухой. В теплое время года выпадает 65–174 мм. Величина коэффициента увлажнения для летнего периода равна 0.7–0.8. Наблюдается повсеместное распространение многолетней мерзлоты.
Изучаемый регион представляет собой предгорную равнину, расположенную в зоне сочленения Колымской низменности и северо-западных отрогов Анюйского нагорья, где небольшие интрузии мелового возраста формируют низкогорье, а раннемеловые эффузивы слагают придолинные выходы скальных пород [14, 16].
На большей части территории скальные породы перекрыты шлейфом высокольдистых крупнопылевато-суглинистых пород верхнеплейстоценовой едомной свиты (ледового комплекса) [47, 48, 55] или продуктов их голоценовой трансформации. Мощность шлейфа изменяется от 1–2 до 20 м и более. В районе пос. Черского отложения характеризуются слабо- или умеренно щелочной реакцией среды и низкими значениями гидролитической кислотности (0.2–0.8 смоль(+)/ кг). По сравнению с современными почвами тайги материнская порода обладает повышенным содержанием обменных оснований (14.5–23.0 смоль(+)/ кг) и легкорастворимых солей (0.1–0.2%). Ей свойственно высокое содержание подвижных форм фосфора и калия (35–50 и 5–11 мг/100 г соответственно), а также разнообразного органического вещества (0.5–2.0% в расчете на Сорг): от неразложившегося корневого детрита до водорастворимого гумуса. Карбонаты присутствуют в количестве 1.0–1.8% в расчете на СО2.
В почвенном покрове наиболее дренированные позиции заняты разнообразными криометаморфическими почвами, представляющими собой зональные разности. На изучаемой территории широко распространен подтип криометаморфических палево-метаморфизованных почв, в верхней части профиля которых присутствует грубогумусовый или перегнойный горизонт, обычно с крупноволнистой, языковатой или карманистой нижней границей за счет криогенных процессов. Структура минеральных горизонтов почв чешуйчатая или листовато-чешуйчатая, явно криогенной природы, что дает возможность отнести их к криометаморфическим (CRM). Под органо-аккумулятивными горизонтами выражен фрагментарный или прерывистый палевый горизонт (CRMpl), нередко имеющий неоднородную окраску с субгоризонтальной ориентацией морфонов, которую мы склонны связывать с проникновением материала по корням лиственницы. Наличие палевого горизонта часто сочетается с проявлением слабых признаков оглеения, как в верхней части профиля, так и у подошвы деятельного слоя. Во многих профилях наблюдаются разорванность минеральных горизонтов и наличие линз криотурбационного или занесенного при ветровалах грубого органического вещества.
Изучаемые остепненные участки отличаются крайне малыми размерами, их площади обычно составляют первые сотни квадратных метров и лишь в отдельных случаях достигают гектара, что дает возможность вслед за авторами [24, 31] относить их не к степям, а к степоидам. Использование введенного геоботаниками термина “степоид” [41] в почвоведении неизбежно расширяет его содержание. В наcтоящем исследовании под степоидами подразумеваются не только растительные сообщества, но и биогеоценозы в целом. На наш взгляд, это удобно и оправдано, поскольку подчеркивает своеобразие почв небольших участков под степной растительностью, окруженных притундровыми редколесьями, и их отличие от почв степной зоны. Степоиды целесообразно разделить на петрофитные и термофитные. Оба эти термина встречаются в литературе. Под петрофитными подразумеваются [28, 49, 51] сообщества, развивающиеся на палеоген-неогеновой коре выветривания скальных пород, где благоприятные условия для произрастания степных растений (постоянный дренаж и хорошее прогревание субстрата) создаются, прежде всего, за счет литологических (гранулометрических) особенностей формирующихся на них почв. Термофитные сообщества [5], развивающиеся на крупнопылевато-суглинистых отложениях, обязаны своим существованием, в первую очередь, положению в рельефе и экспозиции, определяющими локальное сочетание оптимальных для степных растений условий тепло- и влагообеспеченности.
Следует подчеркнуть, что в отличие от подавляющего большинства почв остепненных участков Северо-Востока, развивающихся на малольдистых, морозных, щебнистых породах, почвы термофитных степоидов сформированы исключительно на высокольдистых мелкоземистых отложениях.
Были изучены почвы трех петрофитных и двух термофитных степоидов, расположенных на правом берегу р. Пантелеихи (правого притока Колымы) (рис. 1). Разрезы 4-08 и 8-12 характеризуют почвы петрофитных степоидов в верхней части крутых (32°–35°) склонов: первый из них в районе обнажения Малиновый яр (одного из двух степоидов), а второй – на 5 км выше по реке (Чеглок). Разрезы 601-08 и 35-85 вскрывают почвы термофитных степоидов: в районе Бубякинских дач и у подножья г. Родинки соответственно. В районе Бубякинских дач мощность рыхлых отложений едомной свиты превосходит 10 м, что известно по буровым данным. Почвы изучали на разных уровнях склона; разрез 601-08 располагается на перегибе, где пологий склон переходит в крутой, а 103-87 – на крутом участке склона. Разрез 35-85 был заложен в средней части крутого (30°) склона. Во всех случаях встречаются норы арктических сусликов (Urocitellus parryii) и полевок (Microtus sp.), на поверхности выражен зоогенный нанорельеф с перепадами высот 10–20 см. Параллельные исследования проводили в зональных биогеоценозах притундровых редколесий. Разрез 501-08 характеризует почву бруснично-зеленомошно-кустарникового лиственничного редколесья на пологом склоне южной экспозиции. Описания разрезов приводятся в табл. S1.
Рис. 1. Район исследований с расположением петрофитных (I – Малиновый яр (два степоида), II – Чеглок) и термофитных (III – подножье г. Родинки, IV – Бубякинские дачи) степоидов: 1 – петрофитные степоиды, 2 – термофитные степоиды, 3 – точки исследования зональных почв редколесий.
Подробные геоботанические описания остепненных участков опубликованы ранее [55]. На рис. S2 представлены фотографии и краткие характеристики петрофитных и термофитных степоидов.
Методы исследования. Температурный режим почвы под петрофитным степоидом (Малиновый яр) изучали с конца 2007 по конец 2011 гг., а под термофитным (район Бубякинских дач) – с конца 2005 по конец 2009 гг. Параллельные наблюдения проводили в притундровых редколесьях. В работе использовали электронные накопители данных Thermologgers Onset HOBO. По результатам мониторинга рассчитывали среднемесячные и среднегодовые температуры, суммы положительных и отрицательных среднесуточных температур на различных глубинах, а также нагреваемость почв (коэффициент Димо [18]), равную отношению суммы активных (>10°C) температур почвы на глубине 20 см к сумме температур воздуха >10°С по данным метеостанции Черский за тот же период.
Влажность почв определяли в сезонной динамике весовым методом.
Содержание водорастворимого органического вещества в почве исследовали путем высокотемпературного (720°С) каталитического (на платиновом катализаторе) сжигания водных экстрактов с использованием анализатора органического углерода Shimadzu TOC-V CPH/CPN [56]. Все прочие анализы выполняли по общепринятым в нашей стране методикам [1, 10, 21, 36].
Эффективную емкость катионного обмена (ЕКО) вычисляли путем суммирования содержания четырех обменных оснований и гидролитической кислотности, выраженных в смоль(+)/кг. Степень насыщенности почвы рассчитывали путем деления суммы содержаний обменных оснований на эффективную ЕКО [35].
Физические свойства и режимы почв
Мощность сезонноталого слоя (СТС) под термофитными степоидами достигала 150–170 см. Под петрофитными степоидами нулевая изотерма к концу летнего сезона опускалась до 250 см. В зональных ландшафтах притундровых редколесий Нижней Колымы средние значения этого показателя обычно изменяются в пределах 45–90 см.
Протаивание почв остепненных участков начиналось в конце апреля–первой декаде мая, а окружающих таежных разностей – во второй–третьей декаде мая, на 1–3.5 недели позже. Проникновение положительных температур в почвенный профиль изучаемых почв также происходит со значительно большей скоростью. В работе [46] отмечено, что протаивание почв в этом случае идет быстрее, чем развитие растений, поэтому мерзлота практически не оказывает влияния на вегетацию.
Период существования положительных среднесуточных температур на глубине 20 см в почве петрофитного степоида в среднем продолжается на 1.5 мес. дольше (табл. 1). Для почвы остепненного склона среднелетнее значение на 9.7, а среднее в самом теплом месяце – на 10.7°С выше, чем для криометаморфической почвы соседнего редколесья. Годовая сумма положительных среднесуточных температур почвы на 20 см для петрофитного степоида была на 1180°С выше, чем для тайги, 94% от этой величины приходилось на долю среднесуточных температур выше 5°С, а 73% – на долю среднесуточных температур выше 10°С. В зональной почве на долю температур выше 5°С приходилось 35% от общей суммы положительных температур, а среднесуточных значений выше 10°С здесь вообще не наблюдалось.
Таблица 1. Показатели температурного режима почв петрофитного степоида и прилегающего редколесья на глубине 20 см, усредненные за период наблюдения (2008–2011 гг.)
Показатель | Почва петрофитного степоида | Почва редколесья |
Среднегодовая температура, °С | –2.9 | –2.4 |
Среднелетняя температура (июнь–август), °С | 12.9 | 3.2 |
Средняя температура в самом теплом месяце, °С | 15.2 | 4.5 |
Средняя температура в самом холодном месяце,°С | –18.9 | –9.4 |
Годовая амплитуда температур, °С | 34.1 | 13.9 |
Годовая сумма положительных среднесуточных температур, °С | 1528 | 349 |
Годовая сумма среднесуточных температур выше 5°С, °С | 1431 | 123 |
Годовая сумма среднесуточных температур выше 10°С, °С | 1117 | 0 |
Продолжительность периода положительных среднесуточных температур, сут | 150 | 108 |
В профиле почвы под термофитным степоидом период положительных температур на глубине 40 см также продолжался на полтора месяца дольше, чем в зональном таежном варианте (табл. 2). В почве степоида среднелетняя температура на этой глубине на 4.1, а температура в самом теплом месяце – на 3.9°С выше, чем в криометаморфической почве редколесья. Сумма положительных среднесуточных температур в случае термофитного степоида отличалась на 480°С. На долю среднесуточных температур выше 5°С здесь приходилось 82% от этой величины, в таежной почве такие температуры на глубине 40 см обычно не встречаются.
Таблица 2. Показатели температурного режима почв термофитного степоида и прилегающего редколесья на глубине 40 см, усредненные за период наблюдения (2006–2009 гг.)
Показатель | Почва термофитного степоида | Почва редколесья |
Среднегодовая температура, °С | –3.7 | –2.4 |
Среднелетняя температура (июнь–август), °С | 6.4 | 2.3 |
Средняя температура в самом теплом месяце, °С | 7.7 | 3.8 |
Средняя температура в самом холодном месяце, °С | –15.4 | –7.2 |
Годовая амплитуда температур, °С | 23.1 | 11.0 |
Годовая сумма положительных среднесуточных температур, °С | 746 | 267 |
Годовая сумма среднесуточных температур выше 5°С, °С | 608 | 0 |
Продолжительность периода положительных, сут | 135 | 88 |
Изучаемые биогеоценозы существенно различались по величине теплообеспеченности почв, т.е. по количеству энергии, расходуемой на нагревание профиля от 0°С до максимальных значений температуры [30], рассчитанной на основании данных температурного мониторинга. Средние значения этого показателя за период наблюдений составили: 13.44 для петрофитного степоида, 9.25 для термофитного степоида и 3.93–4.63 Мкал/м2 год для притундровых лиственничных редколесий [42]. Бóльшая теплообеспеченность в первом случае по сравнению со вторым определялась развитием почвы на скальной породе.
Максимальная температура на поверхности почвы под петрофитным степоидом достигала 41.9°С, а под термофитным – 48.9°С, минимальные значения температуры составляли –26.7 и –30.6°С соответственно. Годовые суммы поверхностных положительных температур за период наблюдений изменялись в пределах 1360–1850°С для петрофитного и 1550–2150°С для термофитного степоидов. По величине этого показателя изучаемые объекты занимают промежуточное положение между остепненными склонами в верховьях Колымы (2300–2500°С) [3] или Индигирки (2200–2400°С) [4], и криофитно-степными биогеоценозами в бассейне среднего течения р. Амгуэмы (1350–1400°С) [3].
В холодное время года из-за низкой влажности профиля, а также поздно устанавливающегося, маломощного и уплотненного снежного покрова на открытом безлесном участке почвы под степоидами охлаждаются гораздо быстрее зональных почв тайги. Несмотря на большую мощность, деятельный слой в случае термофитного степоида полностью промерзает уже в ноябре или начале декабря, в то время как в притундровых редколесьях смыкание фронтов сезонной и многолетней мерзлоты обычно наблюдается в январе или в начале февраля. Зимой почвы под степоидами значительно холоднее почв соседней тайги. В случае петрофитного степоида средняя температура профиля в самом холодном месяце на 9.5°С (20 см), а термофитного – на 8.2°С (40 см) ниже, чем в зональной криометаморфической почве. В итоге среднегодовые температуры почв остепненных участков также ниже.
Температурный режим почв степоидов, согласно классификации Димо [18], по летним показателям относится к холодному, а по зимним – к очень холодному подтипу. Температурный режим почв редколесий по летним показателям относится к очень холодному, а по зимним – к холодному подтипу. По годовой амплитуде среднемесячных температур почвенный климат степоидов является резко континентальным, а тайги – мягким.
Величина нагреваемости, рассчитанная для почвы под петрофитным степоидом (коэффициент Димо), была равна 1.2. Известно, что при величине нагреваемости ниже 1.0 отмечается тенденция к избыточному увлажнению профиля, а при величинах выше 1.0 – имеет место тенденция к его иссушению [18], что и наблюдается на остепненных участках.
В случае термофитных степоидов значения почвенной влажности обычно составляют 5.0–10.0%. У подошвы СТС отмечается увеличение содержания влаги до 8.0–15.5% (рис. 2), а в одном из профилей – даже надмерзлотная глееватость (разрез 35-85). Во время редких дождей почвы остепненных участков обычно промачиваются лишь до 25–30 см, а в периоды максимального летнего иссушения их влажность может снижаться до 3.3–4.0%. Сухость профиля исключает протекание элювиальных процессов и обусловливает преобладание восходящих токов почвенного раствора на протяжении всего теплого сезона или большей его части. То же направление миграции сохраняется в начале зимы, когда подтягиваемая к фронту промерзания влага способствует увеличению льдистости верхних горизонтов до 20–40, а в случае дождливой осени – до 45–50%. Иссушения льдистой материнской породы при этом не происходит. Потери влаги за теплый период, по-видимому, компенсируются за счет осенней верховодки, мигрирующей с водоразделов по кровле многолетней мерзлоты.
Рис. 2. Весовая влажность почв в летний (a) и осенний (b) сезоны. Пунктирной линией показано распределение значений в промерзших горизонтах.
Почвы под петрофитными степоидами на протяжении большей части летнего периода также имеют низкую влажность: 10–28% в органо-аккумулятивном и 5–16% в минеральных горизонтах. Во время обильных осадков их маломощные профили промачиваются полностью, но из-за положения в рельефе и низкой водоудерживающей способности быстро теряют полученную влагу. Для сравнения, влажность грубогумусового горизонта криометаморфической почвы, сформированной на дренированном склоне, составила 100–158%, а минеральной части профиля – 17.5–24.0%. Таким образом, на фоне гидроморфных и мезоморфных профилей тайги почвы степоидов характеризуются ярко выраженной ксероморфностью.
Результаты гранулометрического анализа указывают на литологическую неоднородность большинства почв степоидов (табл. 3), часто наблюдаемую на крутых склонах. Лучше всего она прослеживается под термофитными степоидами в районе Бубякинских дач (разрез 601-08) и у подножья г. Родинки (разрез 35-85), где в профилях можно выделить песчаные, супесчаные и легкосуглинистые горизонты.
Таблица 3. Гранулометрический состав мелкозема
Горизонт | Глубина, см | Доля фракций, ٪ | |||||||
1–0.25 мм | 0.25–0.05 мм | 0.05–0.01 мм | 0.01–0.005 мм | 0.005–0.001 мм | <0.001 мм | >0.01 мм | <0.01 мм | ||
Разрез 8-12, берег р. Пантелеихи, Чеглок, петрофитный степоид | |||||||||
AYrh,sk | 0–7 | 4.0 | 33.5 | 41.0 | 6.9 | 7.9 | 6.8 | 78.4 | 21.6 |
AHsk | 7–13 | 0.8 | 32.0 | 45.1 | 8.3 | 6.2 | 7.6 | 77.9 | 22.1 |
Bsk,ic | 15–20 | 1.3 | 23.1 | 42.9 | 5.8 | 13.7 | 13.2 | 67.3 | 32.7 |
BCsk | 30–35 | 4.2 | 22.5 | 41.3 | 7.6 | 10.7 | 13.6 | 68.0 | 32.0 |
Разрез 4-08, Малиновый яр, петрофитный степоид | |||||||||
AYsk | 0–5 | 31.1 | 33.3 | 14.3 | 7.3 | 5.4 | 8.6 | 78.7 | 21.3 |
Bsk,ic | 5–13 | 33.1 | 39.9 | 16.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 89.8 | 10.2 |
Разрез 601-08, район Бубякинских дач, термофитный степоид, перегиб склона | |||||||||
AHtu | 9–15 | 1.9 | 47.0 | 36.7 | 9.4 | 2.5 | 2.5 | 85.6 | 14.4 |
2AB | 15–26 | 0.8 | 18.3 | 56.7 | 9.0 | 4.5 | 10.7 | 75.8 | 24.2 |
2Bpl | 48–58 | 0.4 | 18.3 | 54.7 | 6.9 | 6.6 | 13.1 | 73.4 | 26.6 |
Разрез 103-87, район Бубякинских дач, термофитный степоид, верхняя часть склона | |||||||||
AYtu | 8–18 | 0.2 | 19.7 | 49.6 | 7.0 | 9.4 | 14.1 | 69.5 | 30.5 |
AB | 18–31 | 0.2 | 19.1 | 52.8 | 9.0 | 7.8 | 11.1 | 72.1 | 27.9 |
B | 31–50 | 0.3 | 26.0 | 48.8 | 6.5 | 9.0 | 9.4 | 75.1 | 24.9 |
BC | 50–120 | 0.5 | 27.5 | 50.8 | 8.5 | 5.1 | 7.6 | 78.8 | 21.2 |
Разрез 35-85, подножье г. Родинки, термофитный степоид | |||||||||
AYtu | 1–19 | 2.1 | 25.0 | 63.6 | 3.9 | 2.5 | 2.9 | 90.8 | 9.2 |
2AB | 19–39 | 0.8 | 29.5 | 45.1 | 6.0 | 8.9 | 9.7 | 75.4 | 24.6 |
3Bq | 39–80 | 0.9 | 10.7 | 65.8 | 5.5 | 7.3 | 5.8 | 81.4 | 18.6 |
4BCq,g | 80–119 | 0.5 | 17.0 | 58.8 | 7.7 | 9.8 | 6.2 | 76.2 | 23.8 |
Разрез 46-85, склон г. Родинки, редколесье | |||||||||
НВ | 5–8 | 2.4 | 16.9 | 47.5 | 8.2 | 10.9 | 14.1 | 66.8 | 33.2 |
CRMpl | 8–17 | 8.1 | 25.9 | 42.7 | 6.5 | 8.2 | 8.6 | 76.7 | 23.3 |
CRM | 17–22 | 0.7 | 57.2 | 16.3 | 8.1 | 9.6 | 8.1 | 74.2 | 25.8 |
CRMC | 22–47 | 2.2 | 24.3 | 50.3 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 76.8 | 23.2 |
Разрез 501-08, Малиновый яр, редколесье | |||||||||
H | 2–6 | 5.6 | 24.9 | 43.1 | 8.0 | 11.2 | 7.2 | 73.6 | 26.4 |
Bg | 6–10 | 0.5 | 19.2 | 51.9 | 8.4 | 12.4 | 7.6 | 71.6 | 28.4 |
CRMpl | 8–17 | 0.7 | 24.3 | 42.8 | 9.8 | 12.5 | 9.9 | 67.8 | 32.2 |
CRM@ | 17–27 | 0.4 | 21.0 | 47.4 | 5.9 | 12.3 | 13.0 | 68.8 | 31.2 |
CRM | 27–51 | 0.1 | 29.8 | 41.8 | 6.0 | 11.5 | 10.8 | 71.7 | 28.3 |
CRMCg | 51–65 | 0.1 | 27.8 | 44.2 | 3.4 | 13.9 | 10.6 | 72.1 | 27.9 |
Сопоставление данных гранулометрического и микроагрегатного анализов показало, что содержание водоустойчивых агрегатов в профиле почвы под термофитным степоидом составляет 14.0–40.3%, а в верхнем горизонте почвы под петрофитным степоидом – 25.5% от общей массы (табл. 4). Их диаметр изменяется в пределах 0.05–1.00 мм. В зональной таежной почве водоустойчивых агрегатов содержалось значительно меньше – 11.0–22.7%. В тундровой зоне Колымской низменности, по имеющимся данным, водоустойчивыми являются лишь 2–4% агрегатов. На остепненных участках педогенез способствует формированию водоустойчивой структуры, несвойственной подавляющему большинству почв низовьев Колымы.
Таблица 4. Содержание водоустойчивых агрегатов
Горизонт | Глубина, см | Содержание во фракциях (мм), ٪ | Общее содержание, ٪ | ||||
1–0.25 | 0.25–0.05 | 0.05–0.01 | 0.01–0.005 | 0.005–0.001 | |||
Разрез 4-08, Малиновый яр, петрофитный степоид | |||||||
AYsk | 0–5 | 25.5 | Не опр. | 25.5 | |||
Разрез 601-08, район Бубякинских дач, термофитный степоид, перегиб склона | |||||||
AHtu | 9–15 | 10.8 | 3.2 | « | « | « | 14.0 |
2AB | 15–26 | 15.5 | 24.8 | « | « | « | 40.3 |
2Bpl | 48–58 | 5.4 | 22.5 | « | « | « | 27.9 |
Разрез 501-08, Малиновый яр, редколесье | |||||||
H | 2–6 | 12.2 | 10.5 | « | « | « | 22.7 |
Bg | 6–10 | 1.3 | 12.3 | « | « | « | 13.6 |
CRMpl | 8–17 | 1.6 | 6.9 | 6.0 | « | 2.6 | 17.1 |
CRM@ | 17–27 | 0.6 | 9.5 | 3.2 | « | Не опр. | 13.3 |
CRM | 27–51 | 0.1 | 3.7 | 4.2 | 3.0 | « | 11.0 |
CRMCg | 51–65 | Не опр. | 17.6 | 2.5 | « | 20.1 | |
Структурирование в изучаемых почвах происходит как при выделении текстурообразующего льда, так и под влиянием процессов осаждения и коагуляции продуцированных in situ органо-минеральных соединений. Тонкие шлиры или уплощенные линзы льда в процессе их образования и роста не только расчленяют материал на структурные отдельности, но также способствуют уплотнению и пространственному обособлению последних (рис. 3d). Так, образуются неводоустойчивые структурные отдельности, размеры которых могут доходить до первых миллиметров. Темно-бурые органо-минеральные пленки на поверхности минеральных зерен, выявляемые при анализе микростроения почв степоидов, например горизонта AY (рис. 3b), в условиях весьма низких зимних температур и летнего иссушения вызывают образование агрегатов с диаметром от 100 мкм до 1 мм (рис. 3c–3e), часть из которых водоустойчива. Черняховский [43] связывает хорошую оструктуренность профилей под степными сообществами верхней Колымы с действием оксидов железа как структора, отмечая высокое содержание в них оксалаторастворимого Fe2O3. Уместно упомянуть, что и в изучаемых почвах значения этого показателя достаточно велики (рис. 4a).
Рис. 3. Микростроение почв термофитного степоида (a–e, район Бубякинских дач, разрез 103-87, горизонт AYtu) и лиственничного редколесья (f, склон г. Родинки, разрез 46-85, горизонт CRMpl): a – общее микростроение горизонта AYtu почвы термофитного степоида, b – минеральные пленки и сгустки темного муллеподобного гумуса на поверхности минеральных зерен, c – криогенная микроагрегация материала, d – криогенное микрооструктуривание под воздействием шлиров льда, e – коагуляционный микроагрегат с уплотненным строением, f – общее микростроение горизонта CRMpl почвы лиственничного редколесья.
Рис. 4. Содержание несиликатных форм железа (a) и алюминия (b) в изучаемых почвах (рассчитанное на прокаленную почву): 1 – содержание дитиониторастворимого Fe2O3, 2 – содержание оксалаторастворимого Fe2O3, 3 – содержание оксалаторастворимого Al2O3.
Почвы петрофитных степоидов
Щебнистые почвы петрофитных степоидов имеют мощность до 50 см. В верхней части их профилей формируются серогумусовые (AY) или перегнойно-темногумусовые (AH) горизонты со сравнительно небольшим содержанием детрита. Профили характеризуются высоком содержанием органического углерода (Сорг) и аккумулятивным типом его распределения (рис. 5a, табл. 5). Согласно исследованию Волковинцера [13], эти почвы могут быть отнесены к средне- и многогумусовым, но при этом они отличаются от большинства криоаридных почв малой мощностью гумусоаккумулятивного горизонта. Молярное отношение C/N составляет в них 10.2–12.8.
Рис. 5. Содержание органического углерода в почвах петрофитного степоида (a – Малиновый яр, разрез 1-08), термофитного степоида (район Бубякинских дач: b – разрез В-07, верхняя часть склона; c – разрез Б-07, средняя часть склона; d – разрез С-07, нижняя часть склона; e – разрез Е-07, нижняя часть склона) и редколесий (f – Малиновый яр, разрез 501-08; g – подножье г. Родинки, разрез 46-85): 1 – торфянистые горизонты, 2 – перегнойные горизонты, 3 – перегнойно-темногумусовые горизонты, 4 – серогумусовые горизонты, 5 – гумусово-слаборазвитые горизонты, 6 – палевые горизонты, 7 – признаки оглеения; 8 – зоо- и криотурбационные включения органического вещества, 9 – обломки скальных пород, 10 – кровля многолетней мерзлоты.
Таблица 5. Физико-химические характеристики почв
Горизонт | Глубина, см | Потеря при прокаливании, % | Сорг, % | рН | Обменная кислотность, смоль(+)/кг | Гидролитическая кислотность смоль(+)/кг | Содержание поглощенных оснований, смоль(+)/кг | Степень насыщенности ППК% | Содержание, мг/100 г | СО2карб, % | ||||||||
H2O | KCl | Al | H | сумма | Ca | Mg | Na | K | Nвал | P2O5подв | K2Oподв | |||||||
Разрез 8-12, берег р. Пантелеихи, Чеглок, петрофитный степоид | ||||||||||||||||||
AYrh,sk | 0–7 | Не опр. | 2.82 | Не опр. | 19.43 | 2.48 | 0.13 | 0.76 | Не опр. | 300 | Не опр. | |||||||
AHsk | 7–13 | « | 4.92 | « | 30.28 | 3.69 | 0.15 | 0.43 | « | 451 | « | |||||||
Bsk,ic | 15–20 | « | 0.98 | « | 16.95 | 2.60 | 0.26 | 0.25 | « | 108 | « | |||||||
BCsk | 30–35 | « | 0.83 | « | 16.03 | 2.64 | 0.26 | 0.26 | « | 95 | ||||||||
Разрез 4-08, Малиновый яр, петрофитный степоид | ||||||||||||||||||
AYsk | 1–3 | 2.78 | 3.62 | 6.82 | 5.76 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 2.38 | 14.13 | 10.71 | 0.08 | 0.16 | 91.3 | Не опр. | 1.03 | 6.51 | 0.58 |
Bsk,ic | 5–10 | 9.09 | 1.57 | 6.70 | 5.75 | 0.08 | 0.22 | 0.30 | 4.09 | 15.56 | 12.87 | 0.06 | 0.49 | 87.6 | « | 3.88 | 21.78 | 0.83 |
Разрез 601-08, район Бубякинских дач, термофитный степоид, перегиб склона | ||||||||||||||||||
r | 0–6 | 5.98 | Не опр. | 7.15 | 6.40 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.97 | 10.23 | 3.43 | 0.07 | 0.14 | 93.5 | « | 21.33 | 6.72 | 0.49 |
AHtu | 8–21 | 10.50 | « | 6.41 | 5.65 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 3.27 | 14.14 | 5.51 | 0.07 | 0.31 | 86.0 | « | 22.54 | 12.03 | 0.66 |
2AB | 21–35 | 10.96 | « | 5.91 | 4.90 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 5.27 | 13.06 | 4.50 | 0.59 | 0.14 | 77.6 | « | 24.58 | 4.94 | 0.57 |
2Bpl | 35–57 | 7.54 | « | 6.06 | 5.06 | 0.21 | 0.37 | 0.58 | 2.72 | 8.13 | 3.77 | 0.73 | 0.06 | 82.4 | « | 29.43 | 2.13 | 0.41 |
2Box | 57–70 | 5.55 | « | 6.41 | 5.39 | 0.07 | 0.29 | 0.36 | 1.97 | 7.09 | 3.98 | 0.67 | 0.06 | 85.7 | « | 32.44 | 3.66 | 0.24 |
2BD | 70–96 | 6.10 | « | 8.28 | 7.60 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 11.51 | 4.00 | 2.38 | 0.08 | 98.9 | « | 27.38 | 7.02 | 0.65 |
2D | 96–120 | 5.69 | « | 8.19 | 7.69 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 12.63 | 4.98 | 0.46 | 0.16 | 98.9 | « | 23.30 | 8.83 | 0.65 |
Разрез 103-87, район Бубякинских дач, термофитный степоид, верхняя часть склона | ||||||||||||||||||
AYtu | 0–8 | Не опр. | 1.72 | 6.50 | 6.20 | Не опр. | ||||||||||||
AYtu | 8–18 | « | 0.75 | 6.60 | 5.70 | Не опр. | 1.78 | 8.50 | 6.50 | 0.40 | 0.14 | 89.7 | Не опр. | 0.36 | ||||
AB | 18–31 | « | 0.59 | 6.10 | 5.20 | « | 2.74 | 8.10 | 6.00 | 1.00 | 0.11 | 84.7 | « | 0.36 | ||||
B | 31–50 | « | 0.47 | 5.75 | 4.75 | « | 2.74 | 7.50 | 3.80 | 1.32 | 0.11 | 82.3 | « | 0.45 | ||||
BC | 50–120 | « | 0.69 | 7.55 | 7.15 | « | 0.31 | 11.10 | 4.40 | 0.52 | 0.16 | 98.1 | « | 0.45 | ||||
Разрез 35-85, подножье г. Родинки, термофитный степоид | ||||||||||||||||||
AYtu | 1–19 | « | 4.48 | 6.25 | Не опр. | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 2.74 | 14.20 | 5.40 | 0.13 | 1.00 | 88.3 | 388 | Не опр. | 0.80 | |
2AB | 19–39 | « | 0.94 | 6.05 | « | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 2.46 | 6.40 | 4.10 | 0.26 | 0.20 | 81.7 | 80 | « | 0.39 | |
3Bq | 39–80 | « | 0.98 | 7.60 | « | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.48 | 12.90 | 4.20 | 0.27 | 0.26 | 97.4 | 118 | « | 0.62 | |
4BCq,g | 80–119 | « | 0.70 | 7.90 | « | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.48 | 13.50 | 5.00 | 1,23 | 0.15 | 97.6 | Не опр. | |||
Разрез 501-08, Малиновый яр, редколесье | ||||||||||||||||||
T | 0–2 | 83.88 | Не опр. | 4.73 | 4.07 | 0.23 | 1.44 | 1.67 | 19.97 | 33.87 | 4.78 | 0.17 | 3.89 | 68.1 | Не опр. | 26.37 | 180.48 | 1.16 |
H | 2–6 | 30.99 | 10.71 | 5.65 | 4.83 | 0.07 | 0.38 | 0.45 | 11.68 | 29.09 | 10.62 | 0.28 | 0.22 | 77.5 | « | 1.59 | 7.66 | 1.36 |
Bg | 6–10 | 5.13 | 0.56 | 5.49 | 3.89 | 0.52 | 0.21 | 0.73 | 4.69 | 5.84 | 2.26 | 0.08 | 0.22 | 64.2 | « | 20.30 | 3.06 | 0.33 |
CRMpl | 8–16 | 6.43 | 1.07 | 5.77 | 4.35 | 0.22 | 0.21 | 0.43 | 4.41 | 10.05 | 3.83 | 0.09 | 0.23 | 76.3 | « | 10.46 | 3.38 | 0.33 |
CRM@ | 16–27 | 5.68 | 0.58 | 6.21 | 4.77 | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 2.79 | 10.16 | 3.64 | 0.12 | 0.09 | 83.4 | « | 21.25 | 3.07 | 0.33 |
CRM | 27–51 | 5.36 | 0.51 | 7.16 | 6.11 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 1.01 | 10.23 | 3.31 | 0.11 | 0.15 | 93.2 | « | 24.41 | 4.90 | 0.33 |
CRMCg | 51–65 | 5.33 | 0.43 | 7.87 | 7.26 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.34 | 23.91 | 3.71 | 0.06 | 0.12 | 98.8 | « | 23.35 | 5.81 | 0.98 |
Разрез 46-85, склон г. Родинки, редколесье | ||||||||||||||||||
НВ | 5–8 | Не опр. | 1.71 | 5.00 | Не опр. | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 9.04 | 7.20 | 4.00 | 0.21 | 0.33 | 56.5 | 130 | 15.00 | 9.00 | 0.45 |
CRMpl | 8–17 | « | 0.53 | 5.05 | « | 0.24 | 0.10 | 0.34 | 5.25 | 4.50 | 2.80 | 0.18 | 0.17 | 59.3 | 80 | 30.50 | 5.04 | 0.39 |
CRM | 17–22 | « | 0.41 | 5.80 | « | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 2.74 | 5.10 | 2.50 | 0.16 | 0.14 | 74.3 | 68 | 40.00 | 4.32 | 0.39 |
CRMС | 22–47 | « | 1,12 | 6.55 | « | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.93 | 7.90 | 3.40 | 0.21 | 0.20 | 92.6 | Не опр. | 33.75 | 6.48 | 0.56 |
По групповому составу гумус верхней части профиля относится к фульватно-гуматному типу, глубже он может меняется на гуматно-фульватный или фульватный. Степень гумификации средняя или высокая, а в случае перегнойно-темногумусового горизонта AHtu (разрез 8-12) – очень высокая. В верхних горизонтах углерод гуминовой кислоты равномерно распределен по фракциям, в нижней части профиля может наблюдаться существенное снижение доли фракции 2, связанной с кальцием. Содержание негидролизуемого остатка изменяется в пределах 24–54% (табл. S3).
Изученные почвы характеризуются нейтральной реакцией среды, низкими значениями обменной и гидролитической кислотности, высокой насыщенностью почвенного поглощающего комплекса (ППК) (88–91%). Среди обменных оснований преобладают кальций или кальций и магний. Суммарное содержание легкорастворимых солей равно 0.030–0.045%, в составе водной вытяжки преобладают Ca2+, Mg2+ и HCO3– (рис. 6a).
Карбонатов в мелкоземе содержится 0.58–0.83% в расчете на СО2 (табл. 5). Однако в нижней части описанных профилей были зафиксированы карбонатные корочки на щебне. Наличие карбонатных кутан при отсутствии вскипания мелкозема позволяет говорить о сходстве почв петрофитных степоидов с аналогичными разностями верхней Колымы [5, 7, 12, 37].
Отношение концентраций оксалаторастворимого (по Тамму) железа от дитиониторастворимого (по Мера–Джексону) (критерий Швертмана, Feo/ Fed) равно 0.14–0.22, что указывает на резкое преобладание окристаллизованных форм в составе несиликатного железа (рис. 4a).
Почвы термофитных степоидов и окружающих редколесий
Крупнопылевато-суглинистые или крупнопылевато-супесчаные почвы термофитных степоидов характеризуются наибольшей глубиной сезонного протаивания, высоким содержанием корней, порошистой или комковато-порошистой структурой. Поскольку сухие и глубокопротаивающие склоны служат удобным местом для поселения различных землеройных животных (арктических сусликов, полевок и др.) неотъемлемой чертой почв любого термофитного степоида является высокая зоотурбированность. В разрезе 601-08 профиль перекрыт прерывистым выбросом из норы суслика, материал которого, в свою очередь, также затронут почвообразованием.
Изучаемые профили широко различаются по типу и мощности гумусоаккумулятивных горизонтов, а также по содержанию в нем органического углерода. Чаще всего они бывают серогумусовыми (AY) с мощностью от 5–8 (район Бубякинских дач) до 18 см (подножье Родинки) или перегнойно-темногумусовыми (АН). Последний вариант описан в районе Бубякинских дач, где мощность горизонта АН изменяется от 6–7 см на крутом участке склона до 13–15 см на его перегибе (разрез 601-08). Такое разнообразие гумусовых горизонтов может быть связано с неравномерностью проявления эрозии на крутом склоне. Несмотря на наблюдаемый местами коричневатый или буроватый оттенок органо-минерального материала и присутствие неразложившихся растительных остатков, наличия настоящих криогумусовых горизонтов [23], не констатируем отчасти потому, что согласно современным представлениям [6], корректное выделение этого горизонта требует флотации мелкодисперсного детрита в тяжелых жидкостях, что не исследовали. Важно подчеркнуть, что в почвах как термофитных, так и петрофитных степоидов верхняя органо-аккумулятивная толща не бывает торфянистой, грубогумусовой или перегнойной, что принципиально отличает ее от почв притундровых редколесий.
Упомянутый профиль в точке перегиба склона (разрез 601-08) заслуживает особого внимания, поскольку ему присущи некоторые признаки, указывающие на прохождение лесной стадии развития. К ним относится наличие большого количества неразложившихся растительных остатков, что собственно и определяет перегнойно-темногумусовый тип верхнего горизонта, а также включений древесного угля, свидетельствующих о лесном пожаре. Прерывистость генетических горизонтов и резко выраженная неровность их границ указывают на нарушение процессами криотурбации или ветровала, свойственными лесным экосистемам. В этом профиле присутствуют фрагменты палевого горизонта с неоднородной окраской, характерной для почв прилегающей тайги. Наконец, в средней части профиля (горизонт Box) отмечаются хорошо различимые признаки постглеевой сегрегации железа, сконцентрированные на глубине 60–70 см, соответствующей положению кровли многолетней мерзлоты в лесных почвах. Предположение о полигенетичности данного профиля подтверждается результатами микробиоморфного анализа, показавшего, что в ряде горизонтов, наряду с фитолитами злаков (степные элементы) присутствуют и остатки лиственницы (таежные элементы) (рис. 7). Реликтовые признаки лесной стадии развития в степных криоаридных почвах верховий Колымы были описаны в работах [7, 9], а указывающая на былое переувлажнение сегрегация железа была отмечена в “каштановидных суглинках” верховья Яны [52].
Можно допустить, что степоиды возникают на склонах, покрытых тайгой, в результате пожаров и других катастрофических процессов, вызывающих смену лесной растительности на травянистую. Признаки былых пожаров на месте некоторых степоидов по берегам р. Пантелеихи зафиксированы в исследовании [25] и в настоящей работе. В этом случае кровля многолетней мерзлоты понижается, почва становится более сухой и получает больше тепла. Торфянистые и перегнойные горизонты трансформируются в гумусово-аккумулятивные с примесью оторфованного детрита. Нисходящая миграция почвенной влаги меняется на восходящую. Глееватый горизонт в нижней части профиля при смене окислительно-восстановительного режима эволюционирует в сегрегационный. Гумусонакопление частично маскирует палевый горизонт.
Формирование органопрофиля почв под термофитными степоидами определяется сочетанием противоположно направленных процессов: во-первых, разложением и трансформацией в благоприятных термических условиях органического вещества материнской породы, затронутой синкриогенным почвообразованием [17], во-вторых, накоплением гумуса в верхней и средней части профиля при разложении глубоко проникающих корней. Важными факторами являются зоогенный привнос грубого органического материала на разные глубины в пределах мощного деятельного слоя и его переработка in situ.
Для этих почв характерен аккумулятивный тип распределения органического вещества (рис. 5b–5e). В серогумусовых горизонтах содержание Сорг изменяется в пределах 1.7–6.6, а в перегнойно-темногумусовых – доходит до 10%. Изучаемые профили могут соответствовать и мало-, и средне- и многогумусовым вариантам Волковинцера [13] или гумусовому и гумусово-перегнойному вариантам Быстрякова [7]. В минеральной толще содержание органического углерода изменяется в пределах 0.4–1.8%, в большинстве случаев снижаясь по профилю (рис. 5b). Так, в верхних горизонтах (до 50–60 см) минеральной толщи содержание органического углерода по средневзвешенным данным составляет 0.5–1.7%, а в нижележащих – 0.5–0.7%. В почве нижней части крутого склона (район Бубякинских дач) аккумулятивный тип распределения гумуса осложнен повышением (на 0.25–0.50%) содержания органического углерода у кровли многолетней мерзлоты (рис. 5e). В подавляющем большинстве случаев содержание органического углерода в минеральной толще меньше, чем в почвообразующей породе.
Формирование органопрофиля криометаморфических почв тайги также определяется балансом процессов деструкции унаследованного от породы органического вещества и новообразования гумуса, но оба этих процесса выражены слабее. Разложение происходит медленнее из-за более низких температур профиля, а опад поступает преимущественно на поверхность, благодаря чему формируются грубогумусовые и перегнойные горизонты с высоким содержанием оторфованных растительных остатков. В перегнойных горизонтах органического углерода содержится 10.7–14.7%, в карманах – 3.5%. В нижележащей толще средневзвешенные значения этого показателя варьируют в интервале 0.5–0.9%, в нижней части профиля может встречаться накопление Сорг (до 1.1%) (рис. 5f–5g). В среднем содержание органического углерода в минеральных горизонтах ненамного меньше, чем для почв термофитных степоидов.
Гуматно-фульватный состав гумуса в верхних горизонтах почвы термофитной степи глубже по профилю сменяется фульватным, а средняя степень гумификации (25.8–30.9%) – низкой (14.4%) (табл. S3). По групповому составу гумуса изучаемые варианты схожи со многими криоаридными почвами Якутии, верховьев Колымы и Западной Чукотки [7–9, 13, 33, 34, 40]. По фракционному составу они отличаются от ряда почв остепненных участков верховьев Яны, Индигирки [13] и Колымы [9] меньшим содержанием второй фракции гуминовой кислоты, связанной с кальцием. Микроморфологический анализ выявляет активную минерализацию и гумификацию растительных остатков, как современных, так и унаследованных от материнской породы (рис. 3а). Эти процессы зафиксированы на глубинах 10, 40 и 100 см в разрезе 103-87, т.е. по всему профилю почвы. Для верхних горизонтов характерно появление на поверхности отдельных минеральных зерен темных муллеподобных форм гумуса (рис. 3b), отражающих контрастность термических условий – глубокое промерзание, вызывающее денатурацию свеже образованного гумуса [5]. В почвах тайги этого не наблюдается. Здесь гумус накапливается преимущественно в виде отдельных мельчайших сгустков или пленок на поверхности минеральных зерен. Большая часть органического вещества в верхнем горизонте минеральной части профиля представлена растительным детритом (рис. 3f).
Увеличение мощности СТС под остепнеными участками приводит к вовлечению в современный почвообразовательный процесс верхних горизонтов породы, пребывавших в мерзлом состоянии до возникновения степоида. Эти горизонты представляют собой резервуар солей, карбонатов, детрита и растворимого органического вещества. В условиях преобладания восходящих токов влаги подвижные компоненты талой породы мигрируют вверх, способствуя нейтрализации почвенного раствора и насыщению ППК. Схожие процессы протекают и в степных биогеоценозах Центральной Якутии [20, 38].
Реакция среды в почвах термофитных степоидов меняется вниз по профилю от среднекислой до нейтральной или слабощелочной. Обменная кислотность связана преимущественно с водородом, ее значения невелики. Величина гидролитической кислотности в гумусово-аккумулятивных горизонтах равна 2.7–5.3, в минеральных – 0.5–2.7, а при переходе к почвообразующей породе – 0.2–0.5 смоль(+)/кг. Степень насыщенности ППК в верхней и средней частях профиля составляет 78–90%, в нижней наблюдается практически полное насыщение. Стоит отметить, что наибольшие значения потенциальной кислотности отмечаются в почве на перегибе склона в районе Бубякинских дач (разрез 601-08), особенно в горизонте АВ, где наиболее интенсивно разлагается грубый органический материал. В целом, изучаемые почвы под термофитными степоидами в верхней и средней части профиля кислее большинства описанных в литературе криоаридных почв верховьев Колымы, бассейнов верхнего и среднего течений Индигирки [5, 7, 9, 12, 16, 23, 35, 40, 50].
В лесных почвах реакция среды изменяется сверху вниз от сильнокислой до слабощелочной. В этих почвах величины обменной и в особенности гидролитической кислотности существенно выше, чем в почвах под термофитными степоидами. Эта разница более заметна в верхней части профиля, что объясняется принципиальным различием органо-аккумулятивных горизонтов. Степень насыщенности ППК основаниями в верхней части профиля составляет 57–77%, повышаясь у кровли мерзлоты до 93–99%.
Данные анализа водной вытяжки для почвы термофитного степоида (рис. 6b) демонстрируют увеличение содержания легкорастворимых солей сверху вниз по профилю в 3.5–4.8 раза. Увеличение концентрации катионов, по сравнению с верхним горизонтом, происходит, в первую очередь, за счет ионов натрия (в 14.8–19.3 раза), во вторую, – за счет ионов магния (в 2.6 раза), а за счет ионов кальция (в 2.1 раза) – лишь в нижней части деятельного слоя (горизонт D). Увеличение содержания анионов происходит, главным образом, за счет хлорид- и сульфат-ионов и сопровождается резким (в 4.3–10.3 раза) возрастанием недостатка анионов по сравнению с катионами, а также разности между содержанием сухого остатка и суммы солей (в 2.1–8.1 раз). Последнее указывает на вероятное повышение доли органических анионов в средней и нижней частях профиля, что подтверждается данными определения водорастворимого органического вещества (рис. 8). На фоне общего увеличения содержания водорастворимых веществ сверху вниз на глубине 70–95 см (горизонт BD) отчетливо выделяются максимумы концентрации ионов натрия и хлорид-ионов за счет чего в горизонте отмечается слабая степень хлоридного засоления. Распределение солей по профилю почвы термофитного степоида формируется при преобладании восходящих токов влаги, сочетающегося с периодическом неглубоком промачивании почвенной толщи во время сильных летних дождей и, возможно, протаивания в начале теплого периода. Напомним, что объемная доля текстурного льда в верхних горизонтах может быть высокой. В результате содержащиеся в отложениях едомной свиты легкорастворимые соли, в том числе соли органических кислот, концентрируются, как в нижней, так и в средней части профиля. Ион натрия и хлорид-ион как наиболее подвижные компоненты жидкой фазы активно мигрируют вверх и накапливаются преимущественно в средней части. Второе место среди катионов в миграции принадлежит иону магния.
Рис. 6. Содержание водорастворимых солей в почвах петрофитного степоида (a – Малиновый яр, разрез 4-08), термофитного степоида (b – район Бубякинских дач, разрез 601-08) и редколесья (c – Малиновый яр, разрез 501-08). Содержание ионов: 1 – HCO–3 , 2 – Cl–, 3 – SO42–, 4 – K+, 5 – Na+, 6 – Mg2+, 7 – Ca2+.
Рис. 7. Микробиоморфы, выделенные из почвы термофитного степоида (район Бубякинских дач, разрез 601-08): a – фитолиты злаков, b – остатки лиственницы.
Рис. 8. Содержание водорастворимого органического вещества в почве термофитного степоида (район Бубякинских дач, аналог разреза 601-08).
В пользу стабильности распределения растворимых солей говорит его соответствие с распределением обменных оснований (табл. 5). Повышение концентрации ионов натрия приводит к их внедрению в ППК. В разрезе 601-08 максимальное содержание Na+ в водной вытяжке совпадает с максимальным содержанием обменного натрия и приходится на горизонт BD, где последнее составляет 2.4 смоль(+)/кг, то есть13.1% от эффективной емкости катионного обмена. В других почвах под термофитными степоидами его доля в составе ППК также довольно велика – до 6.0–8.5%. Высокое содержание обменного натрия, в свою очередь, приводит к еще большей подвижности органического вещества. Стоит отметить, что химические и морфологические признаки осолонцевания были описаны в некоторых криоаридных почвах бассейна среднего течения Индигирки [39] и в Центральной Якутии [38].
Суммарное содержание обменных оснований в почвах термофитных степоидов для верхней части профиля составляет 15.5–20.7, для средней – 10.8–17.6, а для нижней, переходной к породе – 16.2–19.9 смоль(+)/кг. Профильное распределение обменных оснований бимодально. Оно отражает их биогенное накопление в верхних горизонтах и миграцию оснований с восходящими токами влаги из материнской породы. Ведущая роль в составе обменных оснований принадлежит ионам кальция и магния, долевое соотношение которых для минеральных горизонтов по средневзвешенным данным составляет 1.6–2.6. По-видимому, отношение CaППК/MgППК отражает восходящую миграцию Mg2+ в составе почвенного раствора. Высокая доля ионов магния в составе ППК отмечается также в почвах остепненных склонов верховьев Индигирки и Яны [13, 15, 32, 34]. В гумусово-аккумулятивном горизонте может иметь место накопление обменного калия (1.0 смоль(+)/кг или 4.3% от ЕКО).
Лесные почвы характеризуется меньшим содержанием водорастворимых солей, гораздо более скромным увеличением минерализации водной вытяжки вниз по профилю и невысокой долей ионов натрия в составе водной вытяжке и в ППК. Концентрация обменных оснований в средней части профиля более низкая (7.9–14.4 смоль(+)/кг), а отношение CaППК/MgППК в их составе более широкое (2.2–3.8).
Содержание карбонатов в почвах и остепненных участков, и тайги невелико. Различие наблюдается лишь по средневзвешенным величинам, согласно которым в почвах термофитных степоидов концентрация СО2 карбонатов приблизительно в 1.3 раза выше, что позволяет говорить об их слабой аккумуляции.
В верхних горизонтах изучаемых почв имеет место некоторое накопление дитиониторастворимого железа (рис. 4a). Содержание оксалаторастворимых R2O3 в лесной почве изменяется в более широких пределах и имеет четко выраженное аккумулятивное распределение. Однако более высокая концентрация R2O3 по Тамму в мезоморфном таежном профиле по сравнению с ксероморфным степным четко проявляется лишь применительно к органо-аккумулятивным горизонтам: в 2.6 раза выше для Fe2O3 и в 2.5 раза – для Al2O3 (рис. 4b).
Сопоставление форм несиликатного железа указывает на его аккумуляцию в почве остепненного участка за счет окристаллизованного, а в почве редколесья – преимущественно за счет аморфного Fe2O3 (рис. 4а). Дегидратацию и кристаллизацию аморфного железа в ксероморфных почвах Северо-Востока с контрастным температурным режимом и интенсивным зимнем промораживанием отмечали многие авторы [7–9, 26, 40, 43]. Не случайно, что наиболее существенное различие по критерию Швертмана между почвами термофитного степоида (0.18–0.22) и тайги (0.25–0.37) наблюдается в верхней части профиля, где велика разница зимних температур. Другой причиной можно считать влияние опада и напочвенного растительного покрова на химизм почвенных процессов, наиболее отчетливо выраженное в органо-аккумулятивных горизонтах.
Степное почвообразование способствует накоплению азота. В почве под термофитным степоидом его валовые концентрации по средневзвешенным данным для органо-аккумулятивных горизонтов в 3.0. а для минеральных – в 1.4 раза выше, чем в лесной почве. Доли аммонийной и нитратной форм ничтожно малы (0.2–0.9% от валового содержания азота), азот почти полностью связан с органическим веществом. Диапазон молярных отношений С/N в изучаемых профилях составляет 9.7–13.8. Близкие значения приводятся, например, для почв остепненных участков в бассейне среднего течения Индигирки [39].
Содержание подвижного фосфора во всех случаях велико, что связано с особенностями почвообразующей породы [17]. В почвах под термофитными степоидами оно изменяется в более узких пределах по сравнению с почвами редколесий. Средневзвешенные значения близки: 25.5–32.3 и 20.4–37.7 мг Р2О5/100 г соответственно. Обращает на себя внимание характер профильного распределения подвижного фосфора в почве степоида, в котором почти отсутствуют черты его биогенной аккумуляции, а также элювиально-иллювиального перераспределения, столь типичные для зональных почв тайги. Первое обстоятельство объясняется различием органо-аккумулятивных горизонтов. Второе – указывает на отсутствие элювиирования даже наиболее мобильных соединений в почвах степоидов. Для подвижного калия характерно аккумулятивное распределение по профилю, которое в почвах под термофитными степоидами может быть осложнено бимодальностью из-за высокого содержания в породе.
Обсуждение
Проведенные исследования показывают, что под степоидами изучаемого региона развиваются ксероморфные, глубокопротаивающие почвы с разнообразными гумусоаккумулятивными (но не криогумусовыми) горизонтами, высоким содержанием корней, порошистой структурой и значительным содержанием водоустойчивых микроагрегатов. От криометаморфических почв соседствующих с ними ландшафтов притундровых редколесий они отличаются пониженной актуальной и потенциальной кислотностью; несколько более высоким содержанием обменных оснований, легкорастворимых солей, карбонатов и органического азота; более узким отношением концентраций оксалаторастворимого железа к дитиониторастворимому. В составе обменных оснований больше доля ионов магния, а в случае почв термофитных степоидов – магния и натрия. Фульватно-гуматный или гуматно-фульватный в верхнем горизонте тип гумуса с глубиной меняется на фульватный. Среди микроаккумуляций органического вещества широко представлены муллеподобные формы гумуса. Этим почвам не свойственны элювиальные процессы, они формируются при участии восходящих токов влаги, которые в случае термофитных степоидов вызывают миграцию вещества из почвообразующей породы. Последнее обстоятельство наряду с участием в почвообразовании корневых систем травянистых растений и зоотурбациями, по-видимому, играет ведущую роль в формировании профиля.
Объекты проведенных исследований имеют много общего с описанными в литературе криоаридными почвами. Помимо экологического сходства и однотипных гидротермических режимов их также объединяют многие субстантивные признаки: часто наблюдаемая буроватая окраска гумусоаккумулятивного горизонта, комковато-порошистая или порошистая структура, значительная доля водостойких микроагрегатов, групповой состав гумусовых веществ, характер их распределения и накопления в профиле, сравнительно узкое отношение молярных содержаний углерода к азоту, а также слабое преобразование минеральной составляющей.
Большинство почв под петрофитными степоидами в рамках Классификации и диагностики почв России [23] относятся к типу литоземов серогумусовых на основании глубины залегания скальной породы (до 30 см) и типа гумусово-аккумулятивного горизонта, а на основании карбонатных пленок на поверхности щебнистых отдельностей (главного твердофазного признака криоксероземного почвообразования) – к подтипу литоземов серогумусовых натечно-карбонатных. Те же варианты, которые имеют большую мощность рыхлой толщи, должны быть классифицированы вместе с почвами термофитных степоидов. Здесь необходимо отметить сравнительно небольшое отличие последних от почв окружающей тайги. По целому ряду параметров химического состояния (реакция среды, степень насыщенности, содержание обменных оснований и карбонатов, отношение Feo/Fed) они занимают промежуточное положение между зональными лесными разностями и почвами петрофитных степоидов, что хорошо согласуется с их различиями по теплообеспеченности. От последних почвы под термофитными степоидами отличаются составом гумуса: более узким соотношением концентраций Сгк/Сфк и меньшей степенью гумификации. Иными словами, с позиций криоаридного почвообразования они представляются менее зрелыми, нежели почвы под петрофитными степоидами.
Главное отличие изучаемых почв от типичных криоаридных [7, 13, 23, 33, 40] заключается в отсутствии горизонта аккумуляции карбонатов, который в случае термофитных степоидов наблюдается лишь в зачаточной форме, а в случае петрофитных – развит очень слабо. В низовьях Колымы степоиды распространены на малокарбонатных породах, а уровень биологической активности их почв недостаточен для образования в заметных количествах педогенных карбонатов. В качестве обоснования может выступать также полное отсутствие крупнозема в почвах, развивающихся на отложениях едомной свиты. Мигрирующим по профилю карбонатам просто не на чем концентрироваться. Вместе с тем в литературе имеется немало примеров отсутствия карбонатного горизонта в почвах холодных степей и других криофитных сообществ Восточной Сибири. Прежде всего, карбонатные горизонты не были обнаружены при первых описаниях почв остепненных склонов в верховьях Индигирки и Яны [45, 46, 52]. Известно, что многие горные таежно-степные [9], тундро-степные [43] почвы Колымы и Индигирки не имеют в своем профиле карбонатного горизонта и карбонатных новообразований. На необязательность карбонатного горизонта в почвах остепненных склонов указывали Иванова с соавт. [22], а Волковинцер [13] отмечал существование бескарбонатных степных криоаридных почв в Забайкалье.
В результате низкой карбонатности и интенсивного разложения грубого органического вещества верхние горизонты почв под термофитными степоидами характеризуются умеренным подкислением и неполной насыщенностью ППК, что также несвойственно большинству криоаридных почв Северо-Восточной Евразии. Но и здесь имеются примеры сравнительно высокой кислотности всего профиля или верхней его части под ксерофитными сообществами. К ним относятся некоторые почвы Оймяконской котловины [32], а также тундро-степные разности Чукотки [5, 26].
Не имея возможности отнести изучаемые почвы к криоаридным по формальным критериям, нужно признать широкое распространение схожих вариантов, развивающихся в близких экологических условиях как на периферии, так и в центре ареала криоаридного (криоксероземного) почвообразования. Поэтому к вопросу о классификационном положении почв под Колымскими степоидами можно подойти двояко. Можно настаивать на необходимости выделения бескарбонатных криоаридных почв в качестве самостоятельного типа или подтипа в типе криоаридных, а можно рассматривать их в качестве переходных подтипов или родов в отделе органо-аккумулятивных почв. Поскольку криогумусовый горизонт в верхней части профиля не выделяется, второй подход представляется более логичным. Давая названия почвам, мы не вводили новых таксонов и использовали существующую классификацию. Разделение почв на типы осуществлялось по характеру органо-аккумулятивных горизонтов, а выделение подтипов проводилось по наиболее характерным чертам криоксероземного почвообразования: в случае почв петрофитных степоидов – это наличие карбонатных пленок на щебне, а в случае термофитных – зоотурбированность профиля.
Таким образом, в подзоне притундровых редколесий правобережья низовьев р. Колымы в пределах петрофитных степоидов в зависимости от глубины залегания скальной породы выделяются серогумусовые литоземы натечно-карбонатные и серогумусовые или перегнойно-темногумусовые натечно-карбонатные почвы. В пределах термофитных степоидов региона соответственно выделяются серогумусовые или перегнойно-темногумусовые поверхностно-турбированные (зоотурбированные) почвы.
Слабое проявление криоксероземного типа почвообразования и отсутствие настоящих с точки зрения современной классификации криоаридных почв на севере Колымской низменности требует объяснения. Первая причина климатическая: по сравнению с Яно-Оймяконским нагорьем и верховьями Колымы, климат изучаемого региона характеризуется меньшими величинами радиационного баланса, аридностью и континентальностью. Летние значения коэффициента увлажнения соответствуют здесь верхнему пределу установленного Волковинцером [13] диапазона, необходимого для степного криоаридного почвообразования (0.1–0.7), а коэффициент континентальности намного меньше нижнего предела (270–295). Другой не менее важной причиной отсутствия криоаридных почв в их классическом варианте является низкое содержание карбонатов в почвообразующей породе. Наконец, третья причина, вероятно, заключается в крайне малых размерах нижнеколымских степоидов. Даже если и не рассматривать высказанную выше гипотезу об их генетической связи с окружающей тайгой, тайга при таких площадях остепненных участков непременно оказывает геохимическое влияние на формирующиеся здесь почвы за счет привноса хвойного опада, подпитывания почвенными растворами и верховодкой в период весеннего снеготаянья, а также других потоков веществ.
Финансирование работы
Работа выполнена в рамках госзаданий ИФХ и БПП РАН № 122040500038-3, ТИГ ДВО РАН № 122020900184-5 и ИГАБМ СО РАН, проект FUFG-2024-0005 и частично проекта РФФИ 07-05-00313-а.
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Дополнительная информация
Онлайн-версия содержит дополнительные материалы, доступные по адресу https://doi.org/10.31857/S0032180X24050058
1 Здесь и далее приводятся данные за 2006–2011 гг., т.е. за период изучения температурного режима почв степоидов.
About the authors
D. G. Fedorov-Davydov
Institute of Physico-Chemical and Biological Problems of Soil Science of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: muss-96@yandex.ru
Russian Federation, Pushchino, 142290
S. P. Davydov
Pacific Institute of Geography FEB RAS, North-Eastern Research and Experimental Station
Email: muss-96@yandex.ru
Russian Federation, Chersky, 678830
S. V. Gubin
Institute of Physico-Chemical and Biological Problems of Soil Science of the Russian Academy of Sciences
Email: muss-96@yandex.ru
Russian Federation, Pushchino, 142290
A. I. Davydova
Pacific Institute of Geography FEB RAS, North-Eastern Research and Experimental Station
Email: muss-96@yandex.ru
Russian Federation, Chersky, 678830
O. G. Zanina
Institute of Physico-Chemical and Biological Problems of Soil Science of the Russian Academy of Sciences
Email: muss-96@yandex.ru
Russian Federation, Pushchino, 142290
M. V. Shchelchkova
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Email: muss-96@yandex.ru
Russian Federation, Yakutsk, 677000
G. G. Boeskorov
Institute of Geology of Diamond and Precious Metals SB RAS
Email: muss-96@yandex.ru
Russian Federation, Yakutsk, 677980
References
- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962. 491 с.
- Берман Д.И. Тундростепи плейстоценовой Берингии и современные насекомые // Природа. 2001. № 11. С. 22–33.
- Берман Д.И., Алфимов А.В. Микроклиматическая обусловленность существования степных экосистем в Субарктике северо-востока Азии // Бюл. МОИП. Отдел биологический, 1993. Т. 98. Вып. 3. С. 118–128.
- Берман Д.И., Алфимов А.В. Реконструкция климатов позднего плейстоцена азиатской и центральной Берингии по энтомологическим данным // Вестник ДВО РАН. 1998. № 1. С. 27-34.
- Берман Д.И., Алфимов А.В., Мажитова Г.Г., Гришкан И.Б., Юрцев Б.А. Холодные степи северо-востока Азии. Магадан: ИБПС ДВО РАН, 2001. 183 с.
- Бронникова М.А., Герасимова М.И., Конопляникова Ю.В., Гуркова Е.А., Черноусенко Г.И., Голубцов В.А., Ефремов О.Е. Криоаридные почвы как генетический тип в классификации почв России: география, морфология, диагностика // Почвоведение. 2022. № 3. С. 263–280.
- Быстряков Г.М. Почвы и почвенный покров холодных полузасушливых областей Северо-Востока СССР (на примере верховьев разрез Колымы). Автореф. дис. ... канд. геогразрез наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 28 с.
- Быстряков Г.М. Высокогумусные иллювиально-метаморфические почвы Западной Чукотки // Почвоведение. 1988. № 1. С. 5–17.
- Быстряков Г.М., Кулинская Е.В. Почвы степных криоаридных ландшафтов верховьев Колымы и Индигирки // География и генезис почв Магаданской области. Владивосток, 1980. С. 143–160.
- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов. М.: Высшая школа, 1973. 399 с.
- Васьковский А.П. Спорово-пыльцевые спектры современных растительных сообществ Крайнего Северо-Востока СССР и их значение для восстановления четвертичной растительности // Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. Магадан: Книжное изд-во, 1957. № 11. С. 130–178.
- Васьковский А.П. Географические особенности почв лесной области Крайнего Северо-Востока СССР // Краеведческие записки. 1960. Вып. 3. С. 72–108.
- Волковинцер В.И. Степные криоаридные почвы. Новосибирск: Наука (Сибирское отделение), 1978. 208 с.
- Геологическая карта Северо-Востока СССРАЗРЕЗ Масштаб 1 : 1 500 000. МинГео РСФСР, Камчатское ПГО, Северо-Восточное ПГО, Якутское производственное геологическое объединение (Якутскгеология). 1980.
- Герасимов И.П. Самобытность генетических типов почв Сибири // Сибирский географический сборник. № 2. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 7–27.
- Гриненко О.В., Гладенков Ю.Б., Буданцев Л.Ю. Палеоген и неоген Северо-Востока СССР. Якутск, 1989. 181 с.
- Губин С.В. Позднеплейстоценовое почвообразование на лессово-ледовых отложениях Северо-Востока Евразии. Автореф. дис. … докт. биол. наук. Пущино, 1999. 36 с.
- Димо В.Н. Тепловой режим почв СССР. М.: Колос, 1972. 360 с.
- Заславская Т.М., Петровский В.В. Флора сосудистых растений окрестностей пос. Черский (Северная Якутия) // Ботанический журнал. 1994. Т. 79. № 2. С. 65–79.
- Зольников В.Г. Почвы восточной половины Центральной Якутии и их использование // Материалы о природных условиях и сельском хозяйстве Центральной Якутии. Вып. 1. Якутск: Изд-во АН СССР, 1954. С. 55–221.
- Зонн С.В. Железо в почвах. (Генетические и географические аспекты). М.: Наука, 1982. 207 с.
- Иванова Е.Н., Розов Н.Н., Ерохина А.А., Ногина Н.А., Носин В.А., Уфимцева К.А. Новые материалы по общей географии и классификации почв полярного и бореального пояса Сибири // Почвоведение. 1961. № 11. С. 7–23.
- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена., 2004. 342 с.
- Кожевников Ю.П. Критический обзор данных, касающихся проблемы флорогенеза Чукотки // Ботанический журнал, 1977. Т. 62. № 3. С. 445–460.
- Кожевников Ю.П. Ботанико-экологические наблюдения на Колыме в районах среднего течения разрез Березовки и пос. Черский // Биология и экология растений бассейна Колымы. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1981. С. 99-117.
- Козицкая Л.Т., Разживин В.Ю. Реликтовые ксерофитные сообщества на западе Чукотского полуострова и их почвы // Экология. 1985. № 3. С. 32–38.
- Лавренко Е.М. История флоры и растительности СССР по данным современного распространения растений // Растительность СССР. Т. 1. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938. С. 235–296.
- Лавренко, Е.М., Карамышева З.В., Никулина Р.И. Степи Евразии. Л.: Наука, 1991. 146 с.
- Мажитова Г.Г. Почвенный покров бассейна разрез Сибит-Тыэллах // Пояс редколесий верховий Колымы. Владивосток, 1985. С. 30–43.
- Макеев О.В., Остроумов В.Е. Температурное поле и годовые теплообороты в почвах // Успехи почвоведения: Советские почвоведы к XIII Международному конгрессу почвоведов, Гамбург / Под. ред. Ковды В.А., Глазовской М.А. М.: Наука, 1986. С. 27–32.
- Максимович С.В. Экология степных почв и растительности на Крайнем Северо-Востоке Якутии (зона тундры и лесотундры) // Криосфера Земли, 1998. Т. 2. № 2. С. 26–32.
- Наумов Е.М. Криоаридные почвы Северного полюса холода // Мерзлота и почвы. Докл. Всесоюз. Конф. по мерзлотным почвам. Якутск, 1974. Т. 3. С. 104–110.
- Наумов Е.М. Почвы и почвенный покров Северо-Востока Евразии. Диссертация … д. с.-х. н. в форме научного доклада. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1993. 63 с.
- Наумов Е.М., Андреева Н.А. Почвы остепненных склонов Яно-Индигирского нагорья (таежно-степные почвы экстраконтинентальных областей Северо-Востока СССР) // Почвоведение. 1963. № 3. С. 62–70.
- Орлов Д.С. Химия почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 400 с.
- Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 271 с.
- Пустовойтов К.Е. Кутаны иллювиирования автоморфных щебнистых почв мерзлотных ландшафтов Дальнего Востока. Автореф. дис. … канд. биол. наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 26 с.
- Работнов Т.А. В степях Центральной Якутии // Природа. 1945. № 2. С. 65–66.
- Скрябин С.З., Коноровский А.К. Растительность и почвы степей среднего течения Индигирки // Ботанические материалы по Якутии. Якутск, 1975. С. 38–47.
- Соколов И.А., Быстряков Г.М., Кулинская Е.В. К характеристике ультраконтинентального холодного аридного почвообразования // Специфика почвообразования в Сибири. Новосибирск: Наука (Сибирское отделение), 1979. С. 9–13.
- Сочава В.Б., Липатова В.В. Группировки степных растений в Амурской подтайге // Тразрез Московского общества испытателей природы. Сб. работ по геоботанике, ботанической географии, систематике растений и палеогеографии. М.: МОИП, 1960. С. 263–276.
- Федоров-Давыдов Д.Г., Давыдов С.П., Давыдова А.И., Остроумов В.Е., Холодов А.Л., Сороковиков В.А., Шмелев Д.Г. Температурный режим почв Северной Якутии // Криосфера Земли. 2018. № 4. С. 15–24.
- Черняховский Д.А. Эколого-генетический анализ тундро-степных почв Северо-Востока Сибири // Почвоведение. 1995. № 5. С. 541–550.
- Шелудякова В.А. Растительность бассейна реки Индигирки // Советская ботаника. 1938. № 4–5. С. 43-79.
- Шелудякова В.А. Растительность Верхоянского района Якутской АССР (ботанико-географический очерк). Якутск: Якутское гос. изд-во, 1948. 66 с.
- Шелудякова В.А. Степная растительность Якутского Заполярья // Тр. Ин-та биологии ЯФ АН СССР. Вып. 3. Якутск, 1957. С. 68–82.
- Шер А.В., Каплина Т.Н., Гитерман Р.Е., Ложкин А.В., Архангелов А.А., Вирина Е.И., Зажигин В.С., Киселев С.В., Кузнецов Ю.В. Позднекайнозойские отложения Колымской низменности. Путеводитель научной экскурсии XIV Тихоокеанского научного конгресса. Тур 11. М.: Тихоокеанская научная ассоциация, 1979. 117 с.
- Шмелев Д.Г, Рогов В.В., Губин С.В., Давыдов С.П. Криолитогенные отложения на правобережье низовий разрез Колыма // Вестник Моск. ун-та. Серазрез 5, география, 2013. № 3. С. 66–72.
- Юрцев Б.А. Проблемы ботанической географии Северо-Восточной Азии. Л.: Наука, 1974. 159 с.
- Юрцев Б.А. Некоторые вопросы типологии степных сообществ Северо-Восточной Азии // Ботанический журнал. 1978. Т. 63. № 11. С. 1566–1578.
- Юрцев Б.А. Реликтовые степные комплексы Северо-Восточной Азии. (Проблемы реконструкции криоксеротических ландшафтов Берингии). Новосибирск: Наука, 1981. 168 с.
- Яровой М.И. Растительность бассейна разрез Яны и Верхоянского хребта // Советская ботаника. 1939. № 1. С. 21–40.
- Binney H.A., Edwards M.E., Macias-Fauria M., Lozhkin A.V., Anderson P.M., Kaplan J.O., Bezrukova E. et al. Vegetation of Eurasia from the last glacial maximum to present: key biogeographic patterns // Quat. Sci. Rev. 2017. V. 157. P. 80–97.
- Blinnikov M.S., Gaglioti B.V., Walker D.A., Wooller M.J., Zazula G.D. Pleistocene graminoid-dominated ecosystems in the arctic // Quat. Sci. Rev. 2011. V. 30. P. 2906–2929.
- Davydov S., Davydova A., Schelchkova M., Makarevich R., Fyodorov-Davydov D., Loranty M., Boeskorov G. Essential mineral nutrients of the high-latitude steppe vegetation and the herbivores of mammoth fauna // Quater. Sci. Rev. 2020. V. 228. P. N106073.
- Heslop J.K., Chandra S., Sobzcak W.V., Davydov S.P., Davydova A.I., Spektor V.V., Katey M. Walter Anthony, Variable respiration rates of incubated permafrost soil extracts from the Kolyma River lowlands, north-east Siberia // Polar Research. 2017. V. 36. P. 1751–8369.
Supplementary files