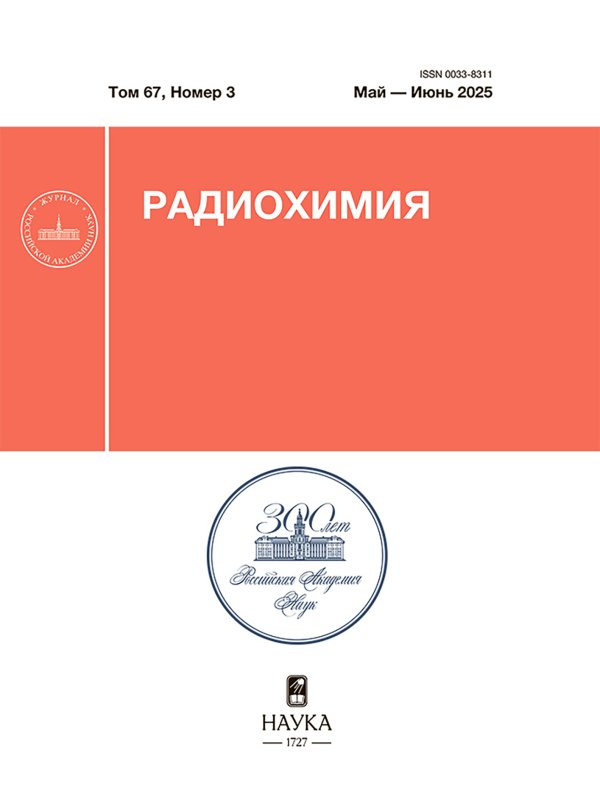Determination of 239,240pu in Caspian Sea water using the sorption–diffusion model of the radionuclide uptake by bottom sediments
- Authors: Bakunov N.A.1, Aksenov A.O.1
-
Affiliations:
- Arctic and Antarctic Research Institute
- Issue: Vol 66, No 4 (2024)
- Pages: 399-404
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0033-8311/article/view/279448
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033831124040123
- ID: 279448
Cite item
Full Text
Abstract
The content of global 239,240Pu in Caspian sea water (1996–2056) was calculated using the sorption–diffusion model of the radionuclide uptake by bottom sediments with the distribution coefficient Kd = 50 × 103 and diffusion coefficient D = 0.1 × 10–7 cm2/s. The 239,240Pu global fallout on the sea was assumed to be equal to the experimental value for the mid-latitude belt of Russia, 60 Bq/m2. At the plutonium fallout density on the sea surface of 58 Bq/m2, its inventory in the sea Q as of the year 1964 is 21.9 TBq. In 1996, the experimentally determined 239,240Pu concentration in Caspian sea water was ~20 μBq/L, and the calculation by the model gives 17.8 μBq/L. During the ~ 30-year migration of global 239,240Pu, about 93% of the radionuclide passed from the aqueous phase to bottom soils. According to the calculations, the 239,240Pu concentration in the seawater in the period 1996–2056 will decrease from 17.8 to 10.5 μBq/L, and the 239,240Pu inventory in the seawater, from 6.3 to 3.7%, of the fallout value. The results were verified using an independent method for 90Sr monitoring in Caspian sea water and determining the 239,240Pu/90Sr concentration ratio in the water. The results of estimating the 239,240Pu concentrations in the seawater (2017–2020) by these two methods reasonably agree with each other.
Keywords
Full Text
Миграции и поведению 239,240Pu в водах Мирового океана уделялось значительное внимание из-за дампинга радиоактивных отходов в моря и проведения в них ядерных испытаний [1–4]. Высокотоксичные радионуклиды 239,240Pu относятся к долгоживущим с полупериодами распада Тфиз 2.4 × 104 и 6.5 × 103 лет соответственно. Поэтому необходимо располагать знаниями закономерностей их миграции в системах водосбор-водоем и накопления в глубоководных озерах и в морях средиземноморского типа, принимающих речной сток.
Актуальность изучения миграции плутония в водоемах не ограничивается 239,240Pu, так как среди компонентов радиоактивного загрязнения природных сред может присутствовать 241Pu с Т = 14 лет с его дочерним радионуклидом 241Аm. Определения радионуклидов Pu глобальных выпадений в воде глубоких озер и морей средиземноморского типа (Балтийское, Черное моря) [5–9] относятся к редким наблюдениям, выполненным через ~7–30 лет после поступления 239,240Pu в водоемы. Поэтому о реальном изменении содержания Pu в воде глубоководных озер и морей средиземноморского типа можно судить лишь приближенно. Уровень глобального 239,240Pu в глубоководном (Нср = 84 м) оз. Мичиган [5] в 1972–1975 гг. составил 20 мкБк/л. По единичным наблюдениям в водах Балтийского моря (1984–1985 гг.) и в Ладожском оз. (1991 г.) концентрации 239,240Pu составили 7–22 и 20 мкБк/л соответственно [7, 8]. В глубоком (Нср = 16 м) финляндском оз. Пяйянне в 1986–1987 гг. загрязнение вод 239,240Pu и 241Pu характеризовалось концентрацией 13 и 800 мкБк/л соответственно [9]. Из морских и океанических вод [1–3, 10–12] 239,240Pu мигрировал в грунты дна быстрее, чем радионуклиды 90Sr и 137Cs. Эти радионуклиды в морской среде имеют химические аналоги в виде элементов Са и K, способствующих удержанию 90Sr и 137Cs в водной фазе. 239,240Pu сорбировался из морских вод взвесью и грунтами дна с коэффициентами распределения Kd n·(103–104) л/кг [13]. 239,240Pu накапливался в верхнем слое (0–2 см) морских донных отложений [1–3, 7, 10, 12, 14, 15] и слабо мигрировал в толщу грунтов.
Изучение миграции глобального 239,240Pu в Каспийском море проводилось в два этапа. На первом этапе по литературным данным уточнялось физико-химическое состояние Pu в воде и донных отложениях водоемов. Сведения о химических формах плутония в донных отложениях водоемов ограничены [2, 12, 16–19]. Результаты первого этапа работы использовались во втором – определении концентрации 239,240Pu в водах Каспийского моря с применением сорбционно-диффузионной модели поглощения радионуклида донными отложениями водоема. Материалом исследования послужили данные редких экспериментальных определений 239,240Pu в водах Балтийского и Каспийского морей [7, 11], в глубоких пресных водоемах [5, 6, 8, 9], а также результаты изучения физико-химического состояния Pu в почвах и донных отложениях [12, 16–19].
Актуальность исследования определяется высокой токсичностью радионуклидов Pu, длительным временем жизни и отсутствием надежных долговременных прогнозов миграции Pu в экосистемах морей и океана после захоронения в них радиоактивных отходов. Каспийское море, как замкнутый морской водоем, является удобным объектом исследования, так как позволяет исключить влияние стока или обмена вод с океаном на миграцию 239,240Pu и его запасы в экосистеме моря.
Задача исследования сводилась к определению содержания 239,240Pu в воде Каспийского моря с применением сорбционно-диффузионной модели поглощения радионуклида грунтами дна. До 1995– 1996 гг. отсутствовали экспериментальные определения 239,240Pu в водах этого водоема [11]; нет и более позднего контроля Pu в водах моря. Обращение к расчетной оценке загрязнения 239,240Pu вод бессточного моря представлялось целесообразным, так как ни одно из 5 государств, владеющих его водным ресурсом, не проводит мониторинга 239,240Pu.
Конспективно остановимся на отдельных характеристиках Каспийского моря, влияющих на загрязнение моря долгоживущими радионуклидами и на длительную миграцию их в водоеме. Плотность выпадения глобального 239,240Pu на поверхность моря принята равной 58 Бк/м2, что близко к оценке в среднеширотном поясе северного полушария 60 Бк/м2 [4, 18]. Каспий при северной границе 47° с.ш. расположен ниже этого пояса. Здесь на почвы водосборов глобального 239,240Pu выпало меньше. Роль поступления глобального 239,240Pu в Каспийское море с поверхностным стоком за ~70 лет низка, так как сток не превышает сотой доли процента запаса 239,240Pu на водосборе. В море система течений обеспечивает хороший обмен вод между северным, средним и южным регионами водоема. За 36 лет завершается обмен между поверхностными и глубинными водами моря [20, 21]. Средняя глубина Каспийского моря равна ~180 м, площадь – 374 тыс. км2, объем вод – 78.2 тыс. км3. Эти характеристики в маловодные и полноводные периоды водоема подвержены изменениям.
Выпадения глобального 239,240Pu в ~1958–1964 гг. пришлись на маловодный период Каспия. Запасы вод северного, среднего и южного районов моря оцениваются в < 0.5, ~34 и ~66% общего. Соленость моря не превышает 13‰. В глубоких районах моря донные отложения представлены глинистыми илами, а на мелководье – песками и ракушей. Воды Каспийского моря характеризуются повышенным рН (8.2–8.4), большим, чем в океане. Содержание 239,240Pu в воде за 32 года (1964–1996 гг.) снизилось от максимального в 1964 г. до более низкого в ~20 мкБк/л к 1996 г.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сорбционно-диффузионная модель поглощения радионуклида дном водоема, разработанная В.М. Прохоровым [22, 23], использовалась в прогнозах концентрации 90Sr, а позднее 137Cs [24, 25] в воде озер. Ее привлечение к определению 239,240Pu в водах Каспийского моря сдерживалось крайней ограниченностью данных по коэффициентам сорбции (Kd, л/кг) и диффузии (D, см2/с) Pu в системе вода–донные отложения опресненных морей. Донные отложения (ДО) представляют собой сложный гетерогенный сорбент. При его взаимодействии с загрязненной водой сорбция зависит от Kd отдельных компонентов сорбента и парциального вклада (по массе) компонента в составе сорбента [3]. Сорбционные свойства компонентов ДО уменьшаются от мелких фракций ила и глины к более крупным – песка, ракуши, гальки. Илы слагают толщи отложений на дне водоемов, они же обладают высокой емкостью поглощения химических элементов. Частицы ила в качестве примеси присутствуют в других компонентах ДО. В водоемах роль илов является определяющей в миграции искусственных радионуклидов. Илы стали основным депо долгоживущих литофилов 137Cs, 239,240Pu, 237Np среди грунтов водоемов [1–3, 25]. Коэффициенты диффузии 239,240Pu в ДО чаще всего определялись в модельных краткосрочных опытах [2, 12]. Нами по опытным данным послойного распределения 239,240Pu в кернах илов Белого моря и Ладожского оз. [26, 27] были рассчитаны коэффициенты диффузии плутония. Коэффициенты диффузии D в грунтах рассчитывали с использованием выражения [28]
D = b[(ln ε) 4t], (1),
где b = (x2)2 – (x1)2; ε = С1/С2; D – коэффициент диффузии, см2/с; x1 и x2 – произвольно взятые слои профиля концентраций 239,240Pu с отметками слоя, см; С1 и С2 – концентрации 239,240Pu, соответствующие слоям x1 и x2; t – время миграции, с. С целью характеристики диффузии на всем пути миграции 239,240Pu индивидуальные значения D для слоев керна усредняли. К датам мониторинга время миграции глобального 239,240Pu грунтах Белого моря и Ладожского озера составило ~28 и 44 лет. Образцы илов в Белом море были взяты с глубин 290 и 127, а в Ладожском озере – 67 и 55 м соответственно [26, 27]. Коэффициенты диффузии для алевритовых илов Белого моря составили 2.0 × 10–8–5.8 × 10–9 см2/с, а Ладожского озера – 6.8 × 10–9–1.1 × 10–8 см2/с [27]. В краткосрочных (~1.6 года) модельных опытах [29] с влагонасыщенной почвой (100% полевой влагоёмкости) коэффициент диффузии 239,240Pu составил (0.18–0.09) × 10–8 см2/с. Почвенные растворы от таковых донного грунта моря отличались солевым составом и низким рН 4.5–5.5. Для миграции плутония в ДО Каспийского моря значение коэффициента диффузии принималось близким к верхней границе диапазона D 1.0 × 10–8 см2/с морского грунта. В сорбционно-диффузионной модели [22, 23] параметры сорбции Kd и диффузии D радионуклида относятся к его заряженной форме, сорбируемой взвесью и грунтами дна.
Плутоний в составе раствора промышленных отходов, взаимодействующих с горными породами и почвами [17], присутствовал в катионной, анионной и незаряженной формах. В растворах химические формы зависят от состояния плутония, которое может изменяться от Pu(III) до Pu(VI). Кроме того, в растворах плутонию в состоянии Pu(IV) свойственно диспропорционирование [2, 3, 12, 16].
При дампинге плутония в воды Ирландского моря [15, 19] обнаружено присутствие радионуклида в состоянии валентности Pu(VI). Соленость вод Ирландского моря – 32–34.8‰ – в 3 раза выше, чем в Каспийском море. На частицах взвеси плутоний находился в состоянии Pu(III) и Pu(IV). В морской воде высока вероятность нахождения плутония в составе комплексных ионов состава PuО2СО3 и PuО2(СО3)2. Более высокое по сравнению с Мировым океаном значение рН 8.2–8.4 вод Каспийского моря позволяет предположить присутствие Pu в составе упомянутых комплексов. Для вод Ирландского моря коэффициент сорбции Kd 239,240Pu(V, VI) составил 103–104 л/кг, а для 239,240Pu(III, IV) – 105–106 л/кг. С учетом диапазона значений Kd 239,240Pu для Ирландского моря и рекомендуемых значений для морских водоемов [13] для Каспийского моря принято Kd = 50 × 103.
Концентрация радионуклида в воде Ut при больших временах сорбции донными отложениями водоема [23, 25] определяется из выражения
Ut/U0 = H/Kd√(πDt), (2)
где U0 и Ut – концентрации 239,240Pu в воде исходная и на время t соответственно, H – средняя глубина водоема, Kd – коэффициент распределения 239,240Pu 50 × 103, D – коэффициент диффузии 239,240Pu 0.1 × 10–7 см2/с в донных отложениях, t – время. По условию постоянства коэффициентов Kd и D на значительном отрезке времени (годы) концентрация Ut равна
Ut = НU0/Kd√(πDt). (3)
Выражение (2) отвечает условию больших времен сорбции радионуклида ДО. Его оценка проводится по формуле (4) с расчетом показателя у2 ≥ 10.5, отвечающего основному условию применения формулы (2) для расчета Ut:
у2 = K d2 Dt/Н2. (4)
При определении Ut допускается, что начальная концентрация U0 отвечает условию быстрого загрязнения радионуклидом всего объема вод:
U0 = Q/V, (5)
где U0 – концентрация в воде на t0, Q – запас радионуклида в объеме вод на время t0, V – объем водоема. Из-за большого полураспада Тфиз 239Pu и 240Pu распадом плутония можно было пренебречь.
Для Каспийского моря показатели площади, средней глубины и объема вод принимались равными 376.3 × 103 км2, 180 м и 78.2 × 103 км3. При плотности выпадения глобального 239,240Pu 58 Бк/м2 на поверхность водоема его запас Q = 21.9 ТБк.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты расчета 239,240Pu в воде Каспийского моря по сорбционно-диффузионной модели (3) будут сравниваться с данными экспериментальных наблюдений за содержанием плутония в водах водоема в 1995–1996 гг., выполненных коллективом авторов [11]. Кроме данных этого опыта, других наблюдений за содержанием 239,240Pu в водах моря нет. Конспективно остановимся на описании этого опыта и полученном результате. Исследования загрязнения 239,240Pu вод Каспия [11] проведены на 12 станциях, расположенных с юга на север по маршруту, близкому к средней линии моря, разделяющий водоем на западную и восточную части. Из-за неодинакового загрязнения Pu поверхностных и глубинных вод среднего и южного регионов моря запас 239,240Pu в работе [11] оценивали с учетом содержания 239,240Pu в вертикальном профиле станций наблюдений. Поверхностные воды из среднего и южного Каспия в 1995–1996 гг. содержали 239,240Pu в 2–3 раза меньше, чем воды на глубинах 200–600 м. Здесь уровни 239,240Pu достигали 20–40 мкБк/л. Средняя концентрация 239,240Pu в воде Каспийского моря с учетом разного содержания по глубине моря оценена в ~20 мкБк/л. При такой концентрации запас 239,240Pu в объеме вод ~7% от выпадения на море. За 32 года (1964–1996 гг.) миграции около 93–94 % 239,240Pu перешло из водной фазы моря в грунты дна.
Определение концентрации 239,240Pu в воде Каспийского моря по сорбционно-диффузионной модели (3) выполнено при Kd = 50 × 103, D = 0.1 × 10–7 см2/с и экспозиции 32 года (1964–1996 гг.). Опытное значение 239,240Pu на 1996 г. – ~20 мкБк/л [11] – немного выше расчета по модели – 17.8 мкБк/л (табл. 1). За время миграции (1964–1996 гг.) условная концентрация 239,240Pu в воде моря U0 = 278 мкБк/л на t0 уменьшилась в 14 раз. Снижение содержания 239,240Pu в воде произошло на фоне полного обмена поверхностных и придонных вод моря. В Каспийском море их обмен завершается за ~28 лет [21]. Расчет 239,240Pu в воде с экспозицией 55 лет (1964–2019 гг.) показал уровень в 13.6 мкБк/л. С 1996 по 2019 гг. концентрация 239,240Pu в каспийской воде уменьшилась с 17.8 до 13.6 мкБк/л.
Таблица 1. Концентрация 239,240Pu в воде моря и запас в объеме вод, данные расчета по уравнению (3)
Дата | 239,240Pu в воде, мкБк/л и запас | |
мкБк/л | запас, % от выпадения | |
1996 | 17.8 | 6.3 |
2006 | 15.5 | 5.5 |
2016 | 14.0 | 5.0 |
2026 | 12.8 | 4.6 |
2036 | 11.9 | 4.2 |
2046 | 11.1 | 4.0 |
2056 | 10.5 | 3.7 |
Проверка корректности определения плутония в воде Каспийского моря по сорбционно-диффузионной модели (1996–2056 гг.) встречает затруднения из-за отсутствия после 1996 г. наблюдений 239,240Pu в водах моря. На основе опытной величины отношения [11] средних концентраций 239,240Pu/90Sr = 0.0027 в воде Каспийского моря (1995–1996 гг.) и более поздних наблюдений за 90Sr в море [30] нами были определены концентрации 239,240Pu (табл. 2). Цель этой процедуры сводилась к проверке сходимости определения концентрации 239,240Pu в воде моря по модели (табл. 1) с независимой оценкой, использующей опытные значения концентраций 90Sr в воде моря. Уровни 90Sr в воде Каспийского моря [30] в 2017, 2018 и 2019 гг. составили 3.88, 4.78 и 3.31 Бк/м3 при среднем 3.99 ± 0.74 Бк/м3 и вариации среднего 18.6%. Изменение во времени 1996–2019 гг. отношения 239,240Pu/90Sr (табл. 2) учитывалось поправкой на распад 90Sr. На 2016 г. (табл. 1) концентрация 239,240Pu в воде, рассчитанная по модели, равна 14.0 мкБк/л. Это значение близко к нижней границе диапазона концентраций плутония, определенных по отношению 239,240Pu/90Sr и содержанию 90Sr [30] в воде моря (табл. 2). В условиях вариабельности уровней 90Sr в море (2017–2019 гг.) получаем приближенное значение средней концентрации 239,240Pu 18.0 ± 3.3 мкБк/л. Определение по сорбционно-диффузионной модели (3) концентрации 239,240Pu в воде Каспийского моря на срок ~55 лет удовлетворительно согласовалось с независимой оценкой. При длительной миграции плутония (1964–2056 гг.) ожидается снижение его концентрации до 10.5 мкБк/л. В каспийских водах останется не более 3.7% плутония от выпадения на водоем. После мониторинга 239,240Pu [11] в водах Каспийского моря (1995–1996 гг.) прошло 27 лет. Этот интервал времени несоизмерим с Тфиз радионуклидов Pu и временем, в течение которого радионуклиды Pu будут поступать с водосбора в бессточный водоем.
Таблица 2. 239,240Pu в воде моря, данные расчета по отношению уровней 90Sr/239,240Pu
Год | 90Sr в воде, Бк/м3 [30] | Отношение 239,240Pu/90Sr | 239,240Pu в воде, мкБк/л |
2017 | 3.88 | 0.0044 | 17.1 |
2018 | 4.78 | 0.0045 | 21.7 |
2019 | 3.31 | 0.0046 | 15.3 |
Каспийскому бессточному морскому водоему с площадью водосбора 3.1 × 106 км2 необходим периодический мониторинг 239,240Pu с целью прогноза (сотни лет) последствия продолжающейся миграции радионуклидов Pu с водосбора и накопления их в экосистеме моря.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По сорбционно-диффузионной модели поглощения радионуклида дном водоема определено содержание 239,240Pu в водах Каспийского моря при коэффициенте распределения плутония Kd = 50 × 103 и диффузии D = 0.1 × 10–7 см2/с. Плотность выпадения глобального 239,240Pu на поверхность моря принята равной 58 Бк/м2. На 1996 г. по расчету и опыту содержание 239,240Pu в водах моря составила 17.8 и 20 мкБк/л соответственно. К этой дате запас 239,240Pu в объеме вод составил ~7% от количества, выпавшего на водоем (21.9 ТБк). За 32 года миграции ~93% плутония перешло из водной фазы неглубокого моря (Нср = 180 м) в грунты дна. К ~ 55-му году миграции 239,240Pu в водах Каспийского моря (2019 гг.) ожидаемая концентрация радионуклида в воде составит 13.6 мкБк/л, а запас – 4.8% от выпадения на водоем. Определение концентрации 239,240Pu в воде Каспийского моря по сорбционно-диффузионной модели согласовывалось с независимой оценкой, использующей данные мониторинга 90Sr в море и отношения в воде радионуклидов 239,240Pu/90Sr. Кумулятивный запас 239,240Pu в донных отложениях Каспия и его водосборе стал тысячелетним источником поддержания низких концентраций радионуклида в воде и экосистеме водоема.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
N. A. Bakunov
Arctic and Antarctic Research Institute
Author for correspondence.
Email: nik.bakunov@yandex.ru
Russian Federation, St. Petersburg, 199397
A. O. Aksenov
Arctic and Antarctic Research Institute
Email: nik.bakunov@yandex.ru
Russian Federation, St. Petersburg, 199397
References
- Сивинцев Ю.В., Вакуловский С.М., Васильев А.П., Высоцкий В.П., Губин А.Т., Данилян В.А., Кобзев В.И., Крышев И.И., Лавковский С.А., Мазокин В.А., Никитин А.И., Петров О.И., Пологих Б.Г., Скорик Ю.И. Техногенные радионуклиды в морях, омывающих Россию. М.: ИздАт, 2005. 624 с.
- Пути миграции искусственных радионуклидов в окружающей среде. Радиоэкология после Чернобыля / Под ред. Ф. Уорнера и Р. Харрисона. М.: Mир, 1999. 508 с.
- Громов В.В., Москвин А.И., Сапожников Ю.А. Техногенная радиоактивность Мирового океана. М.: Атомэнергоиздат, 1985. 272 с.
- Hardy J.E., Krey P.V., Volchok H.L. // Nature. 1973. Vol. 241 P. 444–445.
- Edgington D.N., Robbins J.A. // Impact of Nuclear Releases into the Aquatic Environment. Vienna: IAEA, 1975. P. 245–260.
- Nikitin A.T., Tsaturov Yu.S., Chumichev V.B., Valetova N.K., Katrich I.Yu., Berezhnoy V.I., Kabanov A.I., Pegoev N.N. // The 4th Int. Conf. on Environmental Radioactivity in the Arctic. Edinburg, 1999. P. 181–183.
- Саксен Р., Илус Э., Синкко К., Съёблом Л., Ойала Я., Лазарев Л.Н., Гедеонов Л.И., Гритченко Э.Г., Иванова Л.М., Тишков В.П. Исследование радиоактивного загрязнения Балтийского моря в 1984–1985 гг. М.: ЦНИИатоминформ, 1988. 24 с.
- Агапов А.М., Беленький М.И., Гаврилов В.М., Гритченко З.Г., Иванова Л.М., Конопаткин А.С., Лебедев Е.Д., Орлова Т.А., Пантелеев Ю.А., Плехов В.С., Степанов А.В., Тишков В.П., Тишкова Н.А., Цветков О.С. // Радиохимия. 2003. Т. 45. № 4. С. 370–374.
- Ikaheimoinen T.K., Saxen R. // Boreal Environ. Res. 2002. Vol. 7. P. 99–104.
- Горяченкова Т.А., Емельянов В.В., Казинская И.Е., Барсукова К.В., Степанец О.В., Мясоедов Б.Ф. // Радиохимия. 2000. Т. 42. № 3. С. 264–267.
- Орегиони Б., Гостауд Ж., Фам М.К., Повинец П.П. // Водные ресурсы. 2003. Т. 30. № 1. С. 94–99.
- Трансурановые элементы в окружающей среде / Под ред. У.С. Хансона. М.: Энергоатомиздат. 1985. 344 с.
- Sediment Kds and Concentration Factors for Radionuclides in the Marine Environment. Vienna: IAEA, 1985. P. 74.
- Матишов Д.Г., Матишов Г.Г. Радиационная экологическая океанология. Апатиты: КНЦ РАН, 2001. 417 с.
- Nelson D.M., Lоvett M.B. Nature. 1978. Vol. 276. P. 599–601.
- Марков В.К., Мясоедов В.Ф. // Радиохимия. 1975. № 5. С. 778–786.
- Бессонов А.А., Шилов В.П. // Радиохимия. 2022. Т. 64. № 6. С. 515–520.
- Лебедев И.А., Мясоедов Б.Ф., Павлоцкая Ф.И., Френкель В.Я. // Атом. энергия. 1992. Т. 72. Вып. 6. C. 593–604.
- Лукашенко С.Н., Эдомская М.А. // Радиац. биология. Радиоэкология. 2021. Т. 61. № 4. С. 394–424.
- Зонн И.С. Каспийская энциклопедия. М., 2004. 401 с.
- Ферронский В.И., Брезгунов В.С., Власова Л.С., Поляков В.А., Фрёлих К., Ружанский К. // Водные ресурсы. 2003. Т. 30. № 1. С. 15–38.
- Прохоров В.М. // Атом. энергия. 1966. № 5. С. 448–449.
- Прохоров В.М. Миграция радиоактивных загрязнений в почвах. Физико-химические механизмы и моделирование. М.: Энергоиздат, 1981. 96 с.
- Коноплев А.В., Булгаков А.А., Жирнов В.Г., Бобовникова Ц.И., Кутняков И.В., Сиверина А.А., Попов В.Е., Вирченко Е.П. // Метеорология и гидрология. 1998. № 11. С. 78–87.
- Бакунов Н.А., Большиянов Д.Ю., Макаров А.С. //Радиохимия. 2014. Т. 56. № 3. С. 271–275.
- Rissanen K., Ikaheimonen T.K., Nielson S.P., Matishov D.G., Matishov G.G. // The Third Int. Conf. on Environmental Radioactivity in the Arctic. Tromse, Norway, June 1–5, 1997. Vol. 2. P. 222–224.
- Бакунов Н.А., Большиянов Д.Ю., Правин С.А., Макаров А.С. // Радиохимия. 2022. Т. 64. № 1. C. 92–98.
- Поляков Ю.А. Радиоэкология и дезактивация почв. М.: Атомиздат, 1970. 303 с.
- Иванов Ю.А., Кашпаров В.А., Левчук С.Е., Зварич С.И. // Радиохимия. 1996. Т. 38. Вып. 3. С. 272–277.
- Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств. Ежегодник. Обнинск: НПО «Тайфун», Гидрометеоиздат, 2018, 2019, 2020.
Supplementary files