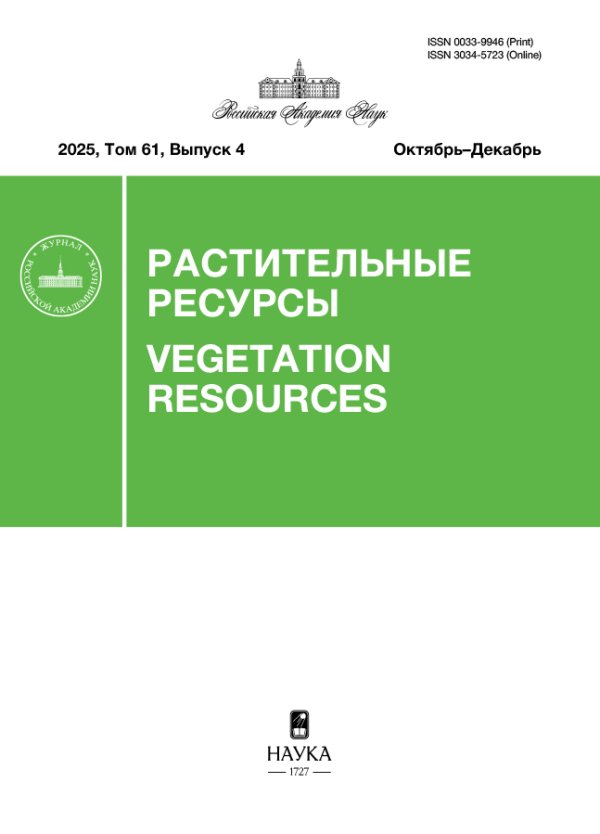Biologically active substances and antioxidant activity of Spiraea humilis (Rosaceae) in vitro
- Authors: Kostikova V.A.1, Petruk A.A.1, Veklich T.N.2, Petrova N.V.3
-
Affiliations:
- Central Siberian Botanical Garden, SB RAS
- Amur Branch of Botanical Garden-Institute, FEB RAS
- Komarov Botanical Institute of RAS
- Issue: Vol 60, No 3 (2024)
- Pages: 99-110
- Section: Component Composition of Resource Species
- URL: https://journal-vniispk.ru/0033-9946/article/view/277378
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033994624030073
- EDN: https://elibrary.ru/PTSEIQ
- ID: 277378
Cite item
Full Text
Abstract
The total content of phenolic compounds, including catechins, flavonols, phenolcarboxylic acids, and the antioxidant activity of aqueous-ethanol extracts from the above-ground organs of Spiraea humilis Pojark. from two Far Eastern populations were studied. It has been established that plant leaves contain more phenolcarboxylic acids and flavonols (population from the environs of Selikhino village, Khabarovsk Territory). Plant inflorescences contain more catechins, phenolic compounds, flavonols (population from the environs of Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk Territory). Plant stems were inferior in content of the studied compounds to leaves and inflorescences. Studies have shown that the antioxidant activity of water-ethanol extracts from leaves and stems of S. humilis is significantly lower than from inflorescences. From the correlation analysis, it was found that antioxidant activity is significantly positively related to the total content of phenolic compounds, mainly flavonols and catechins, in Spiraea organs. Phenolcarboxylic acids have the least effect on neutralizing 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) free radicals. Fifteen phenolic compounds with high biological activity were identified in aqueous-ethanol extracts from aerial organs of S. humilis by high-performance liquid chromatography. Differences in the profiles of phenolic compounds of plants from two Far Eastern populations were established. Of the identified phenolic compounds, the flavonols, quercitrin, rutin and quercetin make the greatest contribution to the antioxidant activity of the extracts. A preliminary assessment of plant materials showed that S. humilis accumulates a sufficient amount of biologically active substances in above-ground vegetative and generative organs and can be recommended as a promising source of antioxidants and other biologically active substances.
Keywords
Full Text
Во всех типах живых организмов постоянно протекают реакции одноэлектронного восстановления, что приводит к образованию промежуточных продуктов восстановления молекулы кислорода. Все они носят название — активные формы кислорода (АФК). Известно, что окислительный стресс может служить причиной развития хронических заболеваний (диабет, ожирение и дисфункция адипоцитов, сердечно-сосудистые заболевания), нейродегенеративных заболеваний и различных видов рака [1]. Поэтому актуальным является создание лекарственных препаратов, направленных на защиту организма от хронических заболеваний, связанных с активными формами кислорода. Стоит обратить особое внимание на биологически активные вещества, содержащиеся в природных источниках, таких как дикорастущие растения. Они обладают антиоксидантной и противовоспалительной активностью, бактериостатическим, бактерицидным эффектами, способностью повышать устойчивость организма к генотоксикантам [2, 3].
Создание препаратов на основе лекарственных растений невозможно без исследований компонентного состава и фармакологических свойств биологически активных веществ растений. Так, несколькими независимыми группами исследователей продолжаются поиски биологически активных компонентов с выраженным антиоксидантным действием у видов рода спирея (Spiraea L., Rosaceae) и осуществляется изучение их химического компонентного состава. Спирею иволистную (Spiraea salicifolia L.) применяют в российской, монгольской и тибетской народной медицине [4–7]. Кроме того, благодаря достаточным сырьевым ресурсам и широкой распространенности, S. salicifolia привлекла к себе внимание научного сообщества. Так В. М. Мирович с коллегами [8] разработан способ получения сухого экстракта побегов S. salicifolia, проявляющего выраженную противовоспалительную, диуретическую и антиоксидантную активность. Экстракт сухой спиреи иволистной в дозе 100 мг/кг оказывал противовоспалительное действие, о чем свидетельствовали уменьшение степени альтерации тканей и повышение интенсивности процессов регенерации в очаге воспаления. Площадь повреждения тканей на 9 и 29 день уменьшалась на 15 и 20%, соответственно. Экстракт сухой спиреи иволистной оказывал антиэкссудативное действие, снижая отек лап животных на 36.5% по сравнению с его уровнем в контрольной группе [8]. Родственный S. salicifolia вид спирея низкая (S. humilis Pojark.) малоизучена. В большинстве статей с ключевым словом Spiraea данный вид упоминается, но данные о содержании биологически активных веществ (БАВ) в органах растений этого вида приводятся редко.
S. humilis — кустарник высотой от 0.2 м до 0.5 м. Молодые побеги, оси соцветия и гипантий густо опушены ржавовойлочными волосками. Листья эллиптические, реже яйцевидные (длина в 1.5–2 раза больше ширины), сверху нередко белесые от сильно развитого воскового налета, зубчатые только в верхней половине пластинки. Соцветие — компактная яйцевидная или пирамидально-яйцевидная метелка, 2.5–10 см длиной (рис. 1). Встречается в лиственничных и березовых лесах, на лесных опушках, по берегам рек и ручьев: предпочитает избыточно увлажненные местообитания. S. humilis произрастает в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России [9–12].
Рис. 1. Spiraea humilis (Хабаровский край, Комсомольский р-н, окр. пос. Селихино, фото Веклич Т. Н.)
Fig. 1. Spiraea humilis (Khabarovsk kray, Komsomolsky district, environment of Selikhino village, photo by Veklich T. N.)
Цель работы — исследование содержания биологически активных веществ и антиоксидантной активности экстрактов надземных вегетативных (листья и стебли) и генеративных (соцветия) органов Spiraea humilis в двух ценопопуляциях на территории Хабаровского края.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом для исследования биологически активных веществ послужили вегетативные и генеративные органы Spiraea humilis. Материал был собран в 2022 г. в Хабаровском крае в двух природных ценопопуляциях (табл. 1) во время цветения. В каждой ценопопуляции с 10–15 типичных экземпляров собирали по одной ветви из средней или верхней части куста. Образцы делили на органы (листья, стебли и соцветия) и сушили в тени в хорошо проветриваемом помещении.
Таблица 1. Места сбора образцов Spiraea humilis
Table 1. Locations of Spiraea humilis sample collection
№ | Место и дата сбора, растительное сообщество, коллектор Location of the collection point, collection date, plant community, collector |
1 | Хабаровский край, Комсомольский район, 32 км от г. Комсомольск-на-Амуре в сторону г. Хабаровск по федеральной трассе, в 150 м от обочины дороги, в разреженном лиственнично-березовом лесу. N50°22'56.2'', E 137°14'46.4'', 52 м над ур. м., 21.07.2022 г., Веклич Т.Н. Khabarovsk Territory, Komsomolsky district, 32 km from Komsomolsk-on-Amur towards Khabarovsk along the federal highway, 150 m from the roadside, in a sparse larch-birch forest. N 50°22'56.2'', E 137°14'46.4'', 52 m a.s.l., 21.07.2022, Veklich T. N. |
2 | Хабаровский край, Комсомольский район, окр. с. Селихино, на опушке березового леса. N 50°22'39.5'', E 137°30'20.1'', 60 м над ур. м., 21.07.2022 г., Вектлич Т. Н. Khabarovsk Territory, Komsomolsky district, environs of Selikhino village, on the edge of a birch forest. N 50°22'39.5'', E 137°30'20.1'', 60 m a.s.l., 21.07.2022, Veklich T. N. |
Примечание: в таблице приведены средние значения из двух показателей ± стандартное отклонение; АОА – антиоксидантная активность; IC50, мкг/мл – концентрация экстракта/антиоксиданта, при которой наблюдали 50%-ное ингибирование радикала DPPH.
Note: the table shows the average of two data ± standard deviation; AOA – antioxidant activity; IC50, µg/ml – concentration of extract/antioxidant at which 50% inhibition of the DPPH radical is observed.
Приготовление экстракта. Около 0.5 г (точная навеска) сырья, проходящего сквозь сито с диаметром отверстий 2–3 мм, помещали в круглодонную колбу с притертой крышкой, объемом 100 мл. Сырье заливали 30 мл 70%-ного этилового спирта, колбу присоединяли к обратному холодильнику и помещали на водяную баню при 70°C на 30 минут. Колбу время от времени взбалтывали, чтобы смыть частицы сырья со стенок. После этого колбу с извлечением охлаждали и первую порцию экстракта фильтровали в коническую колбу с притертой крышкой объемом на 100 мл через бумажный фильтр. Далее сырье на фильтре помещали в круглодонную колбу и опять заливали 30 мл 70%-го спирта и экстрагировали в течении 30 минут. Вторую порцию экстракта охлаждали и фильтровали к первой порции экстракта в колбу на 100 мл. Процедуру повторяли дважды. Три порции экстракта перемешивали и замеряли объем полученного объединенного экстракта.
Определение общего содержания фенольных соединений с использованием реактива Фолина–Чокальтеу. В мерную колбу на 5 мл помещали 4 мл дистиллированной воды, 0.5 мл экстракта, затем добавляли 2.5 мл реагента Фолина–Чокальтеу и через 1 мин –2.0 мл 20%-ного водного раствора карбоната натрия. Смесь инкубировали в темноте при комнатной температуре в течение 30 минут. Поглощение измеряли при длине волны 760 нм на спектрофотометре СФ-56. В качестве контроля использовали смесь: 0.5 мл дистиллированной воды, 2.5 мл реагента Фолина–Чокальтеу и 2.0 мл 20%-ного водного раствора карбоната натрия. Общее содержание фенольных соединений рассчитывали по калибровочной кривой, построенной с использованием галловой кислоты (концентрация 0.001–0.006 мг/мл) в качестве стандарта [13].
Определение содержания флавонолов с использованием хлорида алюминия. Количественное определение флавонолов проводили спектрофотометрическим методом, в котором использована реакция комплексообразования флавонолов с хлоридом алюминия. По 0.1 мл экстракта помещали в 2 пробирки емкостью 5 мл, прибавляли в одну пробирку 0.2 мл 2%-ного спиртового раствора хлорида алюминия, в другую — 1–2 капли 30%-й уксусной кислоты и доводили объем раствора 96%-ным этиловым спиртом до метки. Растворы перемешивали и через 40 мин измеряли оптическую плотность раствора с хлоридом алюминия на спектрофотометре СФ-56 при длине волны 415 нм в кювете с толщиной слоя 1 см, используя раствор с уксусной кислотой для сравнения. Количественное содержание флавонолов в пробе определяли по калибровочной кривой, построенной по рутину (≥ 99%, «Chemapol») [14].
Определение содержания катехинов. В две пробирки отбирали аликвоту по 0.8 мл экстракта. В одну из них приливали 4 мл 1%-ного раствора ванилина в концентрированной соляной кислоте и доводили объемы до 5 мл в обеих пробирках концентрированной соляной кислотой. Пробирку без ванилина использовали как контроль. Через 5 мин измеряли интенсивность окрашенных растворов на СФ-56 при длине волны 504 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. Количественное содержание катехинов в пробе определяли по калибровочной кривой, построенной по (±) — катехину фирмы «Sigma» [15].
Определение общего содержания фенолкарбоновых кислот с использованием реактива Арнова. К 1 мл экстракта добавляли 5 мл дистиллированной воды, 1 мл соляной килоты (0.1 М), 1 мл реактива Арнова (10 г молибдата натрия, 10 г нитрита натрия в 100 мл воды), 1 мл гидроксида натрия (1М), доводили до 10 мл дистиллированной водой и замеряли оптическую плотность при длине волны 490 нм на спектрофотометре СФ-56 (вещество сравнения — кофейная кислота) [16].
Исследование состава и содержания индивидуальных компонентов фенольного комплекса в экстрактах из растений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 1 мл водно-этанольного экстракта разбавляли бидистиллированной водой до 5 мл и пропускали через концентрирующий патрон Диапак С16 (ЗАО «БиоХимМак»). Вещества смывали с патрона небольшим количеством (3 мл) 40%-ного этанола, а затем 2 мл 96%-ного этанола. Объединенный элюат пропускали через мембранный фильтр с диаметром пор 0.45 мкм.
Анализ фенольных соединений, содержащихся в элюате, проводили на аналитической ВЭЖХ-системе, состоящей из жидкостного хроматографа «Agilent 1200» (США) с диодно-матричным детектором, автосамплером и системой для сбора и обработки хроматографических данных ChemStation, модифицировав методику Т. А. van Beek [17]. Колонка Zorbax SB-C18, 4.6 × 150 мм, 5 мкм. Разделение проводили в следующих условиях: градиент от 31 до 33%-ного метанола, подкисленного в ортофосфорной кислоте (0.1%) в течение 27 мин., далее в подвижной фазе содержание метанола в водном растворе отрофосфорной кислоты (0.1%) изменяли от 33 до 46% за 11 мин., затем от 46 до 56% за следующие 12 мин. и от 56 до 100% за 4 мин. Скорость потока элюента 1 мл/мин. Температура колонки 26°C. Объем вводимой пробы 10 мкл. Детектирование осуществляли при длинах волн 254, 270, 290, 340, 360 и 370 нм. Количественное определение индивидуальных компонентов в образцах растений проводили по методу внешнего стандарта при длине волны 360 нм. Стандартные растворы готовили в концентрации 10 мкг/мл.
Содержание индивидуальных компонентов (Сx) вычисляли по формуле (мг/г от массы воздушно-сухого сырья):
где Сст – концентрация стандартного вещества, мкг/мл; S1 – площадь пика компонента в анализируемой пробе, е.о.п., S2 – площадь пика стандартного вещества, е.о.п., V1 – объем элюата после вымывания фенольных соединений с концентрирующего патрона, мл; V2 – общий объем экстракта, мл; V3 – объем экстракта, взятого на анализ, мл; М – масса навески, г; 1000 – пересчетный коэффициент.
Относительное стандартное отклонение повторяемости при определении фенольных компонентов составляет σr,отн = 0.011, относительное стандартное отклонение по времени удерживания у метода ВЭЖХ = 0.0018.
Анализ антиоксидантной активности с использованием 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (DPPH). Способность образцов к улавливанию свободных радикалов определяли с помощью 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (DPPH). Для этого аликвоту экстракта объемом 2 мл (растворенного в 70%-ном этаноле до концентраций в диапазоне 10–200 мкг/мл) смешивали с 3 мл раствора DPPH (62 мкг/мл в этаноле). После 30 мин инкубации в темноте при комнатной температуре, измеряли оптическую плотность (D) при 517 нм против холостого образца. Активность по улавливанию свободных радикалов рассчитывали, как процент ингибирования по следующей формуле:
где Dконтроль – оптическая плотность контрольного раствора, содержащего все реагенты, кроме тестируемого экстракта, Dобразец – оптическая плотность образца.
Результаты выражали в IC50, DPPH, определяемом как концентрация антиоксиданта, которая вызывает 50% потерю DPPH в анализе активности по улавливанию радикалов DPPH. В качестве положительного контроля использовали растворы 6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты (тролокс) и аскорбиновой кислоты (концентрация 2.5–50 мкг/мл) [18].
Статистическая обработка полученных данных. Все эксперименты были проведены в двух повторностях. Данные анализировали в программах Microsoft Excel 2010, Statistica 8 и GraphPad Prism v. 5.0. Коэффициенты корреляции Пирсона были рассчитаны для анализа корреляций между концентрациями биологически активных соединений и антирадикальной активностью. Уровень значимости составлял p ≤ 0.05. Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
В результате анализа биологически активных соединений в экстракте надземных органов Spiraea humilis из двух природных ценопопуляций Хабаровского края, Комсомольского р-на (окр. г. Комсомольск-на-Амуре и окр. с. Селихино) обнаружены фенольные соединения — флавонолы, катехины и фенолкарбоновые кислоты (табл. 2). Выявлены различия в содержании основных групп биологически активных веществ в листьях, соцветиях и стеблях. Листья и соцветия содержали больше исследуемых соединений, в стеблях их концентрации были значительно ниже.
Таблица 2. Содержание биологически активных веществ в 70%-ных этанольных экстрактах Spiraea humilis
Table 2. Content of biologically active substances in 70% ethanol extracts of Spiraea humilis
Орган растения Plant organ | Содержание, % | АОА, IC50, µg/ml | |||
Фенольные соединения Phenolic compounds | Катехины Catechins | Флавонолы Flavonols | Фенолкарбоновые кислоты Phenolcarboxylic acids | ||
Ценопопуляция 1 (окр. г. Комсомольск-на-Амуре) Cenopopulation 1 (environs of Komsomolsk-on-Amur) | |||||
Соцветия Inflorescences | 4.6 ± 0.1 | 5.3 ± 0.1 | 2.1 ± 0.1 | 7.5 ± 0.3 | 93 |
Листья Leaves | 4.6 ± 0.0 | 2.7 ± 0.1 | 1.6 ± 0.1 | 8.7 ± 0.3 | 288 |
Стебли Stems | 2.0 ± 0.1 | 0.9 ± 0.0 | 0.1 ± 0.0 | 2.2 ± 0.1 | 587 |
Ценопопуляция 2 (окр. с. Селихино) Cenopopulation 2 (environs of Selikhino village) | |||||
Соцветия Inflorescences | 5.8 ± 0.1 | 5.5 ± 0.1 | 1.9 ± 0.1 | 6.6 ± 0.2 | 119 |
Листья Leaves | 4.3 ± 0.0 | 2.6 ± 0.0 | 1.9 ± 0.0 | 7.3 ± 0.2 | 234 |
Стебли Stems | 2.2 ± 0.0 | 1.1 ± 0.0 | 0.2 ± 0.01 | 2.5 ± 0.1 | 656 |
Тролокс Trolox Аскорбиновая кислота Ascorbic acid | 8 9 | ||||
Общее содержание фенольных соединений (в пересчете на кофейную кислоту) и катехинов (в пересчете на (±)-катехин) в соцветиях было выше, чем в листьях и стеблях (табл. 2). Различия в концентрациях фенольных соединений в соцветиях и листьях оказались близки: 4.6 и 4.6% в первой ценопопуляции, 5.8 и 4.3% — во второй ценопопуляции, соответственно. В изученных образцах растений из обеих ценопопуляций, отмечено следующее: в соцветиях содержание катехинов в 2 раза выше, чем в листьях и в 4 раза выше, чем в стеблях.
Содержание фенолкарбоновых кислот в изученных образцах у S. humilis напротив, было несколько выше в листьях, чем в соцветиях (8.7 и 7.3% в первой ценопопуляции; 7.5 и 6.6% — во второй). В надземных органах S. humilis из всех рассматриваемых классов соединений максимальная концентрация отмечена для фенолкарбоновых кислот: даже в стеблях она превышала 2%.
Обращает на себя внимание содержание флавонолов в исследуемых экстрактах. При анализе полученных данных по флавонолам в изученных образцах у растений первой ценопопуляции обнаружено большее их содержание в соцветиях (2.1%), в листьях концентрация флавонолов была в 1.3 раза меньше (1.6%). В образцах из второй ценопопуляции обнаружено более высокое содержание флавонолов обнаружено в листьях (1.9%), в соцветиях их концентрация несколько меньше. Самое низкое содержание флавонолов обнаружено в водно-этанольных экстрактах стеблей растений в обеих ценопопуляциях (0.1–0.2%).
Состав индивидуальных соединений фенольной природы в водно-этанольных экстрактах листьев, соцветий и стеблей S. humilis исследован методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Из них на основании УФ-спектров и сопоставления времен удерживания пиков веществ на хроматограммах анализируемых образцов с временами удерживания пиков стандартных образцов идентифицировано 15 соединений (табл. 3). Вещества представлены следующими группами: коричная кислота и ее производные: хлорогеновая и n-кумаровая, производное бензойной кислоты – гентизиновая кислота, флавон (цинарозид), дигидрофлавонол (дигидрокверцетин) и наиболее разнообразно представлена группа флавонолов: кверцетин, кемпферол, гиперозид, рутин, спиреозид, авикулярин, кверцитрин, астрагалин и никотифлорин. Идентифицированные флавонолы представлены гликозидами кверцетина и кемпферола, в качестве сахарной группы выступают как моносахара (глюкоза, рамноза, галактоза, арабиноза), так и дисахара (рутиноза). В идентифицированных гликозидах углеводные остатки связаны через атом кислорода в С-3 положении, кроме спиреозида, у которого остаток глюкозы присоединен в 4'-положении.
Таблица 3. Характеристика и содержание фенольных соединений, обнаруженных в экстрактах Spiraea humilis
Table 3. Characteristics and content of phenolic compounds in Spiraea humilis extracts
№ | Соединение Compound | Время удерживания (tR), мин Retention time (tR), min | Спектральная характеристика λmax, нм Spectral characteristic λmax, nm | Содержание, мг/г | |||||
Ценопопуляция 1 Cenopopulation 1 | Ценопопуляция 2 Cenopopulation 2 | ||||||||
Соцветия Inflorescences
| Листья Leaves | Стебли Stems | Соцветия Inflorescences
| Листья Leaves | Стебли Stems | ||||
1 | Хлорогеновая кислота Сhlorogenic acid | 3.2 | 244, 300 пл. (sh.), 330 | 0.15 ± 0.01 | 0.36 ± 0.01 | 0 | 0.25 ± 0.01 | 0.30 ± 0.01 | 0.30 ± 0.01 |
2 | Гентизиновая кислота Gentisic acid | 4.9 | 235, 330 | 0.20 ± 0.01 | 0 | 0 | 0.08 ± 0.00 | 0.18 ± 0.01 | 0.18 ± 0.01 |
3 | n-кумаровая кислота n-coumaric acid | 7.9 | 226, 293 пл. (sh.), 320 | 0 | 0.05 ± 0.00 | 0 | 0.31 ± 0.01 | 1.05 ± 0.04 | 1.05 ± 0.04 |
4 | Дигидрокверцетин Dihydroquercetin | 8.5 | 290 | 0.29 ± 0.01 | 0.05 ± 0.00 | 0 | 0.22 ± 0.01 | 0.51 ± 0.02 | 0.51 ± 0.02 |
5 | Цинарозид Cinaroside | 16.3 | 250, 265 пл. (sh.), 290 пл. (sh.), 350 | 0.21 ± 0.01 | 0.72 ± 0.03 | 0 | 0.08 ± 0.00 | 0.44 ± 0.02 | 0.44 ± 0.02 |
6 | Гиперозид Hyperoside | 18.3 | 255, 268 пл. (sh.), 355 | 0.25 ± 0.01 | 0.36 ± 0.01 | 0 | 0.39 ± 0.01 | 0.53 ± 0.02 | 0.53 ± 0.02 |
7 | Рутин Rutin | 19.2 | 255, 265 пл. (sh.), 355 | 3.02 ± 0.11 | 1.81 ± 0.07 | 0.41 ± 0.02 | 2.55 ± 0.09 | 1.72 ± 0.06 | 1.72 ± 0.06 |
8 | Спиреозид Spireoside | 26.6 | 255, 265 пл. (sh.), 366 | 0.14 ± 0.01 | 0.35 ± 0.01 | 0 | 0 | 0.86 ± 0.03 | 0.86 ± 0.03 |
9 | Авикулярин Avicularin | 28.0 | 260, 270 пл. (sh.), 360 | 0.43 ± 0.02 | 0.33 ± 0.01 | 0 | 0.31 ± 0.01 | 0.82 ± 0.03 | 0.82 ± 0.03 |
10 | Кверцитрин Quercitrin | 31.0 | 260, 272 пл. (sh.), 298 пл. (sh.), 355 | 0.46 ± 0.02 | 0.27 ± 0.01 | 0 | 0.55 ± 0.02 | 0.28 ± 0.01 | 0.28 ± 0.01 |
11 | Астрагалин Astragalin | 32.3 | 265, 300 пл. (sh.), 350 | 2.38 ± 0.09 | 0.63 ± 0.02 | 0 | 1.69 ± 0.06 | 0.52 ± 0.02 | 0.52 ± 0.02 |
12 | Никотифлорин Nicotiflorin | 33.5 | 260, 290 пл. (sh.), 350 | 0.56 ± 0.02 | 0.44 ± 0.02 | 0 | 0.29 ± 0.01 | 0.24 ± 0.01 | 0.24 ± 0.01 |
13 | Коричная кислота Сinnamic acid | 35.9 | 216, 275 | 0 | 0 | 0 | 0.25 ± 0.01 | 0.07 ± 0.00 | 0.07 ± 0.00 |
14 | Кверцетин Quercetin | 40.6 | 255, 372 | 1.62 ± 0.06 | 0.75 ± 0.03 | 0.22 ± 0.01 | 1.63 ± 0.06 | 0.75 ± 0.03 | 0.75 ± 0.03 |
15 | Кемпферол Kaempferol | 47.9 | 225, 266, 370 | 0.45 ± 0.02 | 0 | 0 | 0.58 ± 0.02 | 0 | 0 |
Выявлено, что состав фенольных соединений в листьях, соцветиях и стеблях неоднороден. В надземных органах S. humilis из окр. г. Комсомольск-на-Амуре не обнаружено коричной кислоты. Гентизиновая кислота и кемпферол идентифицированы только в соцветиях, n-кумаровая кислота – только в листьях. В стеблях спиреи из этой ценопопуляции выявлены только два флавонола – рутин и кверцетин.
В целом, для водно-этанольных экстрактов из надземных частей спиреи низкой из окр. д. Селихино (вторая ценопопуляция) характерно большее разнообразие фенольных соединений, чем в экстрактах растений, собранных в окр. г. Комсомольск-на-Амуре (первая ценопопуляция). Например, если в экстрактах стеблей из первой ценопопуляции обнаружены только рутин и кверцетин, то во второй идентифицировано 8 фенольных соединений. Однако в соцветиях растений из второй ценопопуляции не выявлен спиреозид, в листьях – кемпферол.
Основными веществами в экстрактах из соцветий S. humilis из первой ценопопуляции являются рутин (tR = 19.2 мин), астрагалин (tR = 32.3 мин) и кверцетин (tR = 40.6 мин). В листьях кроме вышеперечисленных соединений значительная доля приходится на цинарозид (tR = 16.3 мин). При этом содержание соответствующих флавонолов в листьях сильно отличалось от их содержания в соцветиях. Так, отличие наблюдали в содержании рутина, (в соцветиях в 1.7 раз больше, чем в листьях и более чем в 7 раз — в стеблях), а самое значительное — в содержании астрагалина (в соцветиях в 3.8 раз больше, чем в листьях и полное отсутствие в стеблях).
Для экстрактов из соцветий и стеблей второй ценопопуляции основными фенольными соединениями также являются рутин, астрагалин и кверцетин. Стоит отметить, что содержание астрагалина и рутина отличалось от содержания в первой ценопопуляции. Состав основных фенольных соединений в экстрактах листьев из двух ценопопуляций различен. Содержание рутина и кверцетина у растений второй ценопопуляции также высокое, но вместо астрагалина и цинарозида в состав основных соединений входят n-кумаровая кислота (tR = 7.9 мин) и авикулярин (tR = 28 мин). При этом содержание рутина в листьях двух ценопопуляций различалось незначительно, а показатели кверцетина совпадали. Концентрация авикулярина (0.82%) в экстрактах листьев растений второй ценопопуляции была в 2.5 раза выше, чем в экстрактах листьев растений из первой популяции (0.33%). Кроме того, содержание n-кумаровой кислоты в экстрактах из листьев растений, собранных в окр. пос. Селихино на 1 мг/г выше, по сравнению с листьями растений из ценопопуляции в окр. г. Комсомольск-на-Амуре. Концентрации мажорных соединений в разных органах растений из второй ценопопуляции также различались. Содержание рутина было в 1.5 раза, кверцетина — в 2.2 раза, а астрагалина — в 3.3 раза выше в соцветиях, чем в листьях.
Кроме анализа биологически активных веществ, проведено исследование антиоксидантной активности 70%-ных этанольных экстрактов надземных органов S. humilis методом влияния экстракта на радикал 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил (DPPH). На основании сравнения значений IC50, которые показывают степень нейтрализующего эффекта экстракта на радикал DPPH, экстракты соцветий S. humilis оказались наиболее эффективными (93 и 119 мкг/мл) (табл. 2). Разница между показателями антиоксидантной активности между экстрактами из соцветий двух ценопопуляций была несущественной. Относительно высокую активность проявили также экстракты из листьев спиреи (288 и 234 мкг/мл), однако она была ниже, чем активность экстрактов из соцветий практически в 2 раза. Различий между значениями IC50 экстрактов из листьев разных ценопопуляций не выявлено. Наименее эффективными оказались экстракты стеблей (587 и 656 мкг/мл). Следует отметить, что значения IC50 для разных экстрактов спиреи значительно отличаются от показателей контрольных веществ с высокой антиоксидантной активностью (тролокс и аскорбиновая кислота) (табл. 2).
Проведен анализ корреляционной зависимости между содержанием биологически активных веществ в экстрактах S. humilis и антиоксидантной активностью. Коэффициент корреляции (R) оказался отрицательным. Значения антиоксидантной активности (табл. 2), полученные в работе, отражают концентрацию экстракта, при которой наблюдается 50%-ное ингибирование радикала DPPH. Чем меньше концентрация экстракта, затраченная на нейтрализацию свободного радикала, тем выше антиоксидантная активность. Поэтому полученные значения для корреляционного анализа должны рассматриваться с обратным знаком.
Регрессионный анализ выявил линейную связь степени нейтрализации свободных радикалов водно-этанольными экстрактами S. humulis c содержанием исследуемых биологически активных веществ. Наиболее высокое значение коэффициента корреляции обнаружено для флавонолов (R = 0.97, p ≤ 0.05) (рис. 2), фенольных соединений (R = 0.94, p ≤ 0.05) и катехинов (R = = 0.92, p ≤ 0.05), что свидетельствует о наибольшем вкладе этих БАВ в нейтрализацию свободных радикалов. Напротив, фенолкарбоновые кислоты (R = 0.86, p ≤ 0.05) принимают, по-видимому, меньшее участие в нейтрализации свободных радикалов. Из идентифицированных фенольных соединений, обнаруженных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, наибольший вклад в антиоксидантную активность вносят флавонолы кверцитрин (R = 0.97, p ≤ 0.05) (рис. 3), рутин (R = 0.96, p ≤ 0.05) и кверцетин (R = 0.93, p ≤ 0.05). Весомый вклад в антирадикальную активность экстрактов спиреи низкой также вносят флавонолы никотифлорин (R = 0.87, p ≤ 0.05) и астрагалин (R = 0.86, p ≤ 0.05). Остальные обнаруженные соединения не имеют выраженной связи с антиоксидантным эффектом экстрактов спиреи низкой (R ≤ 0.71).
Рис. 2. Зависимость между содержанием флавонолов (%) в экстрактах Spiraea humilis и антиоксидантной активностью (IC50, мкг/г).
Fig. 2. Relationship between the content of flavonols (%) in Spiraea humilis extracts and antioxidant activity (IC50, µg/g).
Рис. 3. Зависимость между содержанием кверцитрина (мг/г) в экстрактах Spiraea humilis и антиоксидантной активностью (IC50, мкг/г).
Fig. 3. Relationship between the content of quercitrin (mg/g) in Spiraea humilis extracts and antioxidant activity (IC50, μg/g).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование состава и содержания биологически активных веществ с помощью метаболомных методов спектрометрии и ВЭЖХ в образцах листьев Spiraea humilis (Rosaceae), собранных в двух природных ценопопуляциях Хабаровского края, позволило выявить высокие уровни фенольных соединений. Показано, что 70%-ные этанольные экстракты соцветий S. humilis проявляли наибольший антиоксидантный потенциал в отношении радикала 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила, по сравнению с листьями и стеблями. Выявлены вторичные метаболиты, отвечающие за антирадикальную активность S. humilis.
БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 23-24-00310, https://rscf.ru/project/23-24-00310/.
About the authors
V. A. Kostikova
Central Siberian Botanical Garden, SB RAS
Email: NPetrova@binran.ru
Russian Federation, Novosibirsk
A. A. Petruk
Central Siberian Botanical Garden, SB RAS
Email: NPetrova@binran.ru
Russian Federation, Novosibirsk
T. N. Veklich
Amur Branch of Botanical Garden-Institute, FEB RAS
Email: NPetrova@binran.ru
Russian Federation, Blagoveshchensk
N. V. Petrova
Komarov Botanical Institute of RAS
Author for correspondence.
Email: NPetrova@binran.ru
Russian Federation, St. Petersburg
References
- Tseylikman V. E., Lukin A. A. 2022. On the effect of oxidative stress on the human body. — International Research Journal. 3(117): 206–211. https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.117.3.037 (In Russian)
- Gurbanov R. G., Dzhambetova P. М. 2022. Study of genotoxicity and oxidative stress of medicinal plants in mountain territories of the Chechen Republic. — Natural Systems and Resources. 12(2): 43–50. https://doi.org/10.15688/nsr.jvolsu.2022.2.6 (In Russian)
- Chaudhary P., Janmeda P., Docea A. O., Yeskaliyeva B., Abdull Razis A. F., Modu B., Calina D., Sharifi-Rad J. 2023. Oxidative stress, free radicals and antioxidants: potential crosstalk in the pathophysiology of human diseases. — Front. Chem. 11: 1158198. https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1158198
- [Plant Resources of Russia: Wild flowering plants and their component composition and biological activity. T. 2: Family Actinidiaceae–Malvaceae, Euphorbiaceae–Haloragaceae]. 2009. St. Petersburg; Moscow. 513 p. (In Russian)
- Batorova S. M., Yakovlev G. P., Aseeva T. A. 2013. [Medicinal plants of traditional Tibetan medicine: A handbook]. Novosibirsk. 290 p. (In Russian)
- Krivosheev I. M. 2014. [Pharmacognostic study of Spiraea salicifolia L. growing in Eastern Siberia: Absrt… Diss. Cand. (Pharmacy) Sci.]. Irkutsk. 22 с. (In Russian)
- Kostikova V. A., Petrova N. V. 2021. Phytoconstituents and bioactivity of plants of the genus Spiraea L. (Rosaceae): a review. — Int. J. Mol. Sci. 22(20): 11163. https://doi.org/10.3390/ijms222011163
- Mirovich V.M., Krivosheev I.M., Gordeeva V.V., Tsyrenzhapov A.V. Method for producing agent possessing anti-inflammatory, diuretic and antioxidant activity. Russian Patent RU 2542493C1. Appl. 8 November 2013. https://patents.s3.yandex.net/RU2542493C1_20150220.pdf (In Russian)
- Poyarkova A. I. 1939. Genus Spiraea — Spiraea L. — In: Flora URSS. Moscow. Vol. 9. P. 283–305.
- Polozhiy A. V. 1988. [Genus Meadowsweets. – Spiraea L.] — In: [Flora of Siberia]. Novosibirsk. Vol. 8. Pp. 10–20. (In Russian)
- Yakubov V. V. 1996. [Genus Meadowsweets. – Spiraea L.] — In: [Vascular plants of the Soviet Far East]. St. Petersburg. Vol. 8. P. 130–136.
- Koropachinskiy I. Yu., Vstovskaya T. N. 2002. [Woody plants of the Asian part of Russia]. Novosibirsk. 707 p. (In Russian)
- Djeridane A., Yousfi M., Nadjemi B., Boutassouna D., Stocker P., Vidal N. 2006. Antioxidant activity of some Algerian medicinal plants extracts containing phenolic compounds. — Food Chem. 97(4): 654–660. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.04.028
- Belikov V. V., Shraiber M. C. 1970. [Methods for the analysis of flavonoid compounds]. — Farmatsiya. 19(1): 66–72. (In Russian)
- Kukushkina T. A., Zykov A. A., Obukhova L. A. 2003. [Lady's mantle (Alchemilla vulgaris L.) as a source of medicines of natural origin]. — In: [Contemporary problems of the development of new drugs of natural origin: Proceedings of the VIIth International Congress]. St. Petersburg. P. 64–69. (In Russian)
- Gawron-Gzella A., Dudek-Makuch M., Matławska I. 2012. DPPH radical scavenging activity and phenolic compound content in different leaf extracts from selected blackberry species. — Acta Biol. Cracov., Bot. 54(2): 32–38. https://doi.org/10.2478/v10182-012-0017-8
- Van Beek T. A. 2002. Chemical analysis of Ginkgo biloba leaves and extracts. — J. Chromatogr. A. 967(1): 21–55. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(02)00172-3
- Gawron-Gzella A., Witkowska-Banaszczak E., Bylka W., Dudek-Makuch M., Odwrot A., Skrodzka N. 2016. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of Sanguisorba officinalis L. extracts. — Pharm. Chem. J. 50(4): 244–249. https://doi.org/10.1007/s11094-016-1431-0
Supplementary files