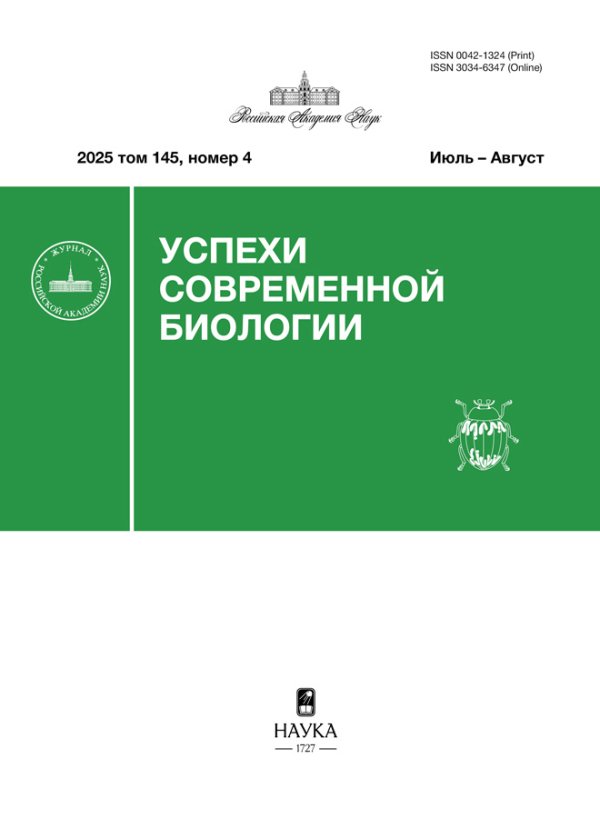Влияние низкомолекулярного миметика NGF дипептида ГК-2 на поведение мышей аутбредных линий, различающихся по весу мозга
- Авторы: Перепелкина О.В.1, Полетаева И.И.1, Поварнина П.Ю.2, Гудашева Т.А.2
-
Учреждения:
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий
- Выпуск: Том 144, № 4 (2024)
- Страницы: 461-471
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 19.01.2025
- Статья одобрена: 19.01.2025
- Статья опубликована: 22.07.2024
- URL: https://journal-vniispk.ru/0042-1324/article/view/277392
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0042132424040095
- EDN: https://elibrary.ru/PPAEIX
- ID: 277392
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Проведен анализ ноотропных эффектов димерного дипептидного миметика фактора роста нервов — соединения ГК-2 — в когнитивном тесте у мышей двух линий, селектированных на большой и малый относительный вес мозга. Влияние введения ГК-2 на решение когнитивного теста не одинаково у мышей разных генотипов, но малый размер групп не позволяет выявить значимые отличия от контроля, лишь дает возможность констатировать наличие ряда тенденций. В тесте на неофагофобию введение дипептида вызвало у всех мышей более активную реакцию на новую пищу. Показаны также возрастные различия в решении данного теста как в контроле, так и после дипептида. Продемонстрированные генотип-зависимые изменения поведения мышей после введения ГК-2 — результат, важный для более полной характеристики его фармакологических эффектов как потенциального лекарственного препарата.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Лекарственные препараты пептидной природы становятся все более популярными, в частности в невропатологии. Преимущества пептидных препаратов перед непептидными — их высокая активность, отсутствие токсичности, определяемое метаболизмом до эндогенных аминокислот, отсутствие грубых побочных эффектов благодаря регуляторному механизму действия и т.п. Дипептидные препараты, в свою очередь, во многих случаях оказываются более эффективными, по сравнению с олигопептидными, поскольку обладают повышенной энзиматической стабильностью и способностью проникать через гематоэнцефалический барьер, что дает возможность их перорального применения (Gudasheva et al., 2018).
Фактор роста нервов NGF (nerve growth factor) — член семейства нейротрофинов, эндогенных белков, которые поддерживают жизнеспособность нейронов, регулируют синаптическую пластичность, нейро- и синаптогенез. Аномалии экспрессии NGF отмечены при ряде нейродегенеративных и психических заболеваний, стрессе и возрастных изменениях (Aloe et al., 2001; Terry et al., 2011; Ciafrè et al., 2020). Клиническое применение полноразмерного NGF ограничено его слабой способностью проникать через биологические барьеры, быстрой биодеградацией и нежелательными побочными эффектами, основные из которых — гиперальгезия и потеря веса (Rocco et al., 2018).
В Федеральном исследовательском центре оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий с использованием оригинального подхода (Гудашева и др., 2010), базирующегося на предположении, что основными фармакофорами при взаимодействии с Trk-рецепторами являются наиболее экспонированные дипептидные фрагменты β-изгибов шпилькообразных петель нейротрофинов, получен димерный дипептидный миметик 4-й петли NGF — соединение ГК-2 — гексаметилендиамид бис-(моносукцинил-L-глутамил-L-лизина) (Середенин, Гудашева, 2011; Seredenin, Gudasheva, 2016, 2018, 2019). В экспериментах in vitro ГК-2, как и полноразмерный NGF, проявляет нейропротекторную активность на культуре мышиных гиппокампальных нейронов линии HT-22 и культуре клеток феохромацитомы крысы линии PC-12 в концентрациях 10–9–10–5М (модели окислительного стресса, глутаматной и МФТП-индуцированной токсичности) (Антипова и др., 2010). С помощью вестерн-блот анализа in vitro установлено с использованием клеток линии HT-22, что ГК-2 активирует специфические для полноразмерного NGF тирозинкиназные TrkA-рецепторы и их PI3K/Akt и PLC-γ пострецепторные пути трансдукции сигнала (Gudasheva et al., 2015). Селективность взаимодействия ГК-2 с TrkA-рецепторами подтверждена с помощью анализа клеток гиппокампа мыши линии HT-22, нокаутных по генам trka и trkb (Антипова и др., 2022).
В экспериментах in vivo на крысах у ГК-2 выявлена нейропротекторная активность на моделях травмы мозга (Genrikhs et al., 2018) и ишемического инсульта (Середенин и др., 2018), а также определено корректирующее влияние на память на моделях болезни Альцгеймера (Поварнина и др., 2013; Волкова и др., 2023). При этом ГК-2 лишен основных побочных эффектов полноразмерного NGF — не вызывает гиперальгезии и потери веса (Gudasheva et al., 2015).
В настоящей работе возможные ноотропные эффекты дипептида ГК-2 проанализированы у мышей двух линий, ранее селектированных на большой и малый относительный вес мозга (линии БМ и ММ). Оценены показатели решения когнитивного теста на поиск входа в укрытие, выполнение которого требует от животного оперировать правилом неисчезаемости, и теста на неофагофобию, в котором оценивается реакция животного на новую пищу в новой обстановке (в предположении, что при этом усиливается тревожность животного). Отдельная задача настоящей работы — оценка влияния возраста мышей БМ и ММ на выполнение теста на поиск входа в укрытие в связи с эффектами ГК-2. В настоящее время мыши БМ и ММ разводятся без поддерживающего отбора на относительный вес мозга, при этом различия в весе мозга и в поведении сохраняются (Перепелкина и др., 2021). У мышей БМ и ММ исследованного поколения (БМ, n = 37, ММ, n = 42) различия в весе мозга достоверны, как для относительного веса мозга (вес мозга, мг/вес тела, г): БМ — 17.9 ± 0.2, ММ — 15.6 ± 0.2 (p < 0.001), так и для абсолютных его значений: БМ — 476.9 ± 2.1 г, ММ — 414.1 ± 2.0 г (p < 0.01).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальные животные
Данные получены на мышах-самцах 2 генотипов и 2 возрастов.
- Мыши линии БМ — n = 64.
- 3-месячные мыши — n = 24: введение дипептида — n = 8, введение физиологического раствора — n = 8, интактные — n = 8.
- 8-месячные мыши — n = 24: введение дипептида — n = 11, введение физиологического раствора — n = 13.
- Мыши линии ММ — n = 55.
- 3-месячные мыши — n = 24: введение дипептида — n = 8, введение физиологического раствора — n = 8, интактные — n = 8.
- 8-месячные мыши — n = 17: введение дипептида — n = 7, введение физиологического раствора — n = 10.
Животных содержали в стандартных пластиковых клетках (размером 33×22×8 см), по 5–6 мышей в каждой, с водой и кормом (“Лабораторкорм”, Россия) ad lib. Исключение — тест на неофагофобию (реакция животного на новую пищу в новой обстановке), когда животных лишали пищи (но не воды) на 16–18 ч. Условия содержания животных и проведения тестов находятся в соответствии с требованиями Директивы 2010/63 ЕС от 22 сентября 2010 г.
Введение дипептида
Дипептид ГК-2 — это гексаметилендиамид бис-(моносукцинил-L-глутамил-L-лизина) (молекулярная масса 830.92, чистота 97.4%) — синтезирован в отделе химии лекарственных средств Федерального исследовательского центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий (Сазонова и др., 2015). Дипептид растворяли в физиологическом растворе и вводили внутрибрюшинно (в/б) мышам в возрасте 3 и 8 месяцев (линии БМ и ММ) в дозе 0.5 мг/кг в течение 5 дней. Предпоследнее введение было за сутки до теста на поиск входа в укрытие, после которого делали еще одно введение для тестирования реакции неофагофобии. Дозы ГК-2 выбраны на основании ранее проведенных экспериментов (Середенин и др., 2018; Волкова и др., 2023; Genrikhs et al., 2018). Контрольным мышам вводили физиологический раствор в том же режиме. Объем введения — 0.5 мл на мышь.
Тест на поиск входа в укрытие
Данный когнитивный тест (Ben Abdallah et al., 2011) позволяет оценить способность к оперированию правилом неисчезаемости (т. е. животное понимает, что недоступный более восприятию объект продолжает существовать и его можно отыскать).
Экспериментальная камера для проведения теста имеет 2 отделения, одно из которых ярко освещено (размер 30×28×27.5 см), а второе темное (14×28×27.5 см). Отделения соединяются углубленным в пол лазом (глубина 1.5 см, ширина 4.5 см, длина 11.5 см), через который мышь может перейти из светлого отсека, куда ее изначально помещают, в темный отсек. Мыши дается 4 предъявления теста: в первом — лаз открыт, во втором — лаз замаскирован стружкой, в третьем и четвертом — лаз закрыт легкой пластиковой пробкой с прикрепленной картонкой, за которую пробку легко ухватить зубами и вынуть (рис. 1).
Рис. 1. Мышь вынимает пробку, закрывающую лаз в темное отделение экспериментальной камеры.
Оценивается (вручную) время решения теста — латентный период (ЛП) перехода мыши в темный отсек, число подходов к лазу, число стоек и эпизодов груминга. Оценивается также число эпизодов замирания, которые учитываются не просто по сохранению животным неподвижности, но и по наличию коротких (несколько секунд) эпизодов отсутствия движения вибрисс. Отдельно определяется доля мышей (%), решивших тест в каждом из предъявлений. Для предъявлений теста с открытым лазом и с лазом, замаскированным стружкой, мыши дается 180 с, после чего тест считается решенным или нерешенным. В предъявлениях теста с лазом, закрытым пробкой, это время равно 240 с.
Реакция на новую пищу в новой обстановке. Неофагофобия
Данный тест (Deacon, 2011) основан на подавлении пищевого поведения животных в новой обстановке, что расценивается как тревожное поведение. Тест проведен на мышах линий БМ и ММ в возрасте 3 и 8 месяцев, которых лишали пищи (но не воды) за 16–18 ч до теста. Новая пища — кубики твердого сыра (1×1 мм), помещавшиеся в плоской чашечке в центр цилиндрической камеры (диаметр 40 см, высота стенок 35 см). В пластиковом полу камеры — отверстия (диаметр 7 мм). Регистрируется: количество съеденного сыра за 5 мин теста; число подходов к кормушке; время (с), занятое едой; число вертикальных стоек, заглядываний в отверстия; число болюсов дефекации; число эпизодов замирания.
Статистическая обработка
Статистическая обработка данных проведена (с оценкой нормальности распределения и гомогенности выборок) с использованием двухфакторного ANOVA (с post hoc LSD анализом по Фишеру) — для показателей быстроты выполнения теста на поиск входа в укрытие (ЛП) и показателей теста на неофагофобию. Для оценки различий в долях животных, которые смогли выполнить тест при лазе, закрытом пробкой, использован метод углового преобразования φ по Фишеру.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Тест на поиск входа в укрытие
Мыши линий БМ и ММ, возраст 3 месяца (пятидневное введение ГК-2). Статистически значимых межгрупповых различий по ЛП перехода в темный отсек установки при открытом лазе не выявлено, однако тенденция к более короткому ЛП при введении ГК-2, по сравнению с контрольной группой, обнаружена (p = 0.08 для мышей линии ММ и p = 0.09 для мышей линии БМ) (рис. 2).
Рис. 2. ЛП (с) решения теста на поиск входа в укрытие у 3-месячных мышей линий БМ и ММ в первом (открытый лаз) и втором (лаз замаскирован стружкой) предъявлениях теста. Данные представлены в виде средних и стандартных ошибок среднего. Серые столбики — введение дипептида (5 дней); черные столбики — контроль (введение физиологического раствора); # — тенденция (р < 0.1), по сравнению с контрольными группами той же линии (двухфакторный ANOVA, post hoc LSD-тест по Фишеру).
При лазе, замаскированном стружкой, двухфакторный ANOVA показывает достоверное влияние фактора “линия” (F1–2 = 6.7645, p = 0.012), и тенденцию во влиянии фактора “воздействие” (F1–2 = 2.5684, p = 0.089). У мышей БМ в предъявлении теста с лазом, замаскированным стружкой, ЛП перехода в темный отсек камеры после дипептида короче, чем в контроле (тенденция) (после ГК-2 — 61.9 ± 23.1 с, в контроле — 127.1 ± 23.1 с, р = 0.053), тогда как у мышей ММ различия в ЛП недостоверны (после ГК-2 — 130.0 ± 12.5 с, в контроле — 142.6 ± 12.5 с) (рис. 2).
Величины ЛП решения теста для предъявлений с лазом, закрытым пробкой, не полностью отражают успешность решения теста, поскольку для случаев нерешения (которых могло быть разное число в разных группах) ЛП принимается равным 240 с, что может сказаться на абсолютной величине среднего ЛП. Более объективную картину и межлинейных различий, и влияния воздействия ГК-2 на решение этих этапов теста дает сравнение долей животных, успешно решивших тест.
У 3-месячных мышей доли решения теста с пробкой (суммарно по двум предъявлениям) у групп контроль и дипептид достоверно не различались. В контрольных группах они равны 16.2% и 18.7% соответственно для мышей БМ и ММ. После получения дипептида мыши БМ смогли решить тест в 25% случаев (4 раза из 16 предъявлений), мыши ММ — в 12.5% (2 раза из 16). Таким образом, влияние дипептида на решение теста на поиск входа в укрытие у мышей этого возраста незначительно и в целом перекрывается межлинейными различиями.
Мыши линий БМ и ММ, возраст 8 месяцев. У 8-месячных мышей по показателям ЛП решения теста с открытым лазом выявлено двухфакторным ANOVA достоверное влияние фактора “линия” (F1–2 = 9.008, р = 0.00479) с более быстрой реакцией у мышей БМ. После введения дипептида у мышей обеих линий ЛП решения незначимо ниже, по сравнению с контролем, т. е. картина сходна с таковой у 3-месячных мышей и свидетельствует об отсутствии эффекта дипептида на ЛП решения этого этапа теста (рис. 3).
Рис. 3. ЛП (с) решения теста на поиск входа в укрытие у 8-месячных мышей линий БМ и ММ в первом (открытый лаз) и втором (лаз замаскирован стружкой) предъявлениях теста. Данные представлены в виде средних и стандартных ошибок среднего. Серые столбики — введение дипептида (однократно), черные столбики — контроль (введение физиологического раствора); * — значимое (р < 0.05) отличие от такой же группы линии ММ (двухфакторный ANOVA, post hoc LSD-тест по Фишеру).
При втором предъявлении теста (лаз закрыт стружкой) фактор “линия” также оказывает значимое влияние (F = 17.689, р = 0.000158), а влияние дипептида недостоверно, как и в случае открытого лаза (рис. 3).
Влияние возраста на величины ЛП решения теста с лазом, замаскированным стружкой (двухфакторный ANOVA, факторы “линия” и “возраст”), для всех групп мышей БМ и ММ (контрольных и получавших дипептид) суммарно выявлено на уровне тенденции (F1–2 = 3.6667, p = 0.060126). Анализ post hoc LSD по Фишеру показывает значимые возрастные различия у мышей БМ: у 3-месячных мышей (и контроль, и дипептид) ЛП решения теста значимо (p < 0.05) длиннее, чем у 8-месячных — 94.5 ± 15.31 и 47.5 ± 12.5 с соответственно, тогда как у мышей ММ различия не достоверны — 133.1 ± 16.4 и 123.5 ± 14.8 с соответственно. В каждой из групп доли мышей, решивших тесты с пробкой, представлены на рис. 4 (суммарно по двум предъявлениям теста с пробками). Если у 3-месячных мышей доли таких животных приблизительно одинаковы и очень малы, то у 8-месячных — не только эти доли значимо больше у мышей обеих линий, но также выявлены различия между группами. 8-месячные мыши БМ контрольные решают тест более успешно — в 76.6% случаев, чем после дипептида — в 54.6% (φ, угловой метод Фишера, поскольку различия достоверны при t = 2.02, а в данном случае t = 2.002, можно говорить лишь о тенденции). Показатели контрольных мышей БМ выше, чем животных остальных групп (рис. 4).
Рис. 4. Доли (%) успешных решений теста на поиск входа в укрытие у 8-месячных мышей линий БМ и ММ при лазе, закрытом пробкой (суммарно по двум предъявлениям). Данные представлены в виде средних. Серые столбики — введение дипептида, черные столбики — контроль (введение физиологического раствора); *** — значимое (р < 0.001) отличие от такой же группы линии ММ; << — различия между группой после дипептида и контрольной группой приближаются к достоверности (метод φ по Фишеру, t = 1.8 и t =1.83, тогда как p < 0.05 при t = 2.0).
В то же время у мышей линии ММ после дипептида больше (на уровне тенденции) решений, чем в контроле — 42.8 и 25% соответственно).
Таким образом, различия в успешности решения теста при лазе, закрытом пробкой, в группах дипептид и контроль противоположны по знаку у мышей БМ и ММ. Малый размер групп животных, видимо, является причиной отсутствия статистически значимых эффектов дипептида у 8-месячных мышей (по долям успешных решений), полученных по угловому методу Фишера, поскольку по χ2-критерию различия между группами достоверны (p < 0.001).
Интегральное сравнение долей 3- и 8-месячных мышей двух линий (данные по группам контроль и дипептид), решивших тест на поиск входа в укрытие с лазом, закрытым пробкой, выявило возрастные различия у мышей БМ. Доля решений теста у мышей БМ 8-месячного возраста больше (р < 0.001), чем у 3-месячных — 66.7 и 21.9% соответственно. Для мышей ММ не выявлено статистически значимых различий, но у 8-месячных мышей ММ доля решений этого этапа теста несколько больше, у 3-месячных — 32.3 и 15.6 %, т. е. знак различий аналогичен БМ.
Сравнение долей 3-месячных интактных мышей (не получавших инъекций ни дипептида, ни физиологического раствора), решивших тест на поиск входа в укрытие с лазом, закрытым пробкой, показывает более успешное (р < 0.01) решение его мышами БМ, чем ММ — 43.7% и 6.25% соответственно (угловой метод Фишера), что подтверждает полученные ранее данные (Перепелкина и др., 2021).
Малый размер групп животных не позволяет делать уверенное заключение о влиянии пятикратной болевой стимуляции (при ГК-2 и физиологическом растворе) и хэндлинга (взятия в руки) на поведение мышей в данном тесте. Однако нельзя исключить, что экспериментальные манипуляции с животными при серийных инъекциях могли оказать влияние на их поведение в этом тесте, причем оно (предположительно) может быть разнонаправленным у БМ и ММ.
Эти данные могут означать, что менее успешное выполнение теста с пробкой у мышей БМ после 5 дней введения дипептида (при сравнении с контролем и ММ), которое можно трактовать как отсутствие его ноотропного эффекта, может быть результатом влияния ГК-2 на исследовательское поведение мышей этой линии. Возможно, что влияние дипептида на мышей БМ выразилось в акцентуации их исследовательского поведения, сопряженного со снижением тревожности при пребывании на ярко освещенной площадке. Непрямое подтверждение этого предположения — описанный нами ранее дифференциальный эффект введения атомоксетина (блокатора обратного захвата норадреналина) на мышей БМ и ММ (Perepelkina, Poletaeva, 2023).
Таким образом, предполагавшееся влияние ГК-2 на решение теста на поиск входа в укрытие обнаружено, но сложно по своему рисунку, поскольку при этом выявлены и межлинейные, и возрастные различия в поведении, что, по всей видимости, отражается в невысоком уровне статистической значимости различий.
ЛП первого подхода к лазу
Исследовательскую активность мышей в данном тесте можно оценивать по ЛП первого подхода к лазу, а также по числу вертикальных стоек, совершенных мышью до решения, однако второй показатель мало информативен, поскольку в разных группах мышей время (ЛП) решения теста разное, и это сравнение затруднительно. В группах 3-месячных мышей значимых различий между группами по ЛП первого подхода к лазу не выявлено. В группах 8-месячных мышей в тех предъявлениях теста, когда лаз был открыт или замаскирован стружкой, ЛП у групп дипептид и контроль у обеих линий различается мало (данные post hoc LSD тест по Фишеру), но у мышей линии БМ более короткие ЛП первого подхода к лазу — двухфакторный ANOVA показывает высоко достоверное влияние фактора “линия” (для открытого лаза — F1–2 = 11.3, p = 0.002, для лаза, закрытого стружкой, — F1–2 = 12.5, p = 0.001).
Межлинейные различия по ЛП первого подхода к лазу, когда он был закрыт пробкой, также выявлены, но на грани достоверности, т. е. могут быть проинтерпретированы как тенденция (р = 0.056 для первого теста с пробкой и р = 0.058 — для второго). Выявлены различия между группами дипептид и контроль для ЛП первого подхода к лазу, закрытому пробкой, но из-за высокого разброса данных при малых размерах групп они недостоверны. Так, например, у мышей БМ после дипептида для первого предъявления теста с пробкой ЛП первого подхода к лазу 23.0 ± 18.8 с, а в контроле — 45.9 ± 17.3 с, для мышей ММ: 53.4 ± 27.9 и 101.1 ± 20.8 с соответственно. Высокий разброс данных по этому показателю может быть связан с влиянием спонтанных перемещений мыши по освещенной части камеры, когда животное может быстро подойти к лазу (не исследуя его), однако общая тенденция различий позволяет осторожно предположить, что введение дипептида несколько усилило исследовательское поведение мышей.
Число эпизодов замирания
Поскольку выявление реакции замирания по отсутствию движения вибрисс при визуальном наблюдении не может быть достаточно надежным, пересчет зафиксированного суммарного числа замираний с учетом разной латентности выполнения теста (или его невыполнения) дает нечеткие результаты, следовательно, выводы о влиянии введения дипептида на этот показатель нельзя считать надежными. Эти данные в работе не представлены, можно отметить незначимое увеличение числа этих эпизодов у мышей обеих линий. Влияние дипептида на реакцию замирания следует анализировать в специальных экспериментах, поскольку при фармакологических и иных воздействиях у животных усиливается настороженность, которая также проявляется в замирании. Это состояние, вызванное попаданием животного в новую обстановку, можно, разумеется, прямолинейно (в соответствии с общепринятой точкой зрения) интерпретировать как усиление тревожности, однако оно может быть вызвано и повышением внимания животного к новой обстановке.
Интерпретация нейрофизиологического смысла выявленных различий достаточно трудна. Можно предположить, что дипептидный миметик NGF ГК-2 может оказывать активирующее влияние на глутаматергические синапсы, что известно для полноразмерного NGF (Liu et al., 2001; Paredes et al., 2007), и это согласуется с ноотропными свойствами как полноразмерного нейротрофина (Fischer et al., 1991; Eu et al., 2021), так и ГК-2 (Волкова и др., 2022). Показано, что блокада NMDA-рецепторов (неонатальное введение MK-801) изменяет исследовательское поведение и тревожность взрослых мышей генотип-зависимым образом (Akillioglu et al., 2012), т. е. генетические особенности поведения могут влиять на эффект фармакологического воздействия. Введение классического ноотропного препарата ноопепта взрослым мышам BALB/c и C57BL/6J также обнаруживает генотип-зависимые изменения в тревожности и исследовательской активности, ассоциированные с разнонаправленной модуляцией активности глутаматергической системы мозга (Васильева и др., 2020). Нейрохимические изменения в мозге чаще всего оцениваются в переднемозговых структурах, однако в среднем мозге в центральном сером веществе (ЦСВ), ответственном за проявление поведения защиты, имеется группа глутаматергических нейронов. Усиление их активности в ответ на введение ГК-2 может несколько усилить такое защитное замирание. Показано участие глутаматных рецепторов нейронов дорсальной части ЦСВ в реализации реакций страха и тревоги (Fendt, 2000; Reimer et al., 2012; Rozeske et al., 2018).
Тест на неофагофобию
Наиболее информативным показателем дифференциальной реакции мышей этих линий на новую пищу в новой обстановке оказывается количество пищи, съеденной за 5 мин. теста.
У 3-месячных мышей двухфакторным ANOVA выявлено достоверное влияние и линии (F1–2 = 5.3, p = 0.02), и воздействия (F1–2 = 4.823, p = 0.05), однако post hoc LSD-тест по Фишеру не обнаруживает достоверных межгрупповых различий дипептид/контроль (рис. 5).
Рис. 5. Реакция на новую пищу в новой (не пугающей) обстановке у мышей БМ и ММ двух возрастных групп при действии пептида (серые столбики) и после введения физиологического раствора (черные столбики). Данные представлены в виде средних и стандартных ошибок среднего. (а) — количество съеденного сыра 3-месячными мышами за 5 мин. теста; (б) — количество съеденного сыра 8-месячными мышами за 5 мин. теста; (в) — число подходов 3-месячных мышей к кормушке с новой пищей; (г) — число подходов 8-месячных мышей к кормушке с новой пищей; ** — статистически значимое отличие (p < 0.01) от показателей соответствующей контрольной группы (двухфакторный ANOVA, post hoc LSD-тест по Фишеру).
Мышами БМ после дипептида съедено новой пищи несколько больше, чем контрольными (38.4 ± 7.9 мг/25.1 ± 7.9 мг), тогда как у мышей ММ различий практически нет (9.6 ± 7.9 мг/ 9.1 ± 7.9 мг).
У 8-месячных мышей БМ и ММ после введения ГК-2 количество съеденной новой пищи в течение 5 мин. теста находится под достоверным влиянием фактора воздействие (F1–2 = 6.94, р = 0.014). Мышами обеих линий после введения дипептида съедено сыра достоверно больше (рис. 5). Этот эффект следует отнести к ноотропным эффектам ГК-2, поскольку другие показатели поведения не позволяют объяснять этот эффект изменением тревожности (число эпизодов неподвижности с прекращением движения вибрисс после введения ГК-2 больше у мышей обеих линий). Двухфакторный ANOVA выявляет достоверное влияние введения дипептида (F1–2 = 5.02, p = 0.034) с бо́льшим числом замираний после его инъекций. По LSD-тесту по Фишеру у мышей ММ различия в числе этих эпизодов достоверны (дипептид 4.5 ± 0.7, контроль 1.9 ± 0.7, p < 0.05). Это не подтверждает предположение о снижении тревожности/настороженности после введения дипептида.
На число вертикальных стоек за 5 мин теста (как проявление исследовательской активности), по данным двухфакторного ANOVA, влияет и генотип (F1–2 = 7.9, p = 0.008), и введение дипептида (F1–2 = 6.8, p = 0.003). После введения дипептида стойки реже, в особенности у мышей ММ (дипептид — 8.9 ± 3.6, контроль — 24.2 ± 3.6, р < 0.01), у БМ различия меньше по размаху и незначимы (что может определяться их бо`льшим вниманием к кормушке с новой пищей).
Таким образом, количество съеденной новой пищи в новой (но не пугающей животное) обстановке в качестве показателя позитивной реакции мыши на новизну в целом выше после введения дипептида, что можно трактовать как проявление влияния этого соединения на один из показателей когнитивных способностей животного — реакцию на новое (Perepelkina, Poletaeva, 2022). Возрастные различия в эффекте дипептида на этот параметр у БМ и ММ неодинаковы. У мышей линии БМ после введения дипептида количество съеденной новой пищи одинаково в обеих возрастных группах (между контрольными группами также нет достоверных различий). Мышами ММ после введения дипептида в 8-месячном возрасте съедено сыра больше (p < 0.05), тогда как в контрольных группах эта величина у ММ недостоверно меньше, чем у БМ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показатели веса мозга у животных близких таксономических групп в сравнительных исследованиях связывают с уровнем эволюционного развития вида (Rensch, 1956; Kruska, 1975, 2005). Очевидно, что на вес мозга влияют как генетические факторы, так и экологические условия, а выявляемые взаимодействия между этими факторами говорят о сложной природе этого признака (Henderson, 1973; Markina et al., 2001). Воздействие ряда физических и химических агентов в пренатальный период значимо снижают вес мозга лабораторных грызунов (Wahlsten et al., 1993; Rosenzweig, Bennet, 1996). В целом ряде исследований проводился анализ особенностей поведения мышей, селектированных на большой и малый относительный вес мозга. Практически во всех случаях расхождение линий по этому признаку происходит довольно быстро (обнаруживается уже в третьем-четвертом поколениях селекции), и при этом констатируются межлинейные различия в поведении (Перепелкина и др., 2006; Roderick et al., 1973; Fuller, 1979; Poletaeva et al., 1993; Markina et al., 2001). Практически во всех случаях обучение мышей и при пищевом, и при болевом подкреплении более успешно у мышей с большим относительным весом мозга (Попова и др., 1981; Маркина и др., 1999а; Elias, 1969; Gonsiorek et al., 1974). В экспериментах с мышами линий БМ и ММ различия обнаружены также в показателях исследовательского поведении, стресс-реактивности и тревожности (Маркина и др., 1999б). Следует отметить, что ноопепт (этиловый эфир N-фенилацетил-L-пролилглицина) также проявляет в когнитивных тестах генотип-зависимые ноотропные свойства у мышей инбредных линий (Бельник и др., 2007б). Описано генотип-зависимое влияние ноопепта на поведение мышей инбредных линий в условиях ряда лабораторных тестов, в частности в тестах на тревожность и исследовательское поведение (Бельник и др., 2007а; Васильева и др., 2012; Ковалев и др., 2014).
Полученные в настоящей работе данные показывают, что изучение влияния низкомолекулярных миметиков нейротрофинов на разные формы поведения мышей — важное нейробиологическое направление исследований. Эти сведения важны для более полной информации об этих соединениях, которые могут быть потенциальными лекарственными препаратами.
Благодаря проведенной работе можно сформулировать следующие выводы.
- Показаны межлинейные различия в решении теста на неисчезаемость (по Ж. Пиаже) как в контроле, так и после 5 дней введения дипептида ГК-2 (миметик NGF) у 3- и 8-месячных мышей двух линий, ранее селектированных на большой и малый относительный вес мозга (линии БМ и ММ).
- После введения дипептида латентные периоды решения теста на поиск входа в укрытие более короткие и у БМ, и у ММ с более четкими различиями в 8-месячном возрасте.
- Доли животных БМ после введения пептида, решивших тест при блокировке пробкой входа в темную комфортную часть установки, ниже, а у мышей ММ — выше, чем в контроле, но при малом размере групп эффект определяется на границе статистической значимости.
- В тесте на новую пищу в новой обстановке у БМ и ММ введение пептида вызывает более активную реакцию на новую пищу, причем у мышей БМ этот эффект выражен более четко в 8-месячном возрасте, хотя число эпизодов замирания также выше в группах после введения дипептида, что не позволяет объяснить этот эффект снижением тревожности.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Исследование осуществлено при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-25-00042.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Исследования на мышах проведены в соответствии с требованиями Директивы 2010/63 ЕС от 22 сентября 2010 г.
Об авторах
О. В. Перепелкина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: ingapoletaeva@mail.ru
Россия, Москва
И. И. Полетаева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: ingapoletaeva@mail.ru
Россия, Москва
П. Ю. Поварнина
Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий
Email: ingapoletaeva@mail.ru
Россия, Москва
Т. А. Гудашева
Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий
Email: ingapoletaeva@mail.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Антипова Т.А., Гудашева Т.А., Середенин С.Б. Исследование in vitro нейропротективных свойств нового оригинального миметика фактора роста нервов ГК-2 // Бюл. эксп. биол. мед. 2010. Т. 150 (11). С. 538–541.
- Антипова Т.А., Деев И.Е., Гудашева Т.А. и др. Доказательство селективности взаимодействия дипептидного миметика фактора роста нервов ГК-2 с TrkA-рецептором с использованием нокаутных по генам Trka и Trkb клеток линии НТ-22 // Хим. фарм. журн. 2022. Т. 56 (12). С. 18–22. https://doi.org/10.30906/0023-1134-2022-56-12-18-22
- Бельник А.П., Островская Р.У., Полетаева И.И. Зависимые от генотипа изменения поведения мышей под влиянием ноопепта // Журн. высш. нерв. деят. 2007а. Т. 57 (5). С. 613–617.
- Бельник А.П., Островская Р.У., Полетаева И.И. Зависимые от генотипа особенности поведения мышей в когнитивных тестах. Влияние ноопепта // Журн. высш. нерв. деят. 2007б. Т. 57 (6). С. 717–724.
- Васильева Е.В., Салимов Р.М., Ковалев Г.И. Влияние ноотропных средств на поведение мышей BALB/cи C57BL/6 в крестообразном лабиринте // Эксп. клин. фармакол. 2012. Т. 75 (7). С. 3–7.
- Васильева Е.В., Кондрахин Е.А., Абдуллина А.А. и др. Преобладание ноотропного или анксиолитического эффекта пептидов селанк, семакс и ноопепт в зависимости от пути их введения мышам BALB/c и С57BL/6 // Нейрохимия. 2020. Т. 37 (3). С. 208–219. https://doi.org/10.31857/S1027813320030115
- Волкова А.А., Поварнина П.Ю., Никифоров Д.М. и др. Сравнительное изучение мнемотропной активности димерных дипептидных миметиков отдельных петель NGF и BDNF в тесте распознавания нового объекта у крыс // Хим. фарм. журн. 2022. Т. 56 (4). С. 3–6. https://doi.org/10.30906/0023-1134-2022-56-4-3-6
- Волкова А.А., Поварнина П.Ю., Гудашева Т.А. Ноотропное действие дипептидного миметика NGF на модели болезни Альцгеймера // Вопр. биол. мед. фарм. химии. 2023. Т. 26 (11). С. 3–11. https://doi.org/10.29296/25877313-2023-11-10
- Гудашева Т.А., Антипова Т.А., Середенин С.Б. Новые низкомолекулярные миметики фактора роста нервов // Докл. АН. 2010. Т. 4 (1). С. 549–552.
- Ковалев Г.И., Кондрахтин Е.А., Салимов Р.М., Незнамов Г.Г. Динамика поведенческих и нейрохимических эффектов после длительного введения ноопепта мышам С57BL/6 и BALB/c // Эксп. клин. фармакол. 2014. Т. 77 (12). С. 3–9.
- Маркина Н.В., Попова Н.В., Полетаева И.И. Межлинейные различия в поведении мышей, селектированных на большую и малую массу мозга // Журн. высш. нервн. деят. 1999а. Т. 49 (1). С. 59–67.
- Маркина Н.В., Попова Н.В., Салимов Р.М. и др. Сравнение уровней тревожности и стресс-реактивности у мышей, селектированных на большой и малый вес мозга // Журн. высш. нервн. деят. 1999б. Т. 49 (5). С. 789–798.
- Перепелкина О.В., Маркина Н.В., Полетаева И.И. Способность к экстраполяции направления движения у мышей, селектированных на большой и малый вес мозга: влияние пребывания в обогащенной среде // Журн. высш. нерв. деят. 2006. Т. 56 (2). С. 282–286.
- Перепелкина О.В., Огиенко Н.А., Сулейманова А.Д., Полетаева И.И. Стресс иммобилизации и поведение мышей с разным весом мозга // Журн. высш. нерв. деят. 2021. Т. 71 (1). С. 104–112. https://doi.org/10.31857/S0044467721010081
- Поварнина П.Ю., Воронцова О.Н., Гудашева Т.А. и др. Оригинальный дипептидный миметик фактора роста нервов ГК-2 восстанавливает нарушенные когнитивные функции в крысиных моделях болезни Альцгеймера // Acta Naturae. 2013. Т. 5 (3). С. 88–95.
- Попова Н.В., Полетаева И.И., Романова Л.Г. Способность к обучению и экстраполяции у мышей, селектированных на разный вес мозга // Журн. высш. нервн. деят. 1981. Т. 31 (3). С. 550–555.
- Сазонова Н.М., Тарасюк А.В., Курилов Д.В. и др. Синтез димерного дипептидного миметика фактора роста нервов ГК-2, потенциального нейропротективного препарата // Хим. фарм. журн. 2015. Т. 49 (7). С. 10–19.
- Середенин С.Б., Гудашева Т.А. Дипептидные миметики нейротрофинов NGF и BDNF. Патент РФ № 2410392. 2011. Дата приоритета 16.02.2009.
- Середенин С.Б., Поварнина П.Ю., Гудашева Т.А. Экспериментальная оценка терапевтического окна нейропротективной активности препарата ГК-2, низкомолекулярного миметика фактора роста нервов // Журн. неврол. психиатр. 2018. Т. 118 (7). С. 49–53. http://doi.org/10.17116/jnevro20181187149
- Akillioglu K., Babar Melik E., Melik E., Kocahan S. The investigation of neonatal MK-801 administration and physical environmental enrichment on emotional and cognitive functions in adult Balb/c mice // Pharmacol. Biochem. Behav. 2012. V. 102 (3). P. 407–414. https://doi.org/10.1016/j.pbb.2012.06.006
- Aloe L., Tirassa P., Bracci-Laudiero L. Nerve growth factor in neurological and non-neurological diseases: basic findings and emerging pharmacological prospectives // Curr. Pharm. Des. 2001. V. 7 (2). P. 113–123. https://doi.org/10.2174/1381612013398383
- Ben Abdallah N.M., Fuss J., Trusel M. et al. The puzzle box as a simple and efficient behavioral test for exploring impairments of general cognition and executive functions in mouse models of schizophrenia // Exp. Neurol. 2011. V. 227 (1). P. 42–52. https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2010.09.008
- Ciafrè S., Ferraguti G., Tirassa P. et al. Nerve growth factor in the psychiatric brain // Riv. Psichiatr. 2020. V. 55 (1). P. 4–15. https://doi.org/10.1708/3301.32713
- Deacon R.M. Hyponeophagia: a measure of anxiety in the mouse // J. Vis. Exp. 2011. V. 51. P. 2613. https://doi.org/10.3791/2613
- Elias M.F. Differences in spatial discrimination reversal learning for mice genetically selected for high brain weight and unselected controls // Percept. Mot. Skills. 1969. V. 28. P. 707–712. https://doi.org/10.2466/pms.1969.28.3.707
- Eu W.Z., Chen Y.J., Chen W.T. et al. The effect of nerve growth factor on supporting spatial memory depends upon hippocampal cholinergic innervation // Transl. Psychiatry. 2021. V. 11 (1). P. 162. https://doi.org/10.1038/s41398-021-01280-3
- Fendt M. Expression and conditioned inhibition of fear-potentiated startle after stimulation and blockade of AMPA/Kainate and GABA(A) receptors in the dorsal periaqueductal gray // Brain Res. 2000. V. 880 (1–2). P. 1–10. https://doi.org/10.1016/s0006-8993(00)02665-2
- Fischer W., Björklund A., Chen K., Gage F.H. NGF improves spatial memory in aged rodents as a function of age // J. Neurosci. 1991. V. 11 (7). P. 1889–1906. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.11-07-01889.1991
- Fuller J.L. Fuller BWS lines: history and results // Development and evolution of brain size / Eds M.E. Hahn, C. Jensen, B.C. Dudek. N.Y.: Acad. Press, 1979. P. 518–539.
- Genrikhs E.E., Voronkov D.N., Kapkaeva M.R. et al. The delayed protective effect of GK-2, а dipeptide mimetic of nerve growth factor, in a model of rat traumatic brain injury // Brain Res. Bull. 2018. V. 140. P. 148–153. https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2018.05.002
- Gonsiorek J.C., Donovick P.J., Burright R.G., Fuller J.L. Aggression in low and high brain weight mice following septal lesions // Physiol. Behav. 1974. V. 12. P. 813–818. https://doi.org/10.1016/0031-9384(74)90018-3
- Gudasheva T.A., Povarnina P.Y., Antipova T.A. et al. Dimeric dipeptide mimetics of the nerve growth factor Loop 4 and Loop 1 activate TRKA with different patterns of intracellular signal transduction // J. Biomed. Sci. 2015. V. 22. P. 106. https://doi.org/10.1186/s12929-015-0198-z
- Gudasheva T.A., Ostrovskaya R.U., Seredenin S.B. Novel technologies for dipeptide drugs design and their implantation // Curr. Pharm. Des. 2018. V. 24 (26). P. 3020–3027. https://doi.org/10.2174/1381612824666181008105641
- Henderson N.D. Brain weight changes resulting from enriched rearing conditions. A diallel analysis // Develop. Psychobiol. 1973. V. 6. P. 367–376. https://doi.org/10.1002/dev.420060410
- Kruska D.C. Comparative quantitative study on brains of wild and laboratory rats. I. Comparison of volume of total brain and classical brain parts // J. Hirnforsch. 1975. V. 16. P. 469–483.
- Kruska D.C. On the evolutionary significance of encephalization in some eutherian mammals: effects of adaptive radiation, domestication, and feralization // Brain Behav. Evol. 2005. V. 65. P. 73–108. https://doi.org/10.1159/000082979
- Liu A., Prenger M.S., Norton D.D. et al. Nerve growth factor uses Ras/ERK and phosphatidylinositol 3-kinase cascades to up-regulate the N-methyl-D-aspartate receptor 1 promoter // J. Biol. Chem. 2001. V. 276 (48). P. 45372–45379.
- Markina N.V., Salimov R.M., Poletaeva I.I. Behavioral screening of two mouse lines selected for different brain weight // Prog. Neuropsychopharm. Biol. Psych. 2001. V. 25 (5). P. 1083–1109. https://doi.org/10.1016/s0278-5846(01)00169-5
- Paredes D., Granholm A.C., Bickford P.C. Effects of NGF and BDNF on baseline glutamate and dopamine release in the hippocampal formation of the adult rat // Brain Res. 2007. V. 1141. P. 56–64. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2007.01.018
- Perepelkina O.V., Poletaeva I.I. Selection of mice for object permanence cognitive task solution // Neurol. Int. 2022. V. 14 (3). P. 696–706. https://doi.org/10.3390/neurolint14030058 PMID: 36135993
- Perepelkina O.V., Poletaeva I.I. Cognitive test solution in mice with different brain weights after atomoxetine // Neurol. Int. 2023. V. 15 (2). P. 649–660. https://doi.org/10.3390/neurolint15020041
- Poletaeva I.I., Popova N.V., Romanova L.G. Genetic aspects of animal reasoning // Behav. Genet. 1993. V. 23 (5). P. 467–475. https://doi.org/10.1007/BF01067982
- Reimer A.E., De Oliveira A.R., Brandão M.L. Glutamatergic mechanisms of the dorsal periaqueductal gray matter modulate the expression of conditioned freezing and fear-potentiated startle // Neuroscience. 2012. V. 219. P. 72–81. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2012.06.005
- Rensch B. Increase in learning capability with increase of brain-size // Amer. Natur. 1956. V. 90. P. 81–96.
- Roderick T.H., Wimer R.E., Wimer C.C., Schwartzkroin B. Genetic and phenotypic variation in weight of brain and spinal cord between inbred strains of mice // Brain Res. 1973. V. 64. P. 345–353. https://doi.org/10.1016/0006-8993(73)90188-1
- Rocco M.L., Soligo M., Manni L., Aloe L. Nerve growth factor: early studies and recent clinical trials // Curr. Neuropharmacol. 2018. V. 16 (10). P. 1455–1465. https://doi.org/10.2174/1570159X16666180412092859
- Rosenzweig M.R., Bennet E.L. Psychobiology of plasticity: effects of training and experience on brain and behavior // Behav. Brain Res. 1996. V. 78. P. 57–65. https://doi.org/10.1016/0166-4328(95)00216-2
- Rozeske R.R., Jercog D., Karalis N. et al. Prefrontal-periaqueductal gray-projecting neurons mediate context fear discrimination // Neuron. 2018. V. 97 (4). P. 898–910. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.12.044
- Seredenin S.B., Gudasheva T.A. Dipeptide mimetics of NGF and BDNF neurotrophins. Patent China. 102365294B. 2016. Priority date 16.02.2009.
- Seredenin S.B., Gudasheva T.A. Dipeptide mimetics of NGF and BDNF neurotrophins. Patent India. 296506. 2018. Priority date 16.02.2009.
- Seredenin S.B., Gudasheva T.A. Dipeptide mimetics of NGF and BDNF neurotrophins. Patent EP 2397488B1. 2019. Priority date 16.02.2009.
- Terry A.V. Jr., Kutiyanawalla A., Pillai A. Age-dependent alterations in nerve growth factor (NGF)-related proteins, sortilin, and learning and memory in rats // Physiol. Behav. 2011. V. 102 (2). P. 149–157. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2010.11.005
- Wahlsten D., Bulman-Fleming B., Wainwright P.E. et al. Effects of environmental enrichment on cortical depth and Morris-maze performance in B6D2F2 mice exposed to ethanol // Neurotoxicol. Teratol. 1993. V. 15. P. 11–20. https://doi.org/10.1016/0892-0362(93)90040-u
Дополнительные файлы