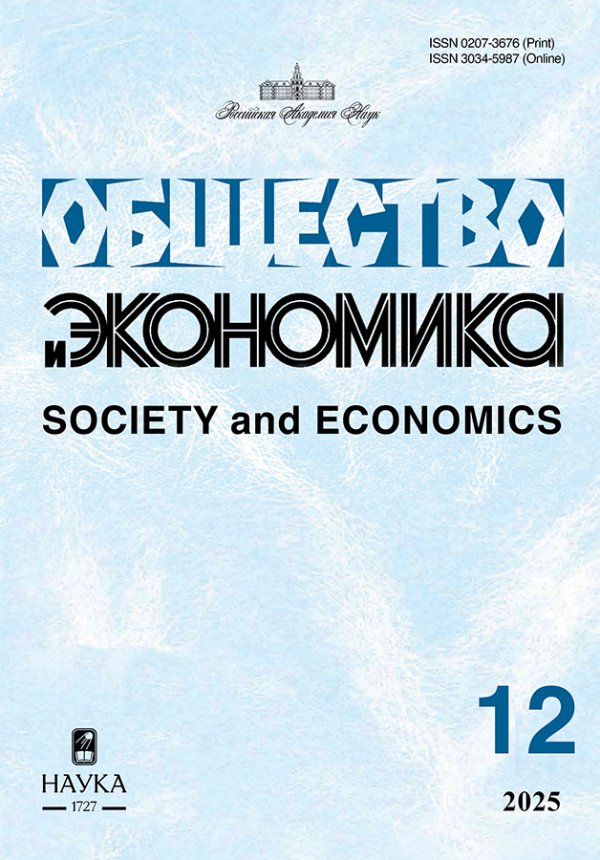The specifics of competition between commercial banks and fintechs
- Authors: Zharikov M.1
-
Affiliations:
- Financial University under the Government of the Russian Federation
- Issue: No 11 (2024)
- Pages: 47-60
- Section: FINANCIAL POLICY
- URL: https://journal-vniispk.ru/0207-3676/article/view/274253
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624110047
- ID: 274253
Full Text
Abstract
The article aims to form the notion of the specific workings of companies developing financial technologies as well as threats and opportunities created as a result of their emergence on the financial market. The article is time-relevant because economic theory today has a need to understand whether there are methods to adapt the traditional banking industry to conditions of digitalization in finance. It also offers answers to important questions and challenges for modern society that came into being under cutting-edge financial innovations, to minimize social costs and maximize the benefits for society. The practical significance of the article’s outcomes is determined by the newly uncovered data of the phenomenon of competition on the financial services market where the banking monopoly may be replaced by the monopoly of fintechs. The author comes to conclusions that contain some recommendations for bodies conducting financial control which allow to formulate strategic ways of regulating the functioning of the fintechs caused by growing national security concerns of using financial technologies, cybersecurity and integrity of transactions in times of total digitalization.
Full Text
Место и роль новых финансовых технологий в структуре современных капиталистических отношений
В трудах К. Маркса и других ученых-марксистов, таких как К. Каутский, Р. Гильфердинг, В. Ленин, на рубеже XIX–XX вв. вплоть до второй половины ХХ в. капитал был подробно изучен как феномен и основа современного общества. С учетом различий в подходах к этому понятию у самих марксистов в целом, они считали капитал и сформировавшийся на его базе капитализм одним из этапов развития общества, т. е. особой социально-экономической формацией. Был и еще один важный аспект, в котором они были согласны друг с другом, а именно – то, что этот этап конечен и что за ним следуют другие, более социально-ориентированные и справедливые. Важное отличие в понятиях марксистов о капитале проявляется в том, что если В. Ленин считал появление монополий и крупного монополистического капитала высшей ступенью развития всего капитализма, за которым следует неминуемый его крах, то К. Каутский и Н. Бухарин писали о том, что монополистический капитализм – это новый этап или новая формация в развитии общества, за которым не обязательно следует неминуемый коллапс собственно капитализма как формации. К началу XXI в. монополии, действительно, проникли во все сферы жизни, укрупнились в ходе централизации и концентрации, отчего стало сложно разделять капитал на виды, которые выделил в свое время К. Маркс, т. е. торговый, ссудный, промышленный. Слияния и поглощения как инструмент этого укрупнения привели к образованию почти генетической связи капиталистических отношений в горизонтальной и вертикальной структуре производства добавленной стоимости, когда стали стираться границы между капиталом в товарно-денежной, банковской и промышленной формах, и чтобы не путаться, всему этому явлению дали название финансового капитала, представленного финансово-промышленными группами. Однако несмотря на существование таких групп, транснациональные корпорации и транснациональные банки в качестве экономических субъектов – все-таки вполне специализированные структуры со своими целями и позициями на рынке [4].
Совсем иначе представляется роль банков, когда их сравнивают с другими финансовыми организациями [1]. В начале ХХ в. банки и банкиры возглавляли капиталистическую систему. Функция коммерческого банка отчетливо проявилась, когда банки начали использовать денежные средства и депозиты иных лиц, отданные им в рост под процент. В 1873 г. У. Бейджит писал в своей книге «Ломбард Стрит» (цитируя известную фразу Д. Рикардо), что до тех пор, пока банк использует собственные средства, он является лишь капиталистом. Такое сравнение может показаться устаревшим в XXI в. вследствие появления разнообразных финансовых организаций, но в той или иной мере институциональные инвесторы, хедж-фонды, взаимные фонды, пенсионные фонды, частный капитал, управляющие активами – все они используют деньги иных лиц для достижения своих целей. Сегодня к определению Д. Рикардо можно добавить еще одну характеристику, связанную с тем, что современные финансовые институты являются интерфейсом взаимодействия между отдельными лицами и их же капиталом.
В отличие от классической практики банков прибыли или убытки, возникающие от работы многочисленных и многообразных финансовых компаний, перекладываются в итоге на владельцев активов, а в инвестиционном процессе, наоборот, субъекты используют собственные средства [5]. Фонд в этой ситуации служит лишь инструментом долевого участия в прибылях и капиталах. Банки тоже используют депозиты, т. е. денежные средства иных лиц, чтобы осуществлять и расширять кредитную деятельность, но потребители или клиенты рассчитывают на то, что в будущем они получат свои депозиты в изначальном объеме с процентами. Они вряд ли будут мириться с убытками банка по кредитным операциям в периоды кризиса. Вместе с тем они не обязательно получат большую прибыль в период экономического подъема, поскольку решение о выплате дивидендов принимает собрание акционеров [3]. Банки, со своей стороны, принимают на себя и то, и другое – и убытки, и прибыли. Такая практика может дестабилизировать состояние банка, балансирующего на грани либо той, либо другой перспективы и конъюнктуры. Наконец, банк обладает серьезным преимуществом при предоставлении финансовых услуг, поскольку формирование депозитов и кредитные операции являются комплементарными видами предпринимательской деятельности в сфере финансов. Банки в результате стали предоставлять отдельные виды услуг или вообще все существующие виды финансовых услуг, которые необходимы клиентам, начиная с выпуска кредитных карт и заканчивая ипотекой или консультациями по вопросам покупки ценных бумаг.
Позиции коммерческих банков и финтехов на рынке финансовых услуг
Банковский капитал и финансовый капитал в целом постоянно растут, и к концу первой четверти XXI в. их величина достигла колоссальных размеров. В 2007 г., т. е. до мирового финансового кризиса, совокупные активы небанковских финансовых компаний составляли 100 трлн долл., или 171% мирового валового продукта и 46% всех активов, существующих в той или иной форме капитала. К 2019 г. эти активы увеличились в два раза и составили 223% мирового валового продукта и половину всех активов. Порог 2019 г. очень важен для деятельности банков, в связи с тем, что в 2020 г. началась эпидемия коронавируса и характер предоставления услуг изменился [13]. Тогда срочно потребовались инструменты предоставления услуг через сеть. И учреждения банковского сектора, неспособные быстро адаптироваться к изменившимся условиям и среде бизнеса, уступили некоторую долю своего рынка финтехам. Доля банков уменьшилась в относительных размерах в рамках системы финансов в целом, поскольку здесь начали появляться все новые и новые субъекты. Однако, несмотря на это, банки продолжают играть доминирующую роль в кредитных операциях [2]. Поэтому в вопросах соперничества или конкуренции банков с какими-то другими значимыми финансовыми институтами можно наивно полагать, что им грозят какие-то риски. Тем не менее, если что-то сейчас и угрожает их деятельности, то эти факторы связаны с распространением платежных платформ и других финансовых компаний, интегрировавших в себе функции опосредования финансово-экономической деятельности с современными достижениями в области информации, телекоммуникации, интернета [9]. В настоящее время, по данным Банка международных расчетов, около 50% всех активных операций в мировой практике, включая ценные бумаги и непосредственно кредиты, находятся в сфере интересов структур, которые относятся к категории небанковских, по сравнению с 38,5% доли коммерческих банков. При этом их доля очень быстро растет. Только в 2019 г. она выросла почти на 9%, тогда как кредиты банков выросли всего на 4,6%. Несмотря на это, банки продолжают оставаться преобладающим источником специализированных кредитов. По данным на конец 2019 г., банки предоставили 83% всех кредитов в мире [6]. Наиболее очевидный сдвиг в этой сфере происходит в США с их богатой историей развития рынков капитала, начиная 1940-х годов, когда большие объемы средств, накапливаемые взаимными фондами, получили распространение. В 1980-х годах началась лихорадка долгового страхования, и особенно – облигаций, не имевших рейтинга инвестиционного уровня. Начался бум долга домохозяйств через секьюритизацию, когда кредиты использовали для покупки облигаций и последующих операций купли-продажи. Тем не менее опасения по поводу нарастающего процесса секьюритизации после финансового кризиса вылились в тенденцию, приведшую к тому, что 20% таких активов оказались на балансовых счетах банков. Остальные страны последовали опыту США, и не только потому что власти заставляли банки сокращать портфели высокорисковых активов. В зоне евро доля финансовых активов, принадлежащих банкам, упала с 60% в совокупном объеме в 2007 г. до 40% в 2019 г. Большую роль в этом процессе сыграла многолетняя политика дешевых денег центральных банков развитых стран. Бесперспективность получения доходов по депозитам и вкладам в банках заставляла экономических субъектов искать альтернативы. Большие доходы обещал рынок ценных бумаг и прочие финансовые рынки. Брокерская деятельность, сделки слияний и поглощений, организация и сопровождение первичных размещений акций привлекали внимание банков, поскольку, несмотря на высокие риски, они освобождали балансовые счета банков от обязательств содержать депозиты. Центральные банки и государство, в принципе, тоже выгадывали от такого положения на финансовых рынках, поскольку низкая ставка позволяла пользоваться дешевым кредитом на различные национальные программы и социальную политику. Одновременно с этим падала необходимость и острота проблемы страхования депозитов, которые потоком стремились в более рискованные инвестиции. И хотя финансовые риски иногда зашкаливали, как в примере ипотечных деривативов, которые спровоцировали обвал и мировой финансовый кризис в 2008 г., но долгосрочная политика низких ставок в целом приучила экономических субъектов к тому, что выгоднее работать на финансовом рынке, стимулировать экономику за счет долгового финансирования, не боясь инфляции и других рисков. Ситуация стала меняться, когда программы налогово-бюджетного стимулирования в период коронакризиса разогнали цены и инфляцию, которую центральным банкам пришлось гасить за счет повышения ставок. Рост ставок укрепил национальные валюты, депозиты вновь обрели популярность, а инвестиции стали затухать, особенно в строительстве и новейших отраслях. В результате обязательства банков стремительно выросли. Государственная задолженность вышла на уровень, который прежде считался запредельным. Росла доходность по гособлигациям, одновременно падал их курс и снижался кредитный рейтинг. В бюджете многих развитых стран обслуживание долга заняло ведущие позиции финансирования. Правда, такая динамика характеризует, главным образом, развитые страны, а многим другим еще только предстоит выйти на этот путь развития [7].
География распространения финтехов
В развивающихся странах складывается несколько иная картина. Они очень сильно зависят от банков по причине ограниченной ликвидности на рынках капитала. Некоторые из их рынков капитала находятся в зачаточном состоянии. Некоторые из стран лишь недавно отнесены к категории стран с развивающимися финансовыми рынками. Другие страны, приобретя этот статус в 1990-е годы и в начале XXI в., потеряли его ввиду серьезного финансового кризиса, охватившего страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки в конце 1990-х годов, а потом и в ходе мирового финансового кризиса. Распространение интернет-компаний и развитие рынков капитала вширь и вглубь в некоторых наиболее значимых развивающихся странах начались со второй половины второго десятилетия XXI в. и, в общем, приобрели положительную динамику благодаря финтехам, которые взяли на себя функции банков в тех географических рамках рынка, которые для банковской деятельности прежде считались недоступными. Эти финтехи берут за свои услуги небольшую комиссию, в отличие от банков [14]. Следует отметить, что, вне зависимости от уровня развития страны, во всем мире обслуживание банковского кредита обходится весьма дорого. Так, около 7 млн домохозяйств в США до сих пор не имеют доступа к банковским кредитам, поэтому они опираются на деятельность компаний, организующих платежные операции и переводы денежных средств, иногда прибегая к услугам организаций, в некотором роде похожих на ростовщические лавки. Они пользуются услугами ломбардов и даже традиционных менял, занимающихся выдачей средств в день требования, но берут за это очень высокий процент. Кредитные и дебетовые карты обходятся в 1–4% по обслуживанию и в некоторых развитых странах, поэтому чаще всего электронными деньгами могут воспользоваться средний класс и высокодоходный слой общества, получая за свою лояльность, например, компенсацию в форме накопленных бонусов за километры или мили авиаперелетов. По подсчетам ведущих статистических агентств, среднестатистическое домохозяйство в США, которое пользуется электронными деньгами, фактически платит 149 долл. за годовое обслуживание пластиковых карт. И каждое домохозяйство, использующее карты, получает 1133 доллара в год за лояльность в виде подарочных бонусов и долларов, которые может потратить на определенные товары в организациях-партнерах в качестве вознаграждения. Об этом, в частности, говорится в исследовании 2010 г., проведенном экономистами Федерального резервного банка в Бостоне.
Структурные трансформации на финансовом рынке и рынке банковских услуг подготовили почву для появления принципиально новых участников, которые на базе мобильной телефонизации, удаленного доступа, цифровизации бизнес-моделей интегрировали в себе ряд важных функций и заняли свою нишу, получив название финтехов. Хотя эта категория не совсем удачно и полно отражает содержание самого феномена интеграции финансов и технологий, поскольку не объясняет, какие именно финансы и технологии интегрируются, но тем не менее финтехи имеют разные проявления и круг деятельности. И в целом, их задача состоит в упрощении и удешевлении услуг, которые традиционно были прерогативой банков [8]. В частности, финтехи создали новые платежные системы, которые достаточно просты и недороги в обращении. Одна из таких платежных систем UPI около десяти лет назад была создана в Индии. На базе современных телекоммуникационных средств она формирует связь мобильных телефонов (чаще всего смартфонов) с биометрическими данными и банковскими счетами, предоставляя более дешевые возможности доступа к финансовым услугам для миллионов граждан страны, которые до определенного момента, в особенности до эпидемии коронавируса, никогда не имели счетов в банках. Эпидемия сыграла тут большую роль, поскольку очень быстро потребовались бесконтактные и удаленные способы доставки денежных средств и организация товарно-денежных потоков для обеспечения товарами первой необходимости. С этой точки зрения Индия была относительно готова к локдаунам, поскольку в период с 2014 по 2018 г. уже 315 млн индийцев, у которых до этого не было никаких банковских счетов, открыли их и положили на них депозиты в сумме свыше 800 млрд рупий, или 12 млрд долл., получив при этом 283 млн дебетовых карт [12].
Оценка издержек и выгод внедрения новых финансовых технологий
В связи с тем, что процессы конкуренции приводят к обострению вопроса управления и минимизации рисков, механизмы оптимизации бизнеса становятся все более значимыми. Исторически сложилось так, что самый главный риск для банковской деятельности возникает вследствие формирования баланса долгосрочных обязательств и краткосрочных кредитных операций. Большинство небанковских структур осуществляют трансформацию средств на балансе по срокам обращения депозитов и ликвидности, в результате чего банки оказываются уязвимыми в периоды паники. По данным Совета финансовой стабильности, 29% из 200 трлн долл. в виде активов, которые находятся в руках небанковских финансовых институтов, представляют собой риски, которые не берут на себя банки, и доля эта растет. Большинство небанковских активов сконцентрированы в инвестиционных фондах, которые обеспечивают ликвидность. Они стремятся стать в один ряд с другими институтами, банками, и поэтому принимают срочные депозиты. Привлечение средств на депозиты небанковских структур осуществляется часто за счет пенсионных фондов. Пенсионный фонд, в отличие от банка, застрахован от вероятности немедленного оттока депозитов, поскольку он выплачивает страховую премию постепенно, например в течение следующих 30 лет после выхода клиента на пенсию. Пенсионный фонд при планировании собственных инвестиций понимает, что какая-то часть ликвидности может приносить дополнительный доход, если инвестировать ее в небанковский сектор. Таким образом, аккумулированные средства пенсионного фонда создают доход в фонде управления акционерным капиталом сроком более 10 лет. Эта распространенная финансовая инновация стимулировала деятельность конкурентов банков и создала большие прибыли в отрасли. Однако поскольку непредвиденные обстоятельства все равно периодически возникают, и расчет на сроки востребования средств не всегда оправдывается, небанковские институты создают своей практикой большие риски [10].
Рассмотрим выгоды, которые возникают в сегменте финтехов благодаря конкуренции с традиционными кредитно-денежными институтами. Получая средства пенсионных фондов и других фондов долгосрочного характера, например страховых, финтехи, как и коммерческие банки, пользуются возможностями, которые им дает экономия благодаря существованию эффекта масштаба. Далее включается механизм финансовых технологий и инноваций, который до конца неизвестен по причине малой транспарентности в отрасли. Со своей стороны, крупные банки диверсифицируют издержки, связанные с их деятельностью, включая затраты на работу отделений и издержки маркетинга, перекладывая их на плечи многочисленных клиентов. Финтехи, в т. ч. платежные платформы в интернете, поступают точно так же, диверсифицируя издержки за счет еще большего числа пользователей, привлеченных сниженной комиссией за обслуживание. Возможность получения дохода за счет клиента, который открывает счет в банке, начинает приобретать широкие масштабы вместе с ростом размеров бизнеса и массовости. И если коммерческий банк может предлагать выгодные по цене услуги благодаря наличию множества клиентов, его возможности ограничены арифметической прогрессией, тогда как стоимостное выражение услуг, предоставленных в рамках платежной платформы в интернете, может расти в геометрической прогрессии и иногда экспоненциально – вместе с расширением сети, не имеющей национальных границ. Из средств массовой информации часто слышатся жалобы органов финансового контроля США по поводу того, что в банковской системе страны растет уровень концентрации вследствие волн слияний и поглощений, в результате которых в США рынок банковских услуг практически полностью контролируют четыре крупнейших банка, несмотря на существование нескольких тысяч других мелких банков. Однако сравнительное преимущество финтехов, платежных платформ и т. д. отличается от преимуществ в банковской деятельности тем, что здесь один финтех может сконцентрировать на себе работу всей сети и поглощать максимальную прибыль в отрасли просто потому, что, например, у компании Meta число пользователей достигает трех миллиардов благодаря Facebook [11].
Тем не менее монопольные позиции и тех, и других финансовых институтов могут меняться из-за появления все новых угроз. Например, появление мобильных банковских приложений, с одной стороны, способствовало упрощению, ускорению элементарных операций, для совершения которых прежде надо было идти в отделение банка и стоять в очереди. Мобильные банковские приложения произвели настоящую революцию в сфере традиционных банковских услуг, которая в архаичной форме дожила до начала XXI в. и, по сути, уступила свое место онлайн-банкингу лишь с наступлением эпидемии и локдаунами. С другой стороны, те же мобильные приложения, обеспечив предоставление некоторых банковских услуг в круглосуточном режиме и даже по выходным и праздничным дням, поставили ряд региональных американских банков в марте 2023 г. на грань провала, и если раньше паника и очереди за вкладами создавали для банка угрозу обвала только в будние дни и часы рабочего дня, тем самым страхуя банк, по крайней мере на какое-то время, в течение которого можно было разработать план действий на следующий день или день, следующий за выходными, или найти ликвидность для удовлетворения острой потребности в деньгах со стороны клиентов, то теперь мобильное приложение позволяет выводить средства со счетов, минуя временные и прочие рамки. В результате, банки Silicon Valley и First Republic потерпели катастрофу, и чтобы она не перекинулась на остальные банки и финансовую систему США в целом, Федеральной резервной системе пришлось вмешаться и создавать кредитные линии наиболее проблемным среди региональных банков. В настоящее время происходит взрывной рост небанковских финансовых фирм как по количеству, так по и качеству операций, отчего балансовые счета, которые банки используют для осуществления кредитных операций, теряют свою ценность или значимость для массового клиента. Кроме того, широкое распространение деятельности крупных интернет-компаний позволяет им использовать конкурентную силу собственных электронных платформ, вступать в острую борьбу с банками путем подключения пользователей или подписчиков в основной сфере деятельности. Такая концентрация создает ощущение, будто вся отрасль сосредотачивается в виде одной-единственной кнопки, при нажатии которой финансовая система в определенный момент времени может рухнуть. Примеров тотальной концентрации в мировой практике достаточно много. Например, в Сингапуре есть мобильное приложения Grab, а в Индонезии ‒ Godjik, и оба они начинали свою деятельность с предоставления услуг вызова такси, а теперь превратились в значимых финтехов. Или другой пример ‒ Mercado Pago, которое является финансовым подразделение крупнейшего латиноамериканского сайта электронной торговли Mercado Libre. Они и подобные им финтехи или платформы, интернет-площадки создали более позднюю модель финансовых услуг на базе первоначального доминирования на простейшей услуге в смартфоне, которую клиенты используют каждый день. Другие яркие примеры этого феномена включают компании Aliрay и WeChat Pay в Китае. Еще одна платформа Ant Group, впоследствии финансовое подразделение Alibaba, возникла в связи с тем, что покупатели в свое время активно становились подписчиками и клиентами Alibaba, электронной интернет-платформы, которая давала им надежный способ платежа или денежного перевода. Услуга Aliрay первоначально предоставлялась на основе счета эскроу, чтобы перечислять средства продавцам после того, как покупатели получили приобретенные продукты. Однако вскоре был осуществлен запуск этой функции в виде мобильного приложения на смартфоне. В 2011 г. эта компания стала пионером в использовании в своей деятельности QR-кодов для проведения платежей, и теперь, десять лет спустя, формирование этих кодов настолько просто, что каждый мелкий субъект, предприниматель может его сгенерировать для удобства и быстроты процесса купли-продажи. В настоящее время владельцу магазина достаточно предъявить этот код, чтобы получить денежный перевод. Такое средство платежа стало широко распространяться, создавая за счет массовости сначала китайского населения, а потом и населения многих других стран, основу взлета компании Alipay. Сегодня эта компания имеет свыше 1,7 млрд пользователей, и через ее системы и интернет-приложения проходят платежи на сумму 16 трлн долл., что почти в 25 раз больше, чем соответствующий показатель для PayPal, крупнейшей компании, платформы онлайн-платежей, работающей за пределами Китая.
Конкурент системы Alipay появился в 2013 г. в лице компании Tencent, которая добавила платежную функцию к ведущему китайскому мобильному приложению WeChat для пересылки разнообразной информации, включая финансовую. В результате за десять лет развития обе компании добились того, что обрабатывают около 90% всех сделок через мобильные приложения в Китае. У коммерческих банков в Китае данная тенденция развития вызвала настоящий шок, поскольку Alipay и WeChat берут за свои услуги всего 0,1% в виде комиссионных сборов с каждой сделки, т. е. меньше, чем процент, который банки берут за обслуживание, например, дебетовых карт. В разных странах мира комиссионные сборы за осуществление посреднических сделок резко упали именно вследствие распространения таких компаний. Для компаний, занятых в области финансовых технологий, такая деятельность является привлекательной в плане развития конкуренции. В Индонезии эти комиссионные сборы упали с 2 до 0,7%. По внешней видимости складывается представление, что растет удовлетворенность клиента за счет роста потребительского излишка на рынке банковских услуг. Однако при этом большая угроза состоит в том, что платежные платформы могут стать механизмом перекачки и клиентов, и ликвидности в виртуальное пространство небанковского сектора, и прежде всего в пользу финтехов. Так, уже сегодня есть технологии, которые на основе информации, аккумулируемой в процессе совершения сделок компаниями Ant, Grab и Tencent, позволяют устанавливать кредитоспособность или кредитный рейтинг заемщика. Компания Ant начала выдавать потребительские кредиты в 2014 г. К 2020 г. развитие ее деятельности привело к расширению рыночной доли до десятой части всех потребительских финансов в Китае. И хотя в эту деятельность в последнее время начали вмешиваться органы государственного финансового контроля, данный финтех не утратил своей значимости на рынке.
Следует также упомянуть о таком достаточно важном преимуществе банков, как оценка кредитоспособности заемщика. Банку, в отличие от финтеха, легче дать оценку возможности или невозможности предоставления займа клиенту благодаря большому опыту и наличию накопленной кредитной истории заемщика или оценки состояния и наличия у него имущества. Банки проверяют степень обеспечения гарантий, на основе которых предоставляется кредит под залог движимого и недвижимого имущества. Большая база в виде кредитной истории позволяет минимизировать издержки, связанные с мониторингом деятельности или жизни заемщика. В XXI в. все чаще информация становится институтом залога вместо имущества, особенно в развитых странах. С другой стороны, информация о потребителях, которой располагают финтехи или платежные платформы, тоже является многообразной, диверсифицированной. Однако, чтобы ею воспользоваться, требуются существенные ресурсы и вложения, поскольку структуризация, анализ, классификация, стратификации данных – очень трудоемкий и затратный процесс, требующий специальных знаний и технических средств. Кроме того, финтехи ограничены в правах использования клиентских данных, и обычно они могут этим заниматься до тех пор, пока государство не вмешается в их деятельность. Например, до начала активной кампании за ограничение деятельности финтехов в Китае была создана некая асимметричность информации, в рамках которой кредиторы знают больше о готовности заемщиков выплачивать долги, чем сами заемщики. За последние пять лет крупнейшие интернет-компании, компании финансовых технологий выдали в кредит по 450 долларов на душу населения в Китае, или около 2% совокупного кредита в стране.
Еще один источник конкурентных преимуществ банковского и небанковского секторов заключается в существовании синергетического эффекта благодаря одновременному предоставлению кредитов и других финансовых продуктов, таких как управление активами, страховая деятельность. Компания Ant осуществила выход в сектор управления активами в 2013 г. в результате запуска продукта Youdao, на основе которого потребитель, имеющий денежные средства, может заработать определенный процент от размещения их в фонде денежного рынка. В 2019 г. был момент, когда Youdao стал крупнейшим в мире фондом денежного рынка по размеру. Далее его деятельность стала сворачиваться, когда центральный банк Китая обязал группу Ant ограничиться и добровольно замедлить экспансию. Тогда группа Ant стала дополнять свою деятельность другими направлениями и начала экспансию на рынок страхования жизни, автогражданского страхования, медицинского страхования в партнерстве с другими компаниями.
В отличие от банков интернет-компании обладают технологическими преимуществами использования своих платформ для осуществления банковской деятельности, поскольку функция организации платежей все больше виртуализируется, и для этого требуются инженерные навыки или компетенции. Такая деятельность даже получила распространение в США, где операторы кредитных карт VISA и MasterCard, которые являются лидерами в организации сети и инфраструктуры пластиковых карт не только на национальном рынке, но и за рубежом, стали испытывать проблемы сохранения клиентов, привлеченных легкостью и дешевизной услуг финтехов. В результате конкуренции традиционные операторы пластиковых карт в США стали отставать в уровне технической оснащенности от финтехов, включая зарубежных. Развитие платежных платформ усилилось во время эпидемии коронавируса, вынудившей потребителей делать все покупки в интернете. В это время компания PayPal почти удвоила свою капитализацию на рынке капитала, которая составила около 310 млрд долл., тем самым став самой крупной интернет-платформой по уровню рыночной капитализации в мире. Компания Stripe, занятая в сфере организации и сопровождения корпоративных денежных переводов и платежей, к настоящему времени достигла капитализации в 95 млрд долл. и, таким образом, стала крупнейшей публичной частной компанией США в своем роде. Успех компании Stripe как платформы бизнес-приложений говорит о том, что не только розничная банковская деятельность оказалось под угрозой острой конкуренции со стороны финтехов, но и банковская деятельность, направленная на исключительное обслуживание корпораций или юридических лиц. Она воспользовалась техническими преимуществами и завоевала высокое доверие со стороны различных предприятий благодаря легкости осуществления платежей через веб-сайты, подключенные к платежной технологии Stripe. Впоследствии Stripe начала экспансию в сферу услуг, сферу управления личными сбережениями и прочих платежных операций.
Однако интернет-платформы не могут осуществлять весь спектр разнообразных видов услуг коммерческих банков, поскольку у них нет такого баланса активов и пассивов, чтобы обеспечить масштабную кредитную деятельность. Здесь преимущество коммерческого банка перед финтехом состоит в том, что он хранит крупные депозиты, которые он может предоставлять в виде кредитов корпорациям. Однако постепенно и это преимущество размывается под влиянием интернет-компаний. И некоторые из них с помощью первичных размещений акций при достижении капитализации в объеме около 40 млрд долл. приобретают своего рода банковскую лицензию, становясь полноценными публичными организациями, обязанными публиковать соответствующую финансовую отчетность и отвечать всем своим капиталом за кредитные риски. Если многие другие интернет-платформы пойдут по тому же пути, то позиции банков претерпят значительные изменения. И финтехи могут занять центральное место в системе классических финансов. Таким образом, крупнейшими в этой сфере могут оказаться группа Ant, Grab или Mercado Pago, а не HSBС, Satander или UBS.
Однако большинство интернет-компаний избегают приобретения лицензии на предоставление банковских услуг. Финтехи решили идти по пути наименьшего сопротивления, действуя по принципу «снятия сливок» в отрасли. Лицензия на банковскую деятельность означает для финтехов большую ответственность, обременительную для практики и бизнеса. Банки находятся в сфере достаточно жесткого регулирования со стороны государственных органов финансового контроля, и, чтобы выполнять свои функции, они обязаны вести соответствующую финансовую, бухгалтерскую отчетность по государственным и международным стандартам. Реализация ключевых банковских функций предполагает высокие затраты, т. е. банковская деятельность характеризуется высокой капиталоемкостью и достаточностью собственного капитала. Мировой рынок банковских услуг оценивается в сумму около 3 трлн долл. В среднем владение акциями ведущих банков мира приносит 5–6% прибыли на одну акцию. Таким образом, степень свободы и простор для осуществления ключевых и побочных функций на уровне коммерческих банков весьма ограничены. Со своей стороны, деятельность финтехов является значительно более гибкой и пока не подпадает под особый надзор государства. Рынок финансовых продуктов, создаваемых финтехами, платежными компаниями, интернет-платформами и т. д., обеспечивает валовой доход в размере 2,5 трлн долл. При этом отдача на одну акцию в этих компаниях достигает 20%. Так, сначала группа Ant стремилась позиционировать себя как лицензионную банковскую организацию на интернет-площадке. Она первоначально предоставляла кредиты и учитывала их на балансе как ценные бумаги или осуществляла их пакетирование на основе секьюритизации ценных бумаг, продавая их другим финансовым институтам. Однако из-за критики в адрес руководства страны и органов финансового контроля основатель группы Джек Ма перестал быть фаворитом правительства и утратил поддержку со стороны государства. Государство принялось активно управлять деятельностью финтехов. А поскольку основное требование государства к эмитентам ценных бумаг – наличие определенного объема собственного капитала как гарантия активных операций, то распространение норм регулирования банковской деятельности на финтехи привело к значительным издержкам и сокращению прибыли. Еще одним сегментом функционирования этой компании было финансовое посредничество. Группа Ant выступила в качестве проводника между банками и другими финансовыми организациями, пытаясь образовать связь и коммуникации между заемщиками и кредиторами. Однако органы финансового контроля страны обеспокоились тем, что группа Ant вряд ли может обладать широкими возможностями в этой сфере бизнеса, и потребовали от нее увеличить уровень достаточности капитала. В результате группа Ant была вынуждена создавать новую бизнес-модель, благодаря которой произошел ее резкий взлет. Быстрый рост финтехов привел к тому, что банки перестали быть единственными институтами, претендующими на лидерские позиции в кредитной деятельности и посреднических услугах, связанных с сопровождением первичного размещения акций или эмиссии ценных бумаг, куда стремятся вклиниться многие интернет-платформы. Кроме того, баланс сил на рынке традиционных банковских услуг постепенно сдвигается в пользу небанковских структур, хотя, по данным Совета финансовой стабильности, международного консультативного объединения представителей органов финансового контроля крупнейших стран мира, капиталистические институты, как правило, продолжают выступать в качестве наиболее важных игроков.
Негативный момент деятельности финтехов связан с потенциальным усилением их монополистической власти на рынке. В настоящее время экспертное сообщество, в основном, обсуждает проблемы роста влияния финтех-монополистов – интернет-платформ, концентрирующихся на перекрестных видах деятельности. Особое внимание привлекает проблема охраны и трансфера пользовательских данных. И если прежде финтех в режиме онлайн был способен с высокой степенью достоверности установить, удовлетворяет ли клиент необходимым квалификационным требованиям, чтобы претендовать на получение кредита, то в текущих условиях усугубления проблемы кибербезопасности необходим более эффективный и быстрый подход к оценке качества и классности субъекта на основе опыта финансовых организаций, которые предоставляют подобные услуги. Таким образом, сложилась идея совместного использования данных, которая получила название открытой банковской деятельности, или открытого банкинга. Она нашла одобрение со стороны органов финансового контроля, прежде всего в Европе. Другая проблема заключается в том, что интернет-платформы, на самом деле, злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке, используя эффект масштаба и экономии издержек, поскольку деятельность интернет-платформ охватывает широкие массы населения мира. И, накопив значительные средства благодаря этой массовости, они превращаются в важнейшего субъекта финансовых, экономических, правовых отношений на пересечении законодательств разных стран мира. Этим объясняется реакция органов финансового контроля в Китае на активную деятельность крупнейших компаний финансовых технологий и интернет-платформ. В частности, проблемы группы Ant начались в ноябре 2020 г., когда органы финансового контроля запретили ей выходить на биржу со своими акциями, т. е. осуществлять первичное размещение акций. Теперь все компании этой отрасли вынуждены разрабатывать новые формы и оболочки для своих продуктов, получать новые лицензии на ведение соответствующих видов деятельности, а также повышать уровень достаточности капитала. Таким образом, они должны работать практически как банки, стремиться быть похожими на традиционные банки.
Уроки трансформации финансов в результате процесса цифровизации
Выводы, которые следует сделать по итогам проведенного исследования, касаются вопроса, способна ли нарождающаяся система цифровых финансов и финтех выдержать серьезный кризис, не опрокинет ли она и без того хрупкую международную финансовую архитектуру. В Европе органы финансового контроля видят в расширении деятельности финтехов серьезную проблему и угрозу. Власти сталкиваются с перспективами увеличения объема данных, которые будет аккумулироваться в системе платежей, следовательно, могут применяться в других сферах деятельности. Это связано с тем, что в области правового обеспечения функционирования экономики и ее институтов или инфраструктуры невозможно представить существование системы организации платежей в отдельности от приоритетов в сфере использования данных. Это заставило Еврокомиссию начать активные действия по обсуждению и принятию общеевропейского законодательства, чтобы сосредоточиться на защите приватности и конфиденциальности личных данных резидентов. Дополнительную роль при этом играет задача минимизация рисков роста рынка фиктивного или спекулятивного капитала. Возможно, что банковские балансовые счета будут продолжать оставаться источником финансирования кредитов в будущем, но поскольку банки – это единственные институты, которые по закону могут принимать депозиты и создавать условия для их страхования, их роль вряд ли исчерпается в этом отношении. Тем не менее появление более широкого спектра участников на рынке банковских услуг усложняет задачу органов финансового контроля. И если в период мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. Федеральная резервная система США осуществляла интервенции на рынок капитала для стабилизации финансовой системы и архитектуры, ей было значительно проще устанавливать критерии финансовых и кредитно-денежных учреждений, которые могли рассчитывать на помощь в виде свободной ликвидности, то теперь, в условиях такого же потенциального кризиса, делать различие придется не только между коммерческими и инвестиционными банками, которые могут (или не могут) принимать депозиты и одновременно использовать их на инвестиции, но и между существующими банками и нарождающимися финтехами. Мировой финансовый кризис научил органы финансового и кредитно-денежного контроля, центральные банки действовать более эффективно. Результаты нового финансового регулирования, в принципе, дали свои плоды. И в марте 2020 г., и в марте 2023 г., когда рынки капиталов охватила паника, банковская система в ведущих странах мира осталась в целом невредимой, особенно крупные, системообразующие финансовые институты. Однако, в противоположность функции кредитора последней инстанции для коммерческих банков, ФРС стала выступать в роли маркетмейкера последней инстанции и напрямую осуществлять интервенции на кредитные рынки. Масштаб количественного смягчения в США и ЕС приобрел такую динамику, которая спровоцировала стремительный рост цен и необходимость увеличения ключевой ставки. Новые попытки стабилизации финансовых рынков усложняют задачу ФРС в части определения субъектов, которые подлежат спасению (bail-out). Понятно, что финтехи вряд ли подлежат спасению в условиях финансового кризиса в обозримой перспективе. Однако в случае их роста и распространения, возможно, центральным банкам придется пересматривать данный подход, поскольку допустить провал одного крупного финтеха может означать заражение по цепочке других финансовых институтов как традиционной банковской системы, так и формирующейся виртуальной или цифровой. По мере изменений, которые происходят в мире сегодня под влиянием финансовой цифровизации, аппарат реагирования или инструментарий органов финансового контроля и центральных банков нужно будет адаптировать к новым реалиям.
About the authors
Mikhail Zharikov
Financial University under the Government of the Russian Federation
Author for correspondence.
Email: michaelzharikoff@gmail.com
Grand Ph.D. in Economics, Professor, Department of World Economy and World Finance
Russian Federation, MoscowReferences
- Ангелина И.А., Антонец В.Г. Тенденции цифровой трансформации рынка финтех-услуг // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2024. Т. 14. № 2–1. С. 314‒324. doi: 10.34670/AR.2024.89.74.020
- Андреев А.В. Финтех в торговом финансировании // Банковское дело. 2022. № 8. С. 62‒63.
- Бердников Р.А. Инновационные финтех-технологии управления корпоративными финансами в эпоху цифровизации // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2024. Т. 13. № 2 (47). С. 29‒33.
- Березкин Ю.М. Ранний Маркс и современный «финтех» // Креативная экономика. 2019. Т. 13. № 2. С. 389‒406.
- Гиниятова Д.К. Финтех как фактор, стимулирующий развитие экономики: современное состояние и будущее // Академическая публицистика. 2022. № 3‒2. С. 63‒68.
- Киюцевская А.М. Финтех: современные тенденции и вызовы для денежно-кредитной политики // Вопросы экономики. 2019. № 4. С. 137‒151. doi: 10.32609/0042-8736-2019-4-137-151
- Корсунова Н.Н. Периодизация финтех и ее роль в банковском обслуживании корпоративных клиентов // The Scientific Heritage. 2021. Т. 65. № 3. С. 31‒34. doi: 10.24412/9215-0365-2021-65-3-31-34
- Луняков О.В. Традиционные и альтернативные кредитные рейтинги: финтех-компании vs банки // Банковские услуги. 2022. № 1. С. 18‒27. doi: 10.36992/2075-1915_2022_1_18
- Магомадова М.М. Анализ состояния отрасли финтех-индустрии в России // ФГУ Science. 2022. Т. 28. № 4. С. 125‒132. doi: 10.36684/37-2022-28-4-125-132
- Наркевич С.С. Подходы к классификации инновационных финансовых технологий (финтех) // Инновации. 2019. Т. 247. № 5. С. 54‒60. doi: 10.26310/2071-3010.2019.59.69.008
- Туржанский Г.А. Финтех и его влияние на мировой финансовый рынок // Экономика и управление: проблемы, решения. 2020. Т. 1. № 1. С. 96‒108.
- Хасаншина К.А. Стратегии взаимодействия банков и финтех-стартапов // Финансовая экономика. 2021. № 4. С. 94‒96.
- Doszhan R.D., Dutta A., Kuanova L.A. Fintech and covid-19: reflections and considerations for a financial market // Вестник университета Туран. 2024. Т. 102. № 2. С. 25‒37. doi: 10.46914/1562-2959-2024-1-2-25-37
- Martynov P. Affiliate marketing as a part of the digital marketing strategy of banks and fintech companies // Technoeconomics. 2023. Т. 2. № 2 (5). С. 45‒53. doi: 10.57809/2023.2.2.5.4