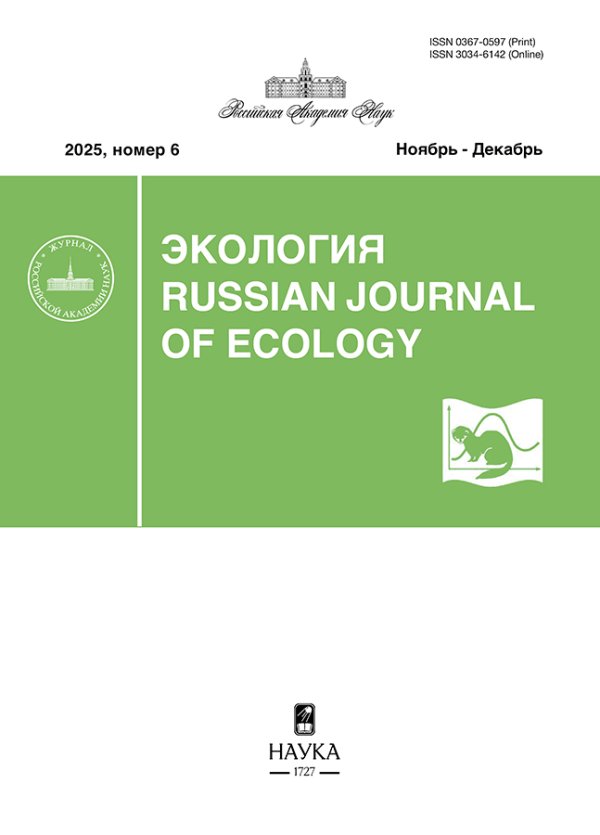Tritium from molecule to biosphere. 2. Approaches to dosimetry
- Authors: Antonova E.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 354-378
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-0597/article/view/272019
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367059724050033
- EDN: https://elibrary.ru/WCHHXU
- ID: 272019
Cite item
Full Text
Abstract
Tritium (3H) has natural and man-made origin. High migration capacity, the presence of different physical and chemical forms, affinity with organic molecules and involvement in metabolic processes in the biosphere attract attention to this isotope in the field of radiation protection of living organisms and humans. The data of 319 publications (230 of them are in the Supplimentary materials) were analyzed based on laboratory and field studies to understand the approaches to the methodology of 3H dose assessment in reference plant and animal organisms specified in Publication 108 of the International Committee on Radiation Protection. The basic principles and features of calculating the absorbed dose rate from inorganic and organic forms of 3H for different levels of biological organization are described. More than half of the studies were identified that are not related to dosimetry issues, but analyze radiobiological effects. Prospects for further research may be associated with a differentiated approach to assessing doses from different forms of 3H, ensuring closer contact between laboratory and field studies, and shifting the focus from the organism level to the populations. The results obtained will find application in formulating problems in the field of radioecology and radiobiology, as well as in improving radiation safety standards associated with the work of existing nuclear industry enterprises and the development of new nuclear technology facilities.
Full Text
Бета-излучатель тритий (3H) с периодом полураспада около 12.3 года имеет естественное и техногенное происхождение [1–4]. Он существует в нескольких формах и химических соединениях: тритиевая несвязанная вода (HTO, T2O, DTO), встречается в окружающей среде; водная несвязанная тканями форма 3H, тритий свободной воды тканей, неорганически связанный тритий (TFWT); органически связанный с белками, полисахаридами и липидами 3H (OBT): обменный (связан с атомами O2, S и N2, eOBT), необменный (связан с атомами C, neOBT) и суммарный (tOBT=eOBT+neOBT); меченные 3H прекурсоры (предшественники нуклеиновых и аминокислот); нерастворимые соединения и меченные 3H газы (HT, T2, CH3T и др.) [5–8].
Самой распространенной в природе формой и химическим соединением 3H (более 99%) является HTO [9]. Входя в состав воды, 3H участвует в глобальном круговороте водорода и во всех метаболических процессах (рис. 1). Международные нормативы по содержанию трития в питьевой воде, предложенные разными организациями и странами, различаются на 1–2 порядка [10, 11] и приведены в табл. 1. В СССР и России нормативы по HTO и OBT для населения многократно эволюционировали [12]. По современным оценкам, уровень вмешательства по содержанию трития в питьевой воде составляет 7.6×103 Бк/л, а предел годового поступления HTO и OBT с продуктами питания – 2.1×107 и 8.3×106 Бк/кг соответственно [13]. Считается, что текущие нормы трития тщательно установлены, консервативны и обеспечивают адекватную защиту человека от его воздействия [14].
Рис. 1. Круговорот разных форм и соединений трития в биосфере: HT – меченные тритием газы; CH3T – тритиевый метан; HTO – тритиевая несвязанная вода; TFWT – тритий свободной воды тканей; T-Pr – меченные 3H прекурсоры; OBT – органически связанный 3H.
Таблица 1. Нормативы содержания трития в питьевой воде в разных странах по [10, 11] с модификациями
Страна | Содержание, Бк/л |
Австралия | 76 103 |
Аргентина | Нормы не установлены |
Великобритания (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия) | 100 |
ЕС (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Румыния, Испания, Швеция) | 100 |
Канада | 7 000 |
Китай | Нормы не установлены |
Корея | Нормы не установлены |
Россия | 7 600 |
США | 740 |
Финляндия | 30 000 |
Швейцария | 10 000 |
Япония | Нормы не установлены |
Всемирная организация здравоохранения | 10 000 |
Последние десятилетия характеризовались сменой парадигмы в радиоэкологии, поскольку менялась философия Международного комитета по радиационной защите (МКРЗ). Впервые рекомендации по защите окружающей среды от радиации появились в Публикации 26 [15]. МКРЗ рекомендовал считать уровень радиационной безопасности, определенный для человека, безопасным и для других видов. Эта идея нашла свое отражение в последующих рекомендациях [16], где отмечалось, что применение системы радиационной защиты, разработанной для человека, не ставит под угрозу исчезновение видов или не создает дисбаланс между ними. Постепенная смена антропоцентрической парадигмы в обществе привела к созданию рабочих групп, обобщающих результаты исследований поведения радионуклидов в разных компонентах наземных и водных экосистем [17–22], разрабатывающих программы для расчета дозовых нагрузок биоты [23–26] и оценки биологических эффектов [4, 27–30].
Современный уровень развития радиоэкологии и радиобиологии предполагает использование эталонных видов растений и животных, обозначенных в Публикации 108 [31], в качестве модельных организмов при разработке дозиметрических моделей и оценке биологических эффектов. Модели МКРЗ обеспечивают коэффициенты преобразования дозы для представителей большого числа таксонов. В них используется ряд упрощенных подходов: простая геометрия тела с однородным составом и плотностью, однородное внутреннее распределение радионуклидов, ограниченный набор внешних источников излучения для наземной флоры и фауны [31]. С одной стороны, вопрос расширения числа изучаемых видов очевиден, поскольку представители биоты чрезвычайно разнообразны и могут оказаться нестандартными объектами при моделировании [32, 33]. Из-за сложности морфологии, внутренней структуры и плотности организма оценка мощности дозы, полученная с помощью гомогенной модели, может быть слишком упрощенной [34]. С другой стороны, все еще остается открытым вопрос о том, сможет ли увеличение числа видов повысить радиационную защиту окружающей среды [35]. Чаще всего, независимо от изучаемого организма, мощность поглощенной дозы (МПД) связана с инкорпорированными радионуклидами, и в первую очередь это касается 3H [36]. Поэтому предполагается, что для оценки радиоэкологических рисков представителей разных таксономических групп, в том числе находящихся под угрозой исчезновения, достаточно использовать уже обозначенные в Публикации 108 МКРЗ [31] референтные виды растений и животных [35].
Развивая идеи Н.В. Тимофеева-Ресовского об элементарных биологических структурах и явлениях на разных уровнях комплексности жизни в биосфере (молекулярно-клеточный, организменный, популяционный, экосистемный и биосферный) [37], в последние десятилетия рабочие группы Международного союза радиоэкологов (МСР), основываясь на данных, связанных с риском для отдельных организмов, обосновывают необходимость добавления популяционного и экосистемного подходов к набору инструментов, доступных для управления радиационной безопасностью [38–43]. К настоящему времени научными коллективами разных стран накоплены значительные данные о миграции разных форм и соединений 3H в окружающей среде [1, 44–46], метаболизме и накоплении биотой [47–53], разработаны модели для оценки мощности поглощенной дозы трития [54–59]. На лабораторных животных достаточно подробно изучено поступление разных форм и соединений трития в организм, распределение их в органах и тканях, пути выведения, токсичность для разных биологических уровней и относительная биологическая эффективность (ОБЭ) [59].
Дефицит технологий снижения поступлений 3H в окружающую среду с радиоактивными сбросами и выбросами АЭС, нерешенные проблемы утилизации тритийсодержащих отходов [60], внедрение объектов новой ядерной техники [5], сброс в северную часть Тихого океана сточных вод [61], загрязненных 3H и другими радионуклидами в результате аварии на Фукусиме в 2011 г., повышают риски потенциального переноса нуклидов, их накопления разными компонентами природных экосистем и действия на биоту. Это актуализирует тритиевую тематику на ближайшие десятилетия.
Цель настоящей работы – анализ подходов в дозиметрии, обобщение данных по методологии оценки доз для эталонных видов растений и животных, испытывающих действие разных форм и соединений 3H, в ходе лабораторных экспериментов и полевых наблюдений, поиск пробелов в знаниях.
МЕТОДОЛОГИЯ
1. Поиск и отбор источников
Поиск данных для обзора проведен по ключевым словам «tritium», «тритий» в системах Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed, агрегирующих на своих официальных веб-страницах опубликованные тезисы конференций, статьи в сборниках и журналах, монографии и другие типы публикаций разных издательств, с последующим просмотром рефератов и полных текстов. Одновременное использование нескольких баз данных обусловлено их разной специализацией, преимуществами или недостатками [62]. Кроме того, просматривали списки литературы в публикациях на сопряженные темы, личные и лабораторные веб-страницы.
2. Релевантность и анализ данных
Исследованию присваивали статус «содержит методику расчета и/или информацию о дозе облучения» в случае опубликованной величины мощности дозы облучения (рад/ч или Гр/ч) или дозы облучения (рад или Гр). Если в публикации были указаны только сведения об удельной активности (мкКи/мл, кБк/мл) используемых в экспериментах форм и соединений трития, т.е. только токсикологические характеристики, исследованию присваивали статус «не содержит методику расчета и/или информацию о дозе облучения». Смешанными считали исследования, в которых содержались сведения о проведении лабораторных экспериментов на полевом материале (дикие виды растений и животных) или об использования в ходе работы HTO и OBT из природных источников.
При расчете доли исследований с оценками дозовых нагрузок трития за единицу принимали биологический вид и число экспериментов, т.е. если в одной публикации участвовали две конечные точки или более (в данном случае – референтные виды) или различные условия воздействия (формы и соединения трития), их считали отдельными исследованиями. Согласно ICNafp [63], латинские названия таксонов в статье обозначены курсивом независимо от их рангов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Методология оценки доз облучения трития на разных уровнях биологической организации
Точная дозиметрия чрезвычайно важна при изучении потенциального воздействия экологически значимых радионуклидов, к которым относится 3H. Исследования, содержащие сведения о методах расчета и величине дозы у референтных видов растений и животных в ходе лабораторных экспериментов и натурных наблюдений, можно рассматривать на разных уровнях биологической организации.
1.1. Молекулярно-клеточный уровень
В 50-80-е годы прошлого столетия для изучения разнообразных процессов жизнедеятельности клетки (метаболизм нуклеиновых кислот; организация и дупликация хромосом; датировка времени возникновения нейронов в эмбрионе; обновление гонад и др.) использовали меченные тритием биохимические субстраты, в частности 3H-тимидин [64–67]. В некоторых работах МПД рассчитывали на основании количества распадов 3H на ядро, исходя из того, что на один распад, зафиксированный авторадиографической пленкой, приходится 143 распада 3H. Эффективность авторадиографии в этом случае составляла менее 1% [68], в других – около 5% [64]. Теоретические обоснования расчета МПД от внутриядерного 3H-тимидина были опубликованы в исследовании [69]. На основании микроскопической анатомии внутриядерные источники излучения рассматривали, скорее, как точечные, чем как распределенные равномерно. Поэтому формулы для расчета дозы, предполагающие однородное распределение поглощенной энергии, не считались приемлемыми [70].
В более поздних исследованиях моделирование дозы облучения на клеточном и субклеточном уровнях чаще всего проводили на основании концентрации HTO в окружающей среде, средней энергии β-частиц при распаде 3Н (0.057 МэВ), коэффициента преобразования МэВ в Дж [71], массы критического органа или объекта воздействия [72, 73] и ряда допущений (рис. 2):
Рис. 2. Концептуальная схема оценки мощности поглощенной дозы от трития: HTO – тритиевая несвязанная вода; TFWT – тритий свободной воды тканей; T-Pr – меченные 3H прекурсоры; OBT – органически связанный 3H; eOBT – обменная форма OBT; neOBT – необменная форма OBT.
- концентрация HTO в 1 мкКи/мл дает мощность поглощенной дозы 0.291 рад/день (2.91 мГр/день) [74];
- вода составляет 70–80% [74] или 80–90% [75] мягких тканей и клеток [76] и 20% твердых тканей [73]; она содержит 11% водорода [75]; содержание воды в клетках млекопитающих составляет 0.68–0.92 мл/г [77];
- размер клеток (диаметр около 5 мкм) значительно превышает среднюю длину пробега β-частиц 3Н в тканях [75, 78];
- 3Н распределен в клетке/организме равномерно в течение всего периода воздействия [74, 75], в том числе в виде OBT и прекурсоров [79];
- в клетке/организме не наблюдается превышение концентрации 3H выше равновесного уровня 3H в воде, т.е. коэффициент накопления для разных организмов равен 1 [80–85], 0.6–0.7 [73, 86–90] или 0.18–0.23 [91];
- тритий распределен только в водной части клетки [92];
- коэффициент для оценки дополнительной дозы трития, включенного в неводные компоненты клеток, составляет 0.3 [74, 75, 93–95];
- период полувыведения 3Н составляет 2.3–3.5 дня [96–99] на основании уравнения, указанного в справочнике [71].
Таким образом, формулы для расчетов мощности МПД от трития с учетом времени воздействия могут иметь следующий вид:
где Dβ – мощность поглощенной дозы (Гр/ч); DCC – коэффициент преобразования дозы; εβ – средняя энергия β-излучения 3Н, равная = 5.7 кэВ; CT – удельная активность 3Н в клетках, тканях или органах (Бк/г); CE – удельная активность 3Н в окружающей среде (Бк/кг, Бк/л).
При анализе воздействия ионизирующего излучения на биологические объекты, имеющие микроскопические размеры (клетки, субклеточные структуры), важную роль играет квантовый характер потери энергии заряженными частицами и связанный с этим статистический характер распределения энергии [100]. Анализ флуктуаций энергии является предметом исследования микродозиметрии. Он позволяет дать количественную характеристику неравномерности выделения энергии в равномерно облученном веществе. Микродозиметрия обычно оперирует параметром удельной энергии (z) – отношение энергии, переданной малому объему вещества, к весу этого объема [101]. Поскольку величина z отрицательно зависит от объема и дозы облучения и положительно от линейной передачи энергии ионизирующих частиц, то вероятностный характер поглощения приводит к большим флуктуациям величины [102].
Анализ опубликованных результатов показал, что оценка дозы облучения при воздействии трития на молекулярно-клеточном уровне является достаточно сложной и до настоящего времени окончательно не решенной проблемой [12, 57]. 3H излучает электрон (β-частицу) с низкой энергией, поэтому его внешнее воздействие можно не учитывать при расчете МПД [103, 104]. Поскольку 3H может концентрироваться либо в цитоплазме, либо в ядре клетки, то распределение 3H в субклеточных структурах зависит от его химической формы. Так, результаты моделирования с помощью биофизического кода PARTRAC (табл. 2) показали, что для равномерно распределенного в цитоплазме, но не прошедшего сквозь мембрану ядра 3H поглощенная ядром доза может составлять лишь 15% от дозы всей клетки [105]. По данным [106], когда источник излучения и мишень расположены в ядре, различия в расчетах МПД не превышают 5% от значений, опубликованных Комитетом по медицинской внутренней дозиметрии США (MIRD) [107]. Если же 3H расположен в цитоплазме, различия в расчетах могут достигать 10–20%, а при сравнении результатов моделирования методом Монте-Карло с данными MIRD – около 30% [106].
Таблица 2. Программы и модели, позволяющие оценить мощность поглощенной дозы от 3H на разных уровнях биологической организации
Название модели | Краткое описание программы или модели | Ссылки на источник литературы |
MELWA (Monoenergetic ELectrons in Wild Animals)* | Модель экспресс-расчета поглощения энергии от источников моноэнергетических электронов, равномерно распределенных в тканях животных сферической, эллипсоидной и цилиндрической геометрии, обитающих в дикой природе. Предложенные уравнения не связаны с методами Монте-Карло, не содержат подгоночных параметров и не требуют интерполяции между расчетными точками | [108] |
COOLER (COmputation Of Local Electron Release) | Программа используется для исследования геометрии клеток и влияния полного спектра β-распада 3H на значения поглощенной дозы (S) в целевой области (ядро клетки) за 1 распад в исходной области (ядро, цитоплазма или культуральная среда) и на относительную биологическую эффективность (ОБЭ) HTO для выживания клеток при аналогично высоких мощностях дозы. Программа осуществляет математическую свертку значений двух членов: 1) положение источников β-частиц (место распада 3H); 2) плотность выделяемой энергии как функции радиального расстояния от точечного источника | |
CROPTRIT (TRItium in agricultural CROPs) | Комплексная модель исследовательского уровня с акцентом на почву и баланс поглощения 3H в системе «воздух–растение» и «почва–растение» в агроценозах | |
EDEN (Elementary Dose Evaluation for Natural Environmen) | Код представляет собой инструмент Монте-Карло, который оценивает коэффициент преобразования дозы (DCC) на основе двух основных предположений: 1) любой организм имеет геометрию эллипсоида, определяемую тремя осями; 2) все характеристики, определяющие любой источник радиации (плотность, элементный состав, радионуклидный состав, концентрации), считаются однородно распределенными по всему объему. Все необходимые данные определяются пользователем, за исключением спектроскопических данных (вносятся из базы данных) | [113–116] |
ERICA | Программа для расчета МПД у референтных видов организмов, обитающих в водных и наземных экосистемах, на основе измеренной или смоделированной удельной активности радионуклидов в окружающей среде. Ключевыми параметрами модели являются отношение активности нуклидов в организме к активности в среде (CRwo-media), коэффициент распределения (Kd), т.е. отношение активности в отложениях к активности в воде, и DCC, т.е. МПД на единицу активности в организме или среде. При расчете дозы используется весовой коэффициент ОБЭ, равный 3 для 3H | |
FDMH (Tritium Food Chain and Dose Module) | Модуль в системе RODOS для оценки миграции 3H по пищевой цепи (HTO) и расчета дозовых нагрузок от загрязнения воздуха и осадков над сельскохозяйственными растениями. Учитывает почасовые метеорологические данные и суточные циклы | [117] |
Genmod-PC | Код позволяет провести внутреннюю дозиметрию от разных форм 3H и 14C у человека с учетом дозовых коэффициентов согласно биокинетическим и компартментным моделям на уровне организма | [55] |
Geant4 (GEometry ANd Tracking) | Комплексная модель на основе Geant4 для прогнозирования значений поглощенной фракции элементарных частиц и γ-фотонов в веществе сферической, эллипсоидной и цилиндрической геометрии с использованием методов Монте-Карло | [118] |
HCNO-S и HCNO-C | Физиологические и дозиметрические подходы к биохимической модели дозиметрии при поступлении OBT с пищей | |
NEWTRIT | Модель позволяет оценить все возможные пути формирования дозы от атмосферных выбросов 3H с учетом преобразования HT в HTO, а также HTO в OBT. Она учитывает соотношение 3H/H в каждом компоненте окружающей среды и процессы разбавления при переходе 3H по пищевым цепям | [120] |
PARTRAC | Биофизический код Монте-Карло, который позволяет моделировать треки электронов и фотонов с энергией 10 эВ–100 МэВ, а также треки протонов и более тяжелых ионов в нерелятивистском режиме. Мишенью является геном интерфазных клеток человека, структурированный на 6 уровнях организации ДНК (пара дезоксинуклеотидов, двойная спираль, нуклеосома, фибрилла хроматина, петли волокон хроматина и хромосомы) | [105] |
Penelope (PENetration and Energy LOss of Positrins and Electrons) | Код позволяет рассчитать МПД, которая зависит от геометрии клетки, линейной передачи энергии и спектра флюенса электронов при равномерном и гетерогенном распределении 3H в клетке, на мембране, цитоплазме или клеточном ядре | [121] |
* Предлагаемое нами оригинальное название модели.
Поскольку разнообразие форм и размеров организмов в природе очень велико, использование при расчете МПД для каждого типа организмов методов Монте-Карло является чрезмерно затратным. Это мотивировало группу исследователей создать модель, позволяющую рассчитывать поглощение энергии от инкорпорированных β-излучателей в животных различной геометрии при условии равномерного распределения изотопа [108]. Микродозиметрическое моделирование для 3H, однородно распределенного в среде в виде HTO и связанного с биологически важными молекулами в форме OBT размером от 10 нм до 2 мм, выявило, что средние линейные энергии дозы OBT примерно в 1.7 раза выше, чем HTO [122]. Образование двойных разрывов хромосом (DSB) может также значительно варьировать у разных биологических систем (плазмидная ДНК, дрожжи, культура клеток китайского хомячка, фибробласты человека) и клеточных сред даже в условиях равномерного распределения 3H [123].
Вторая проблема при оценке мощности поглощенной дозы на клеточном уровне связана с короткой длиной пробега β-частиц при распаде инкорпорированного 3Н по сравнению с размерами биологических мишеней. Это приводит к тому, что в периферически расположенных хромосомах DSB происходят чаще, чем в центральных молекулах [105]. В таких условиях повышается риск пере- или недооценки дозы, полученной ядром, и, следовательно, ожидаемых биологических эффектов. Поэтому нанодозиметрия является логическим продолжением микродозиметрии, позволяющей с помощью разработанных экспериментальных и численных методов охарактеризовать структуру трека частиц по распределению вероятности ионизационных кластеров в целевом объеме, которые по массе на единицу площади эквивалентны нанометрическому объему конденсированного вещества (небольшому участку ДНК) [124].
Наибольшие отклонения от общепринятой дозиметрии характерны для 3H, распределенного гетерогенно [105]. Показано, что для типичной клетки (радиус ≈10 мкм) и ядра (≈5 мкм) 3H, сконденсированный в ядре, создает более высокую ОБЭ-взвешенную МПД, чем 3H, распределенный в клетке равномерно. При этом равномерно распределенный в клетке 3H создает поглощенную дозу выше, чем 3H, равномерно распределенный в тканях [121]. Поэтому для гетерогенно распределенного 3H, представленного в разных формах и соединениях, необходимо использовать клеточные и микродозиметрические модели, позволяющие оценить дозы и ОБЭ для клеточного ядра [121, 125]. При этом объем ядра является определяющим фактором для расчета дозы клеточного ядра, в то время как его форма имеет второстепенное значение [106].
1.2. Организменный уровень
Растения могут поглощать HTO из почвы (корневой способ поступления) и влаги воздуха (аэральный способ через листья), а затем с помощью фотосинтеза [126, 127] превращают TFWT, содержащуюся в тканях, в обменные (eOBT) и необменные (neOBT) формы и соединения органически связанного трития. Однако до сих пор не совсем ясен путь передачи HTO из почвы к растению в динамике [128], нет четкого понимания связи между eOBT и neOBT [129], отмечается высокая изменчивость соотношения OBT/HTO от динамически меняющихся погодных условий [130], кислотности почвы, типа сельскохозяйственной культуры, генотипа, стадии развития растений, продолжительности, времени и условий воздействия [7, 112]. Эти и другие нерешенные вопросы увеличивают неопределенности при расчете и моделировании МПД от трития для референтных групп организмов, в том числе при оценке доз в пищевых цепях.
Немногочисленные расчеты МПД от трития в форме HTO для водных цветковых растений и водорослей были проведены на следующих основаниях: 1) удельной активности 3H в среде обитания и рассчитанного коэффициента дозового преобразования DCC (3.29×10–6 мкГр/ч на Бк/мл) [116] с допущениями, что 3H в организме находится в равновесии со средой обитания [131]; 2) мощности дозы общего 3H с учетом связанного с тканями 3H [73]; 3) времени воздействия, средней энергии распада β-излучения, удельной активности 3H в питьевой воде, расхода питьевой воды, коэффициента передачи в критическом органе, эффективного периода полураспада и массы тела при допущении, что 3H в организме распределен равномерно [72]. Для меченных тритием биохимических субстратов МПД рассчитана на основании количества распадов 3H, зафиксированных авторадиографической пленкой [68].
У всех групп животных 3H может попадать в организм при вдыхании, через кожу и проглатывании. Большая часть внешнего радиационного воздействия от 3H может быть заблокирована эпидермисом животных, поскольку максимальная дальность его излучения составляет около 5 мм в воздухе и 0.6 мкм в ткани [126]. В организм животных OBT поступает с пищей разного происхождения: 1) от первичных продуцентов (растения); 2) более высоких трофических уровней, консументов разного порядка [132]. Предполагается, что при попадании в организм животных 3H-тимидина тритий распределяется по органам и тканям равномерно [133]. Аналогичные данные приводятся и для других соединений трития [72]. Показано, что при пероральном поступлении наибольшее количество 3H-тимидина обнаруживается в мышцах (32.5%) и желудке (19.5%). Экскреция из организма 3H-тимидина происходит медленнее, чем HTO, что способствует формированию тканевой дозы за счет 3H-тимидина, в 28 раз превышающую дозу от HTO [133].
Расчеты МПД от разных форм и соединений 3Н у моллюсков, рыб и млекопитающих (см. табл. 2) выполнены с помощью следующих компьютерных программ: COOLER [110]; EDEN [113–116, 134–138], использующей DCC, равный 3.29×10–6 мкГр/ч на Бк/мл [139], с оценкой интернализации 3H [82–85, 134, 137, 140]; ERICA [26, 30, 134, 141–144]. Для всех программ и моделей в целом применимы допущения, указанные для молекулярно-клеточного уровня (см. рис. 2).
С более подробной информацией об опубликованных к настоящему времени исследованиях в области дозиметрии трития у разных референтных групп можно ознакомиться в Приложении. Отметим лишь, что в работе [30] проведено сравнение четырех способов расчета МПД от 3H для водных беспозвоночных: 1) преобразование активности 3Н, содержащегося в морской воде, в МПД с фиксированными параметрами; 2) использование для расчетов МПД только активности 3Н, содержащегося в морской воде; 3) использование расчетных концентраций 3Н всего организма (woTAC), включающих в себя активность 3Н в сухой массе и расчетную активность TFWT, содержащегося в морской воде; 4) использование измеренных woTAC, включающих в себя активность 3Н в сухой массе и расчетную активность TFWT, содержащегося в морской воде. Показано, что методы расчета 3 и 4 рекомендуются для радиоэкологических исследований, поскольку они дают значения для отдельных животных и не зависят от оценки коэффициентов накопления. Первый способ расчета может быть использован, если измеренные woTAC недоступны. Поскольку существуют технические сложности для точного измерения TFWT, авторы [30] рекомендуют в исследованиях водных беспозвоночных измерять концентрации woTAC в сырой массе и использовать эти данные для расчетов в ERICA.
1.3. Надорганизменные уровни
Оценка МПД от трития на уровне популяций, видов и их сообществ в настоящее время не разработана и полностью основана на дозиметрии молекулярно-клеточного и организменного уровней.
2. Основные направления исследования в области кинетики трития
В данном разделе представлен анализ исследований, посвященных кинетике 3H, т.е. закономерностям протекания метаболических реакций во времени, зависимости этих закономерностей от внешних и внутренних факторов, а также преобразовании в живых организмах неорганических соединений 3H в органические. Частично эти вопросы обсуждаются в первой части исследования [5]. Понимание закономерностей кинетики 3Н необходимо для дальнейших расчетов МПД с помощью компартментных биокинетических и воксельных моделей.
Результаты исследований в области кинетики трития представляют собой анализ экспериментальных данных на модельных объектах. Большинство работ проведено на клеточных культурах и лабораторных животных (см. Приложение). Гораздо меньше исследований растений: в качестве объектов чаще всего используются сельскохозяйственные виды из-за их коммерческого использования в качестве кормов для животных и пищи для человека. Единичные работы выполнены на бактериальных клетках. Так, в работе [145] на примере несерных пурпурных фотосинтезирующих бактерий Rhodopseudomonas spheroides, выращенных на среде с HTO (Ки/л), было обнаружено превышение коэффициента накопления 3Н в растущих клетках по сравнению с нерастущими. Значительное количество связанного 3Н накапливалось в виде neOBT в растущих клетках и eOBT в нерастущих. На примере Dunaliella salina было показано [126], что высокая концентрация микроводорослей снижает скорость фотосинтеза, что приводит к замедлению накопления OBT (Бк/кг).
У сельскохозяйственных растений (дайкон Raphanus sativus var. hortensis, капуста Brassica oleracea var. capitata, ежа Dactylis glomerata, рис Oryza sativa subsp. japonica, яблоня Malus domestica, редис Raphanus sativus var. sativus) продуктивность ОВТ была рассчитана согласно модели фотосинтеза, связанной с отношением С/Н [146]. Так, соотношение C/H уменьшалось в процессе культивирования и варьировало в пределах 7–6, при этом скорость снижения C/H у разных видов не совпадала. При исследовании поглощения разных форм и соединений трития (HT или HTO) тканями кукурузы, картофеля и райграса [147] было обнаружено, что инкорпорирование OBT (Бк/г) в листьях растений после обработки HTO было выше, чем после воздействия HT. Период полувыведения OBT из листьев составил 10 дней, однако потери 3H после воздействия HT были больше, чем после HTO. При этом стебли не только содержали изначально меньше 3H, чем листья, но и теряли его медленнее, особенно после воздействия HT. Поскольку при выращивании тимофеевки в условиях паров HDO были показаны [148] различия по содержанию OBT в побегах и стернях (нижняя остаточная часть стеблей), рекомендуется использовать два компартмента (верхняя и нижняя части побега) при оценке переноса OBT от тимофеевки к домашнему скоту. Отметим также, что HT проникал в более глубокие слои почвы быстрее, чем HTO, и превращался в HTO, доступную для растений [147].
Изотопное фракционирование водорода представляет собой серьезную проблему радиационной защиты [8]. Оно показывает, существует ли возможность его концентрирования в клетке, органе, организме или экосистеме. Более того, размеры и количество возможных источников водорода приводят к очень быстрому разбавлению 3H, поскольку организм обитает в открытой среде. Это разбавление увеличивается по всей пищевой цепи и, следовательно, компенсирует возможные эффекты фракционирования. Другой аспект кинетики, связанный с ассимиляцией 3H в тканях, описан в работе [149]. Если соотношение H/3H одинаково для TFWT и OBT, то употребление пищи растительного и животного происхождения, содержащей neOBT, может привести к увеличению МПД по сравнению с eOBT и TFWT из-за более длительного биологического полураспада neOBT, что способствует увеличению DCC у TFWT в 2 раза. Доза, обусловленная приемом внутрь OBT, может быть в 2 раза выше, чем сопоставимое потребление HTO [132, 150]. Отметим, что OBT в растениях и животных часто имеет более высокие удельные концентрации 3H, чем TFWT. Возможно, это связано не с эффектом обогащения 3H, а с невозможностью достичь равновесных условий в природной среде. Однако считается [151], что даже с учетом OBT радиационное воздействие 3H в среднем составляет менее 1×10–6 Зв/год, что соответствует менее 1% от облучения 40К.
Существующие в настоящее время биокинетические и дозиметрические модели МКРЗ по 3Н у разных групп животных модернизируются на основе современных биокинетических экспериментальных данных, особенно для новых химических форм 3H [4]. Биокинетические модели представляют собой набор компартментов (разные органы и ткани), различающихся скоростью накопления, распределения и клиренсом 3Н путем экскреции [152]. Компартменты связаны между собой путями переноса. Математически модель преобразуется в набор дифференциальных уравнений первого порядка, решение которых дает предсказанное моделью удержание и выделение радионуклидов [153]. Разработаны модели не только для HT, HTO и OBT, но и для материалов с низкой растворимостью. Сравнение дозиметрических и биокинетических разнокомпонентных (компартментных) моделей для OBT и HTO, а также дозовые коэффициенты подробно изложены в отчете НКДАР [4]. МКРЗ использует три основные биокинетические модели для оценки доз от соединений, содержащих тритий [154–158]:
- модель всасывания трития в кровь в виде HTO после приема внутрь или вдыхания, применяемая также к другим соединениям, меченным тритием, которые частично превращаются в HTO после попадания в организм;
- модель всасывания трития в кровь после приема OBT, в основном при приеме внутрь с пищей, но также применима к вдыханию неспецифических органических молекул, проглатыванию или вдыханию некоторых специфических тритиевых органических соединений;
- общая модель МКРЗ для дыхательных путей человека, определяющая значения параметров абсорбции при вдыхании малорастворимых форм и соединений трития.
Поскольку неопределенность при действии облучения на референтные организмы больше, чем при расчете дозы, некоторые исследователи не рекомендуют разрабатывать более реалистичную методологию расчета дозы. Однако из-за сложности морфологии, внутренней структуры и плотности организма МПД, рассчитанная с помощью однородной модели, может оказаться слишком упрощенной [34].
Описанные выше модели расчета доз не учитывают дифференцированного депонирования OBT и НТО по органам и тканям, в то время в работе [12] показано, что эффективная доза, обусловленная поступлением OBT, может в 2 раза и более превышать величину, спрогнозированную с помощью действующих моделей расчета дозы. Эти данные хорошо согласуются с результатами других исследований, использующих компартментные модели, биокинетика которых основана на окислении глюкозы, жирных кислот и аминокислот и образовании воды, углекислого газа и мочевины. Так, с помощью модели [119] были оценены размеры пула и скорость переносимого H в процессе биохимических реакций. Дозовый коэффициент для потребления HTO был примерно на 8% больше рекомендованного МКРЗ, а OBT – в 1.2 раза. Если принять во внимание состав отдельных органов, то дозовый коэффициент для приема HTO примерно на 22% больше, чем значение МКРЗ. Большая часть (более 90%) поступившего в организм OBT окисляется и выводится в виде HTO, что физиологически более точно, чем текущая модель OBT МКРЗ [54]. Кроме того, на примере камбалы Paralichthys olivaceus было показано [159], что на величину МПД при моделировании метаболизма дейтерия в мышцах, кроме элиминации OBD путем катаболизма, необходимо учитывать образование OBD из HDO и употребление в пищу корма с естественным содержанием OBD. Биологический период полувыведения OBD составил 133 дня, что больше периода полувыведения TFWT из мышц [159]. На крысах и овцах для быстрых и медленных компонентов мышц получены аллометрические зависимости периода полувыведения 3H, которые могут быть использованы при разработке биокинетических моделей [160]. Таким образом, неопределенности дозовых коэффициентов для HTO меньше, чем для OBT [58]. Поэтому общее представление, предлагаемое МКРЗ при оценке доз, может не в полной мере подходить для соединений трития в виде OBT, например содержащихся в рыбе.
Модели воксельного фантома имеют преимущество по сравнению с простыми геометрическими формами (сферической, эллипсоидной и цилиндрической) при использовании в дозиметрии модельных организмов [34]. В обеих моделях (геометрическая и воксельная) для расчета МПД обычно применяются методы Монте-Карло (см. табл. 2). Однако в воксельном моделировании используется трехмерная копия организма с точным составом ткани и распределением источников облучения. Эти характеристики повышают точность дозиметрии и могут уменьшить неопределенность при изучении последствий действия радиации у референтных видов растений и животных при попытке ответить на вопрос, где и как возникают радиобиологические эффекты на популяционном уровне.
3. Оценка наличия данных о мощности поглощенной дозы от трития у референтных видов растений и животных
В Приложении представлено обобщение данных 230 публикаций, в которых различные соединения трития и частично дейтерия выступают в качестве источника ионизирующего облучения для разных представителей водных и наземных экосистем (млекопитающие; птицы; земноводные; рыбы; насекомые; планктонные ракообразные; моллюски; кольчатые черви; деревья, травы, кустарники и сельскохозяйственные растения; макрофиты; водоросли харовые, зеленые, диатомовые, синезеленые, красные; мхи и лишайники; грибы; бактерии и вирусы) в ходе лабораторных и полевых экспериментов. Наибольшее число работ по дозиметрии 3H (рис. 3) представлено в группах млекопитающих (32.6%), травянистых дикорастущих, сельскохозяйственных растений (в том числе – овощных культур) и кустарников (18.8%), а также рыб (13.5%). Чрезвычайно мало данных по деревьям, мхам и лишайникам, бактериям, моллюскам, высшей водной растительности, водорослям. Полностью отсутствуют или встречаются единичные исследования по грибам, амфибиям, кольчатым червям, насекомым, ракообразным, птицам и вирусам. Ряд публикаций по тритию затрагивает определенные группы (моллюски, макрофиты, грибы, бактерии, вирусы), но такие референтные организмы не обозначены в 108-й публикации МКРЗ [31].
Рис. 3. Распределение исследований (%) по дозиметрии трития среди референтных групп организмов (исходный материал – 362 исследования). Данные о пресноводных (п) и морских (м) водорослях расположены на внутреннем и внешнем кольцах соответственно.
По типу исследований (табл. 3, рис. 4) публикации распределились следующим образом: у вирусов, бактерий, пресноводных водорослей, насекомых и птиц были обнаружены только лабораторные эксперименты, для амфибий – полевые исследования, а для мхов и лишайников – только их сочетание (см. рис. 4). У других референтных групп также доминировали лабораторные исследования (млекопитающие, грибы, макрофиты, рыбы, морские водоросли и кольчатые черви), полевые (деревья) или их сочетание (моллюски). В целом на долю лабораторных работ приходится 66.9% всех исследований по тритию, полевых – 11.9%, смешанных (полевые совместно с лабораторными) – 20.2% и моделирования – 1.1%.
Рис. 4. Распределение публикаций по типу исследований между референтными группами организмов (исходный материал – 362 эксперимента). Доли разных типов исследований (%) обозначены разными цветами. Данные о пресноводных (п) и морских (м) водорослях расположены на внутреннем и внешнем кольцах соответственно.
Таблица 3. Распределение публикаций среди разных типов исследований по наличию оценок МПД от трития у референтных видов растений и животных (приводится общее число, в скобках – число работ с МПД, отнесенное к общему числу публикаций, %)
Референтные виды | Всего | Тип исследования | |||
лабораторные | полевые | смешанные (полевые и лабораторные) | моделирование | ||
Вирусы | 1 | 1 (0%) | – | – | – |
Бактерии | 22 | 22 (27.3%) | – | – | – |
Грибы | 7 | 5 (71.4%) | – | 2 (0%) | – |
Мхи и лишайники | 14 | – | – | 14 (0%) | – |
Пресноводные водоросли | 8 | 8 (37.5%) | – | – | – |
Морские водоросли | 6 | 4 (16.7%) | – | 2 (0%) | – |
Макрофиты | 13 | 9 (7.7%) | 3 (15.4%) | 1 (0%) | – |
Травы | 68 | 27 (1.5%) | 11 (0%) | 30 (0%) | – |
Деревья | 21 | 4 (0%) | 12 (0%) | 5 (0%) | – |
Кольчатые черви | 8 | 6 (0%) | – | – | 2 (25%) |
Моллюски | 14 | – | 2 (7.1%) | 12 (78.6%) | – |
Ракообразные | 2 | 1 (50%) | 1 (0%) | – | – |
Насекомые | 2 | 2 (50%) | – | – | – |
Рыбы | 49 | 35 (42.9%) | 7 (12.2%) | 7 (8.2%) | – |
Амфибии | 7 | – | 7 (0%) | – | – |
Птицы | 2 | 2 (0%) | – | – | – |
Млекопитающие | 118 | 116 (77.1%) | – | – | 2 (0%) |
Итого | 362 | 242 (36.2%) | 43 (2.5%) | 73 (4.1%) | 4 (0.6%) |
Анализ распределения исследований по формам и соединениям трития (рис. 5) показал, что наиболее часто используемые из них – это HTO (48.5%). Для вирусов, водорослей, ракообразных, амфибий исследования были проведены только с тритиевой водой. Также она часто использовалась для бактерий (95.5%), макрофитов (84.6%), моллюсков (64.3%), рыб (63.3%) и млекопитающих (50.8%). В сходных долях были проведены исследования с меченными тритием газами и OBT (12.2–15.5%). Анализ данных по дозиметрии 3H в каждой референтной группе приведен ниже.
Рис. 5. Распределение исследований по формам и соединениям трития между референтными группами организмов (исходный материал – 361 исследование). Доли разных форм и соединений 3Н (%) обозначены разными цветами. Данные о пресноводных (п) и морских (м) водорослях расположены на внутреннем и внешнем кольцах соответственно.
3.1. Вирусы
В единственной работе, посвященной вирусам, методы оценки доз не описаны (см. табл. 3 и Приложение). Приводятся концентрации экспериментальных растворов (HTO), содержащих тритий [161].
3.2. Бактерии
Данная референтная группа представлена 21 лабораторным исследованием на 8 видах: Bacillus subtilis, Escherichia coli, Photobacterium leiognathi, Ph. phosphoreum, Rhodopseudomonas spheroids, Rickettsia akari, R. mooseri и Streptococcus bovis (см. табл. 3 и Приложение). В некоторых исследованиях указаны только названия родов Thiobacillus, Bacteroidetes vadin HA17, Sphingomonas, TRA3-20, CCM19a, Sva0081, Desulfatiglans, Gamma-proteobacteria, Alpha-proteobacteria [162]. В качестве источника трития в основном используется HTO, редко – 3H-тимидин. Только в 27.3% работ встречается упоминание об оценке дозовых нагрузок. Одна из работ посвящена распределению и кинетике обменных (летучий 3H) и необменных (входящий в состав нуклеиновых кислот 3H) форм и соединений трития в растущих и нерастущих клетках Rh. spheroids [145]. Единственное исследование на уровне бактериальных сообществ представлено в публикации [162].
3.3. Грибы
Лабораторные эксперименты с природными и лабораторными объектами были проведены на представителях агариковых грибов (Flammulina
velutipes (Curt:Fr.) Sing., Lentinus edodes (Burg.) Sing.) и сахаромицетов (Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C. Hansen 1883). В качестве источника трития в основном использовали меченные прекурсоры (3H-аланин, 5-3H-тимин, 5-3H-цитозин, 6-3H-тимин), реже – HT и HTO. Около 71% работ содержат сведения о методах и результатах расчета дозовых нагрузок (см. табл. 3 и Приложение). Исследование, выполненное на агариковых грибах [163], было посвящено процессам окисления HT до HTO.
3.4. Мхи и лишайники
Процессы окисления газообразного трития до HTO были также исследованы [163, 164] в ходе лабораторных экспериментов у 6 видов мхов (Glyphomitrium humillium (Mitt.) Card., Barbula unguiculata Hedw, Pogonatum inflexum (Lind.) Lac., Marchantia polymorpha L., Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe, Hypnum plumaeforme Wils.) и 3 видов лишайников (Parmelia tinctorum Nyl., Cladonia rangiferina (L.) Web., Cladia aggregata (Sw.) Nyl.). Для данной референтной группы полностью отсутствуют публикации, в которых приводятся оценки МПД от трития (см. табл. 3 и Приложение).
3.5. Водоросли
Референтная группа представлена морскими (Chaetoceros gracilis, Nitellopsis obtuse, Ulva prolifera) и пресноводными (Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella vulgaris, C. reinhardtii) водорослями. Иногда указаны только названия родов Leptolingbya sp., Synechococcus elongatus, Nostoc sp. и Anabaena sp. [162]. В качестве источника 3H во всех лабораторных экспериментах была использована HTO (см. табл. 3 и Приложение). Для морских водорослей только в 16.7% публикаций встречается упоминание об оценке дозовых нагрузок, а для пресноводных – в 37.5%. Отметим также, что на примере зеленой водоросли Ulva prolifera была создана модель переноса органически связанного дейтерия – OBD [165]. Значительное накопление ОВТ микроводорослями (коэффициентами обогащения 2.1–3.4) и влияние факторов окружающей среды на этот процесс показаны в исследовании [162]. В работе [126] оценено обогащение и органификация 3H водорослями Dunaliella salina и перенос ОВТ по морской пищевой цепи «водоросли – рыба» и далее к человеку.
3.6. Макрофиты
В группе высших водных растений лабораторные и полевые исследования были проведены с участием Hydrilla verticillata, Lemna minor, Pistia stratiotes, Spirodela polyrhiza, Ceratophyllum (вид не указан) и Vallisneria spiralis при использовании HTO. Дозовые нагрузки от трития были рассчитаны в 23.1% исследований (см. табл. 3 и Приложение).
3.7. Наземные растения (травы, кустарники, сельскохозяйственные растения)
В ходе лабораторных и полевых экспериментов исследованы следующие таксоны и группы растений:
- травы: Arundinaria pygmaea (Miq.) Mitford, Bambusa, Chenopodium album, Crepis capillaris, Dactylis glomerata, Eragrostis curvula (Schrad.) Nees, ferruginea (Thunb.) P. Beauv., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Houttuynia cordata, Ornithogalum virens Lindl., Phalaris arundinacea L., Phleum pratense L., Plantago asiatica L., Themeda triandra Forssk. subsp. japonica T. Koyama, Tradescantia palidosa, Tradescantia клон 02, Trifolium repens L., Zoysia japonica Steud.;
- сельскохозяйственные культуры: Allium cepa, Brassica oleracea var. capitata, B. rapa subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt, 1986, Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Glycine max, Hordeum vulgare L., Oryza sativa, Pisum sativum, Raphanus sativus L., Triticum aestivum, Vicia faba L., Zea mays;
- кустарники: Eurya japonica, Ilex pedunculosa Miq., Juniperus conferta Parlat., Lespedeza homoloba Nakai, Pieris japonica (Thunb.) D. Don, Rhododendron obtusum (Lind.) Planchon var. kaempferi (Planchon) Wilson, Smilax china L., Vaccinium oldhamii, V. smallii var. glabrum Koidz.;
- папоротники: Ceratopteris thalictroides, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Und., Struthiopteris niponica (Kunze) Nakai) и плауны (Lycopodium clavatum var. nipponicum Nakai).
В качестве источника трития использованы 3H-уридин, 3H-тимидин, HT, HTO, TFWT и TBT (см. табл. 3 и Приложение). Только для 1.5% экспериментов были рассчитаны или приведены дозовые нагрузки от 3H. В большинстве работ оценивали скорость окисления HT до HTO, накопление растениями меченных 3H молекул и использовали скорость синтеза OBT для изучения продуктивности сельскохозяйственных культур. В ряде исследований [148, 166, 167] применяли D2O для изучения образования органических соединений дейтерия (eOBD, neOBD), в том числе для верификации кинетических и компартментных моделей. Наряду с рыбами и млекопитающими это вторая по числу исследований референтная группа.
3.8. Наземные растения (деревья)
В этой референтной группе встречались лабораторные и полевые исследования представителей широколиственных (Alnus incana (L.) Moench, Malus domestica, Quercus laurifolia, Q. serrata Murray, Populus tremula L.) и хвойных (Pinus banksiana, P. palustris, P. strobus L., P. taeda, P. thunbergii Parl.) лесов (см. табл. 3 и Приложение). Доминировали работы, посвященные изучению процессов окисления газообразного трития до HTO. Чаще всего встречались исследования по изучению накопления хвоей сосны TFWT и OBT из атмосферной влаги [127, 168–170] или сравнение накопительной способности OBT и HTO хвои и древесины [171]. Однако МПД для референтной группы деревьев не были рассчитаны.
3.9. Кольчатые черви
Встречаются работы (см. табл. 3 и Приложение), в которых меченные тритием субстраты используются в качестве инструмента для изучения метаболической активности половых желез [172] или нервной системы [173], а также развития мозга у червей [174]. Единственная работа [144] посвящена прогностической оценке доз от жидких и аэрозольных выбросов 3H при эксплуатации двух реакторов ВВЭР-1200. Таким образом, только 25% исследований содержало сведения о дозах.
3.10. Моллюски
Референтная группа представлена преимущественно лабораторными исследованиями 5 видов животных (Mytilus edulis, M. galloprovincialis, Planorbis vortex, Pollicipes polymerus и Anisus vortex) с преобладанием HTO в качестве источника трития. Несколько работ были посвящены оценке дозовых нагрузок от 3H-глицина. В большинстве экспериментов (85.7%) были рассчитаны или приведены дозовые нагрузки от трития (см. табл. 3 и Приложение).
3.11. Ракообразные
Раздел представлен двумя лабораторными и полевыми исследованиями с участием Artemia salina [73] и Daphnia magna Str. [175]. Методы оценки доз от HTO описаны только в одной из работ (см. табл. 3 и Приложение).
3.12. Насекомые
Аналогичное немногочисленное наполнение (2 работы) касается и этой референтной группы. Данные были получены в ходе лабораторных экспериментов с Chironomus riparius и Drosophila melanogaster. В первом случае в качестве источника 3H применяли HTO [176], а во втором – 3H-тимидин [177]. Методы оценки доз описаны только в одном исследовании (см. табл. 3 и Приложение).
3.13. Рыбы
Наряду с наземными растениями и животными это третья по числу исследований референтная группа. Накоплены данные по 13 модельным видам рыб (Carassius gibelio, Catostomus commersonii, Coregonus clupeaformis, Cyprinus carpio, Danio rerio, Esox lucius, Fugu niphobles, Ictalurus punctatus, Oncorhynchus mykiss, Oryzias latipes, Paralichthys olivaceus, Pimephales promelas, Salmo gairdneri), полученных преимущественно в ходе лабораторных экспериментов. В качестве источника трития в 65% случаев была использована HTO, реже – OBT и TFWT (см. табл. 3 и Приложение). В сходном числе экспериментов (63%) были рассчитаны дозовые нагрузки. В ряде работ проводится сопоставление данных лабораторных и полевых исследований [136], обобщены данные по дозовым коэффициентам при проглатывании OBT рыбой [58] и дозовым нагрузкам от трития для разных видов водной фауны [80].
3.14. Земноводные
В этой референтной группе в качестве объектов полевых исследований участвовали 4 вида лягушек (Lithobates catesbeiana, Rana catesbeiana, R. pipiens, R. septentrionalis). В качестве источника трития использована HTO. Методы оценки доз и сами дозовые нагрузки в работах не представлены (см. табл. 3 и Приложение). Отметим, что это исследования одного научного коллектива [178–181].
3.15. Птицы
В единичных работах, посвященных птицам и выполненных в лабораторных условиях на куриных эмбрионах [65, 182], методы оценки доз не описаны (см. табл. 3 и Приложение). В качестве источника трития использован 3H-тимидин. Отметим, что в работе [65] меченные тритием прекурсоры использовались как метод датирования времени возникновения нейронов.
3.16. Млекопитающие
В самой многочисленной по числу исследований референтной группе лабораторные эксперименты были проведены на клетках лимфоидной лейкемии L5178Y мышей; на клетках китайского хомячка, несущих Х-хромосому человека; на крысах, мышах, лошадях, обезьянах-крабоедах и овцах. Источником 3Н служили меченные аминокислоты (аланин, аргинин, валин, гистидин, глутамин, лейцин, лизин, триптофан, фенилаланин), углеводы (глюкоза), прекурсоры нуклеиновых кислот (уридин, тимидин), 3H-DFP, 3H-стальные частицы, HT, HTO, OBT, в том числе лиофилизированное кроличье мясо и кресс-салат, содержащие 3Н и др. (см. табл. 3 и Приложение). Преобладали исследования с источником трития в виде HTO, OBT и 3H-тимидина. В 77.1% экспериментов содержались сведения об оценке МПД.
4. Установление трендов и пробелов
В настоящее время научными коллективами накоплены данные о кинетике и метаболизме 3H у флоры и фауны, разработаны подходы для оценки дозовых нагрузок на клеточном и организменном уровнях. На уровне организма это утверждение в первую очередь справедливо для эталонных групп моллюсков, млекопитающих
и рыб. Исследования дикорастущих трав и сельскохозяйственных растений, хотя и представительны, однако чаще всего направлены на изучение миграции изотопа по пищевым цепям для оценки доз у человека. При моделировании доз на уровне клеток большинство исследователей допускает гомогенное распределение разных форм и соединений 3H (HTO и OBT), понимая, однако, что вероятность его неоднородной дисперсии между ядром и цитоплазмой клетки крайне высока. Это особенно важно учитывать, когда речь идет об органических и неорганических соединениях трития.
Такие нерешенные вопросы повышают степень неопределенности и вероятность получения смещенных оценок при расчете дозовых нагрузок как на уровне клетки, так и на уровне целостного организма. При переходе на более высокие уровни организации (популяции, виды и их сообщества) неопределенность и степень недооценки дозы возрастают еще больше. Разработка подходов к дозиметрии трития на уровне сообществ организмов довольно сложна и в настоящее время полностью не проработана, поскольку затрагивает сложные многоуровневые биологические системы, требующие учета множества факторов. В этом отношении использование биокинетических и воксельных моделей может способствовать повышению точности дозиметрии и снижению неопределенности на всех уровнях биологической организации.
Открытым остается также вопрос об использовании большого числа таксонов в радиоэкологических и радиобиологических исследованиях, в том числе трития. Анализ 230 публикаций, включающих 362 исследования (см. Приложение), показал, что больше половины работ (56.6%), опубликованных по референтным видам растений и животных, не содержали сведения о методах оценки доз от 3H и значения конкретных величин МПД. При отсутствии дозиметрических оценок эффекты приходится рассматривать не в радиобиологических (доза–эффект), а в экотоксикологических (концентрация поллютанта–эффект) терминах. Такие оценки не сопоставимы между собой и представляются не совсем корректными, поскольку не в полной мере отражают степень воздействия 3H на живые организмы и полноту оценок радиобиологических эффектов. Поэтому на данном этапе даже использование упрощенных подходов для представителей референтных групп растений и животных (простая геометрия тела с однородным составом и плотностью, равномерное распределение в организме разных соединений инкорпорированного 3H) может быть оправданным. Дальнейшее развитие дозиметрии эталонных видов предполагает учет особенностей их морфологии, гетерогенности внутренней структуры, плотности организма и других параметров.
5. Выводы, ограничения и перспективы на будущее
Учитывая высокую миграционную способность трития, его способность включаться в обменные процессы в биосфере и наличие разных физических форм и химических соединений, современные представления о дозиметрии 3H на разных уровнях биологической организации не вполне однозначны. Поскольку поступление, метаболизм и распределение 3H в субклеточных структурах, клетках, тканях и организмах является сложным и многоступенчатым процессом, зависящим от неоднородности распределения HTO и OBT в экологических и биологических системах, остаются полностью нерешенными следующие проблемы:
- Необходимо свести к минимуму использование в радиобиологических исследованиях исключительно токсикологического подхода вместо оценок поглощенной дозы представителями эталонных видов флоры и фауны. Это не только будет способствовать адекватной оценке дозовых нагрузок эталонных организмов, но и приведет к общему знаменателю опубликованные к настоящему времени данные, в том числе для дальнейшего мета-анализа.
- В моделях переноса 3H в окружающей среде целесообразно пересмотреть некоторые параметры накопления и их значения, поскольку смоделированные оценки накопления OBT разными референтными видами демонстрируют большую изменчивость и представляются весьма консервативными. Это будет способствовать более точным оценкам дозовых нагрузок у биоты.
- Отмечается фрагментарность или отсутствие данных по ряду таксонов, к которым могла быть применена дозиметрия 3H, и неравномерность охвата разных эталонных групп, участвующих в радиоэкологических и радиобиологических исследованиях.
- Дозиметрию 3H у референтных организмов следует проводить с учетом дифференцированного депонирования НТО и OBT на уровне органелл, клеток, тканей и органов. Это будет способствовать снижению уровня неопределенности при оценке доз и последствий хронического воздействия 3H, в том числе в условиях действия малых доз.
- Целесообразно обеспечить более тесное взаимодействие между лабораторными и полевыми исследованиями в радиоэкологии и радиобиологии 3H. Полевые данные необходимы для расчета реальных сценариев облучения и изучения сочетанного влияния разных экологических факторов на природные популяции. В то же время результаты лабораторных экспериментов необходимо подтверждать наблюдениями в природе и моделированием.
- Смещение фокуса внимания в исследованиях с организменного уровня на популяционный для совершенствования системы принятия решений в области дозиметрии 3H и оценки радиобиологических эффектов.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН (№122021000077-6). Автор благодарит канд. физ.-мат. наук К.Л. Антонова и канд. физ.-мат. наук А.А. Екидина (ИПЭ УрО РАН) за живую дискуссию, ценные замечания и рекомендации, которые существенно улучшили статью.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ.
В данной работе отсутствуют исследования человека или животных.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Автор данной работы заявляет, что у него нет конфликта интересов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дополнительные материалы доступны по ссылке https://doi.org/10.1134/S1067413624602501.
About the authors
E. V. Antonova
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: selena@ipae.uran.ru
Russian Federation, 620144, Ekaterinburg
References
- Eyrolle F., Ducros L., Le Dizès S. et al. An updated review on tritium in the environment // J. of Environ. Radioact. 2018. V. 181. P. 128–137.
- Okada S., Momoshima N. Overview of tritium: characteristics, sources, and problems // Health Physics. 1993. V. 65. № 6. P. 595–609.
- Ferreira M.F., Turner A., Vernon E.L. et al. Tritium: its relevance, sources and impacts on non-human biota // Science of the Total Environ. 2023. V. 876. Art. 162816.
- Sources, effects and risks of ionizing radiation. Report 2016 with scientific annexes A, B, C and D. N.Y.: UNSCEAR, 2017. 516 p.
- Antonova E.V., Antonov K.L., Vasyanovich M.E. et al. Tritium from molecule to biosphere. 1. Patterns of behavior in the environment // Russ. J. of Ecology. 2022. V. 53. № 4. P. 253–284.
- Kim S.B., Baglan N., Davis P.A. Current understanding of organically bound tritium (OBT) in the environment // J. of Environ. Radioact. 2013. V. 126. P. 83–91.
- Galeriu D., Melintescu A., Strack S. et al. An overview of organically bound tritium experiments in plants following a short atmospheric HTO exposure // J. of Environ. Radioact. 2013. V. 118. P. 40–56.
- Le Goff P., Fromm M., Vichot L. et al. Isotopic fractionation of tritium in biological systems // Environment International. 2014. V. 65. P. 116–126.
- Investigation of the environmental fate of tritium in the atmosphere. Part of the Tritium Studies Project. Ottawa: CNSC, 2009. 104 p.
- Guéguen Y., Priest N.D., Dublineau I. et al. In vivo animal studies help achieve international consensus on standards and guidelines for health risk estimates for chronic exposure to low levels of tritium in drinking water // Environ. and Molecular Mutagenesis. 2018. V. 59. № 7. P. 586–594.
- Standards and guidelines for tritium in drinking water (INFO-0766). Ottawa: CNSC, 2014.
- Кочетков О.А., Монастырская С.Г., Кабанов Д.И. Проблемы нормирования техногенного трития (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9. № 4. С. 815–818.
- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.6.1.2523-09). М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 100 с.
- Brooks A.L., Couch L.A., Chad S.A. Commentary: what is the health risk of 740 bq l−1 of tritium? a perspective // Health Physics. 2013. V. 104. № 1. P. 108–114.
- ICRP Publication 26: Recommendations of the International Commission on Radiological Protection / Ann. ICRP. 1977. V. 1. № 3. 88 p.
- ICRP Publication 60: Recommendations of the International Commission on Radiological Protection // Ann. ICRP. 1991. V. 21. № 1-3. 211 p.
- ICRP Publication 92: Relative biological effectiveness (RBE), quality factor (Q), and radiation weighting factor (WR) // Ann. ICRP. 2003. V. 33. № 4. 117 p.
- Transfer of tritium in the environment after accidental releases from nuclear facilities. Vienna: IAEA, 2014. 283 p.
- Howard B.J., Telleria D., Proehl G. Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer to wildlife. Vienna: IAEA, 2014. 228 p.
- Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments. Technical reports. Series № 472. Vienna: IAEA, 2010. 208 p.
- ICRP Publication 114: Environmental protection: transfer parameters for reference animals and plants // Ann. ICRP. 2009. V. 39. № 6. 115 p.
- Ewers L.W., Ham G.J., Wilkins B.T. Review of the transfer of naturally occurring radionuclides to terrestrial plants and domestic animals. Chilton: National Radiological Protection Board, 2003. 64 p.
- Mills W.B., Cheng J.J., Droppo Jr. J.G. et al. Multimedia benchmarking analysis for three risk assessment models: RESRAD, MMSOILS, and MEPAS // Risk Analysis. 1997. V. 17. № 2. P. 187–201.
- Yu C. Modeling radionuclide transport in the environment and assessing risks to humans, flora, and fauna: the RESRAD family of codes // Applied Modeling and Computations in Nuclear Science. American Chemical Society, 2006. P. 58–70.
- Beresford N., Brown J., Copplestone D. et al. D-ERICA: An integrated approach to the assessment and management of environmental risks from ionising radiation // European Commission under the Euratom Research, Nuclear Energy within the Sixth Framework Programme, 2007.
- Brown J.E., Alfonso B., Avila R. et al. The ERICA tool // J. Environ Radioact. 2008. V. 99. № 9. P. 1371−1383.
- Copplestone D., Hingston J., Real A. The development and purpose of the FREDERICA radiation effects database // J. of Environ. Radioact. 2008. V. 99. № 9. P. 1456–1463.
- Garnier-Laplace J., Copplestone D., Gilbin R. et al. Issues and practices in the use of effects data from FREDERICA in the ERICA integrated approach // J. of Environ. Radioact. 2008. V. 99. № 9. P. 1474–1483.
- Brown J.E., Alfonso B., Avila R. et al. A new version of the ERICA tool to facilitate impact assessments of radioactivity on wild plants and animals // J. of Environ. Radioact. 2016. V. 153. P. 141–148.
- Dallas L.J., Devos A., Fievet B. et al. Radiation dose estimation for marine mussels following exposure to tritium: Best practice for use of the ERICA tool in ecotoxicological studies // J. of Environ. Radioact. 2016. V. 155–156. P. 1–6.
- ICRP Publication 108: Environmental protection − the concept and use of reference animals and plants // Ann. ICRP. 2008. V. 38. № 4–6. 247 p.
- Ulanovsky A., Prohl G. Dosimetry for reference animals and plants: current state and prospects // Ann. ICRP. 2012. V. 41. № 3–4. P. 218–232.
- Antonova E.V., Pozolotina V.N. Investigation of biological-rhythm patterns: physiological and biochemical effects in herbaceous plants exposed to low-level chronic radiation. Part 1: Nonirradiated seeds // Int. J. of Rad. Biology. 2024. V. 100. № 7. P. 1051–1071.
- Higley K., Ruedig E., Gomez-Fernandez M. et al. Creation and application of voxelised dosimetric models, and a comparison with the current methodology as used for the International Commission on Radiological Protection’s reference animals and plants // Ann. ICRP. 2015. V. 44. № 1_suppl. P. 313–330.
- Charrasse B., Anderson A., Mora J.C. et al. Does the use of reference organisms in radiological impact assessments provide adequate protection of all the species within an environment? // Science of the Total Environ. 2019. V. 658. P. 189–198.
- Шевченко В.А. О перестройках хромосом, индуцированных 3Н-тимидином у Crepis capillaris // Генетика. 1971. T. 7. № 5. C. 15–22.
- Тимофеев-Ресовский Н.В. Некоторые проблемы радиационной биогеоценологии: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. Свердловск, 1962. 46 c.
- Bradshaw C., Kapustka L., Barnthouse L. et al. Using an ecosystem approach to complement protection schemes based on organism-level endpoints // J. of Environ. Radioact. 2014. V. 136. P. 98–104.
- Horemans N., GiIbin R., Beresford N. Effects on ecosystems at Chernobyl and Fukushima: remaining controversies and future research challenges // Lecture in: 5th Intern. Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity, Oslo, Norway, 4-9 September, 2022.
- Brechignac F., Doi M. Challenging the current strategy of radiological protection of the environment: arguments for an ecosystem approach // J. of Environ. Radioact. 2009. V. 100. № 12. P. 1125–1134.
- Bréchignac F. The need to integrate laboratory- and ecosystem-level research for assessment of the ecological impact of radiation // Integr. Environ. Assess. Manag. 2016. V. 12. № 4. P. 673–676.
- Bréchignac F., Oughton D., Mays C. et al. Addressing ecological effects of radiation on populations and ecosystems to improve protection of the environment against radiation: agreed statements from a consensus symposium // J. of Environ. Radioact. 2016. V. 158–159. Supplement C. P. 21–29.
- Garnier-Laplace J., Della-Vedova C., Andersson P. et al. A multi-criteria weight of evidence approach for deriving ecological benchmarks for radioactive substances // J. of Radiol. Protection. 2010. V. 30. № 2. P. 215–233.
- Ofotsu P.M., Katayama K. A mini review of organically bound tritium in the environment // Proc. of International Exchange and Innovation Conference on Engineering & Sciences (IEICES). 2022. V. 8. P. 330–334.
- Vold E.L. A brief review of environmental transport of tritium at the Los Alamos LLRW disposal facility. Report LA-UR-94-3685, 1994. 15 p.
- Nie B., Fang S., Jiang M. et al. Anthropogenic tritium: inventory, discharge, environ. behavior and health effects // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021. V. 135. Art. 110188.
- Cline J. Absorption and metabolism of tritium oxide and tritium gas by bean plants // Plant Physiology. 1953. V. 28. № 4. P. 717–723.
- Strand J.A., Templeton W.L., Tangen E.G. Accumulation and retention of tritium (tritiated water) in embryonic and larval fish, and radiation effect // 3rd Int. Symp. of Radioecology. Oak Ridge: U.S. AEC, 1971. 23 p.
- Strack S., Kistner G. Biokinetic aspects of tissue-bound tritium in algae // Current Topics in Radiation Research Quarterly. 1978. V. 12. № 1–4. P. 133–141.
- Patrick P. Tritium uptake kinetics in crayfish (Orconectes immunis). Report No 85-133-K. Ontario, 1985. 31 p.
- Takeda H., Lu H.M., Miyamoto K. et al. Comparative biokinetics of tritium in rats during continuous ingestion of tritiated water and tritium-labeled food // Int. J. of Radiation Biology. 2001. V. 77. № 3. P. 375–381.
- Hill R.L., Johnson J.R. Metabolism and dosimetry of tritium // Health Physics. 1993. V. 65. № 6. P. 628–647.
- Priest N.D., Blimkie M.S.J., Wyatt H. et al. Tritium (3H) retention in mice: administered as HTO, DTO or as 3H-labeled amino-acids // Health Physics. 2017. V. 112. № 5. P. 439–444.
- Richardson R., Dunford D. A biochemical-based model for the dosimetry of dietary organically bound tritium – part 2: dosimetric evaluation // Health Physics. 2003. V. 85. № 5. P. 539–552.
- Richardson R.B., Dunford D.W. Review of the ICRP tritium and 14C internal dosimetry models and their implementation in the Genmod-PC code // Health Physics. 2001. V. 81. № 3. P. 289–301.
- Whillians D.W. Structure of a physiologically based biokinetic model for use in 14C and organically bound tritium dosimetry // Radiation Protection Dosimetry. 2003. V. 105. № 1–4. P. 189–192.
- Cox R., Menzel H.-G., Preston J. Internal dosimetry and tritium – the ICRP position // J. of Radiol. Protection. 2008. V. 28. № 2. P. 131.
- Harrison J. Doses and risks from tritiated water and environmental organically bound tritium // J. of Radiol. Protection. 2009. V. 29. № 3. P. 335–349.
- Silini G., Metalli P., Vulpis G. Radiotoxicity of tritium in mammals. Luxembourg: Commission of the European Communities, 1971. 36 p.
- Семенов А.А., Заикин С.П., Филимонова Н.В. и др. Разработка составов цементобетонных смесей с использованием суперпластификаторов класса поликарбоксилатов для иммобилизации трития // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы. 2017. T. 4. № 91. C. 95–122.
- Sun J., Lucas M.C., Madigan D.J. Complex fish migrations call for Fukushima radioactivity monitoring beyond marine systems // BioScience. 2024. V. 74. № 4. P. 230–231.
- Falagas M.E., Pitsouni E.I., Malietzis G.A. et al. Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses // The FASEB J. 2008. V. 22. № 2. P. 338–342.
- Turland N.J., Wiersema J.H., Barrie F.R. et al. International code of nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017: Koeltz botanical books, 2018.
- Lajtha L.G., Oliver R. The application of autoradiography in the study of nucleic acid metabolism // Laboratory Investigation. 1959. V. 8. № 1. P. 214–222.
- Yurkewicz L., Lauder J.M., Marchi M. et al. 3H-thymidine long survival autoradiography as a method for dating the time of neuronal origin in the chick embryo: The locus coeruleus and cerebellar Purkinje cells // J. of Comparative Neurology. 1981. V. 203. № 2. P. 257–267.
- Ermak T.H. Renewal of the gonads in Styela clava (Urochordata: Ascidiacea) as revealed by autoradiography with tritiated thymidine // Tissue and Cell. 1976. V. 8. № 3. P. 471–478.
- Taylor J.H., Woods P.S., Hughes W.L. The organization and duplication of chromosomes as revealed by autoradiographic studies using tritium-labeled thymidinee // Proc. Nat. Acad. Sci. 1957. V. 43. № 1. P. 122–128.
- Wimber D.E. Chromosome breakage produced by tritium-labeled thymidine in Tradescantia paludosa // Proc. Nat. Acad. Sci. 1959. V. 45. № 6. P. 839–846.
- Robertson J.S., Hughes W.L. Intranuclear irradiation with tritium-labeled thymidine // Proc. of the First National Biophysics Conference / Eds. Quastler H., Morowitz H. J. New Haven: Yale University Press, 1959. P. 278–283.
- Cronkite E.P., Fliedner T.M., Killmann S.A. et al. Tritium-labelled thymidine (H3TDR): its somatic toxicity and use in the study of growth rates and potentials in normal and malignant tissue of man and animals // Symp. on the Detection and Use of Tritium in the Physical and Biological Sciences. Vienna: IAEA, 1962. P. 189–209.
- Hine G.J., Brownell G.L. Radiation dosimetry. N.Y.: Academic Press, 1956. 932 p.
- Synzynys B.I., Momot O.A., Mirzeabasov O.A. et al. Radiological problems of tritium // KnE Engineering. 2018. V. 3. № 3. P. 249–260.
- Komatsu K., Higuchi M., Sakka M. Accumulation of tritium in aquatic organisms through a food chain with three trophic levels // J. of Radiation Research. 1981. V. 22. № 2. P. 226–241.
- Dobson R.L., Kwan T.C. The RBE of tritium radiation measured in mouse oocytes: increase at low exposure levels // Radiation Research. 1976. V. 66. № 3. P. 615–625.
- Dobson R.L., Cooper M.F. Tritium toxicity: effect of low-level 3HOH exposure on developing female germ cells in the mouse // Radiation Research. 1974. V. 58. № 1. P. 91–100.
- Wood T.H., Rosenberg A.M. Freezing in yeast cells // Biochimica et Biophysica Acta. 1957. V. 25. P. 78–87.
- Yamaguchi T., Muraiso C., Furuno-Fukushi I. et al. Water content in cultured mammalian cells for dosimetry of beta-rays from tritiated water // J. of Radiation Research. 1990. V. 31. № 4. P. 333–339.
- Беловодский Л.Ф., Гаевой В.К., Гришмановский В.И. Тритий. М.: Энергоатомиздат, 1985. 248 с.
- Королев В.Г., Иванов Е.Л., Грачева Л.М. Изучение молекулярной природы мутаций в гене ade2 у дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Сообщ. I. Общая схема и анализ неполярно комплементирующих мутаций // Генетика. 1980. Т. 16. № 2. С. 230–238.
- Adam-Guillermin C., Pereira S., Della-Vedova C. et al. Genotoxic and reprotoxic effects of tritium and external gamma irradiation on aquatic animals // Rev. Environ. Contam. Toxicology / Ed. Whitacre D.M. N.Y.: Springer, 2012. P. 67–103.
- Ichikawa R., Suyama I. Effects of tritiated water on the embryonic development of two marine teleosts // Bul. of the Jap. Soc. of Sci Fish. 1974. V. 40. № 8. P. 819–824.
- Hagger J.A., Atienzar F.A., Jha A.N. Genotoxic, cytotoxic, developmental and survival effects of tritiated water in the early life stages of the marine mollusc, Mytilus edulis // Aquatic Toxicology. 2005. V. 74. № 3. P. 205–217.
- Jaeschke B.C., Millward G.E., Moody A.J. et al. Tissue-specific incorporation and genotoxicity of different forms of tritium in the marine mussel, Mytilus edulis // Environ. Pollution. 2011. V. 159. № 1. P. 274–280.
- Jha A.N., Dogra Y., Turner A. et al. Impact of low doses of tritium on the marine mussel, Mytilus edulis: Genotoxic effects and tissue-specific bioconcentration // Mutation Research/Genetic Toxicology and Environ. Mutagenesis. 2005. V. 586. № 1. P. 47–57.
- Jha A.N., Dogra Y., Turner A. et al. Are low doses of tritium genotoxic to Mytilus edulis? // Marine Environ. Research. 2006. V. 62. P. S297–S300.
- Etoh H., Hyodo-Taguchi Y. Effects of tritiated water on germ cells in medaka embryos // Radiation Research. 1983. V. 93. № 2. P. 332–339.
- Hyodo-Taguchi Y., Etoh H. Effects of tritiated water on the testicular stem cells in medaka. I. Diminished reproductive capacity at 2 months following exposure [Oryzias latipes]. Chiba: Nat. Inst. Radiol. Sciences, 1986. P. 35–36.
- Hyodo-Taguchi Y., Etoh H. Vertebral malformations in medaka (teleost fish) after exposure to tritiated water in the embryonic stage // Radiation Research. 1993. V. 135. № 3. P. 400–404.
- Ueno A.M. Incorporation of tritium from tritiated water into nucleic acids of Oryzias latipes eggs // Radiation Research. 1974. V. 59. № 3. P. 629–637.
- Hyodo-Taguchi Y., Egami N. Damage to spermatogenic cells in fish kept in tritiated water // Radiation Research. 1977. V. 71. № 3. P. 641–652.
- Selivanova M.A., Mogilnaya O.A., Badun G.A. et al. Effect of tritium on luminous marine bacteria and enzyme reactions // J. of Environ. Radioact. 2013. V. 120. P. 19–25.
- Ijiri K. Cell death (apoptosis) in mouse intestine after continuous irradiation with γ-rays and with β-rays from tritiated water // Radiation Research. 1989. V. 118. № 1. P. 180–191.
- Русинова Г.Г., Мушкачева Г.С., Турдакова В.А. и др. Сравнение биологического действия окиси трития и гамма-облучения по изменению массы вилочковой железы крыс // Радиобиология. 1989. T. 29. № 6. C. 798–803.
- Carsten A.L., Commerford S.L., Cronkite E.P. The genetic and late somatic effects of chronic tritium ingestion in mice // Current Topics in Radiation Research Quarterly. 1978. V. 12. № 1–4. P. 212–224.
- Carsten A.L., Cronkite E.P. Comparison of late effects of single x-ray exposure, chronic tritiated water ingestion, and chronic 137Cs gamma exposure in mice // Int. Symp. on Biological Implications of Radionuclides Released from Nuclear Industries. Vienna: IAEA, 1979. P. 1–12.
- Takeda H., Kasida Y. Biological behavior of tritium after administration of tritiated water in the rat // J. of Radiation Research. 1979. V. 20. № 2. P. 174–185.
- ICRP Publication 10: Evaluation of radiation doses to body tissues: from internal contamination due to occupational exposure. Oxford: Pergamon Press, 1968. 26 p.
- Cahill D.F., Yuile C.L. Tritium: some effects of continuous exposure in utero on mammalian development // Radiation Research. 1970. V. 44. № 3. P. 727–737.
- Umata T., Kunugita N., Norimura T. A comparison of the mutagenic and apoptotic effects of tritiated water and acute or chronic 137Cs gamma exposure on spleen T-lymphocytes on normal and p53-deficient mice // Int. J. of Radiation Biology. 2009. V. 85. № 12. P. 1082–1088.
- Obodovskiy I. Fundamentals of radiation and chemical safety. Amsterdam: Elsevier, 2015. 250 p.
- Rossi H.H. The role of microdosimetry in radiobiology // Radiation and Environ. Biophysics. 1979. V. 17. № 1. P. 29–40.
- Иванов В.И., Лысцов В.Н., Губин А.Т. Справочное руководство по микродозиметрии. М.: Энергоатомиздат, 1986. 184 с.
- Berger M.J. Beta-ray dose in tissue-equivalent material immersed in a radioactive cloud // Health Physics. 1974. V. 26. № 1. P. 1–12.
- Bannister L., Serran M., Bertrand L. et al. Environmentally relevant chronic low-dose tritium and gamma exposures do not increase somatic intrachromosomal recombination in pKZ1 mouse spleen // Radiation Research. 2016. V. 186. № 6. P. 539–548.
- Alloni D., Cutaia C., Mariotti L. et al. Modeling dose deposition and DNA damage due to low-energy β-emitters // Radiation Research. 2014. V. 182. № 3. P. 322–330.
- Роднева С.М., Гурьев Д.В. Дозиметрия трития на клеточном уровне // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2023. T. 68. № 1. C. 92–100.
- Vaziri B., Wu H., Dhawan A.P. et al. MIRD pamphlet No. 25: MIRDcell v.2.0 software tool for dosimetric analysis of biologic response of multicellular populations // J. of Nuclear Medicine. 2014. V. 55. № 9. P. 1557–1564.
- Сазыкина Т.Г., Крышев А.И. Модель расчета поглощения энергии от инкорпорированных излучателей моноэнергетических электронов в объектах природной биоты // Радиация и риск. 2021. Т. 30. № 2. С. 113–122.
- Siragusa M., Fredericia P.M., Jensen M. et al. Radiobiological effects of tritiated water short-term exposure on V79 clonogenic cell survival // Int. J. of Radiation Biology. 2018. V. 94. № 2. P. 157–165.
- Siragusa M., Baiocco G., Fredericia P.M. et al. The COOLER code: a novel analytical approach to calculate subcellular energy deposition by internal electron emitters // Radiation Research. 2017. V. 188. № 2. P. 204–220.
- Melintescu A. Radiological impact assessment of acute tritium releases in environment – a soil dynamic model // Fusion Science and Technology. 2024. V. 80. № 3–4. P. 266–275.
- Galeriu D., Melintescu A., Lazar C. Development of CROPTRIT model: the dynamics of tritium in agricultural crops // Intern. Conf. on Radioec. and Environ. Radioact. Barcelona, Spain, 2014. OP-043.
- Beaugelin-Seiller K., Jasserand F., Garnier-Laplace J. et al. Modeling radiological dose in non-human species: principles, computerization, and application // Health Physics. 2006. V. 90. № 5. P. 485–493.
- Gagnaire B., Adam-Guillermin C., Festarini A. et al. Effects of in situ exposure to tritiated natural environments: a multi-biomarker approach using the fathead minnow, Pimephales promelas // Science of the Total Environ. 2017. V. 599–600. P. 597–611.
- Beaugelin-Seiller K., Jasserand F., Garnier-Laplace J. et al. EDEN: software to calculate the dose rate of energy for the non-human biota, due to the presence of radionuclides in the environment // WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2004. V. 69. 10 p.
- Réty C., Gilbin R., Gomez E. Induction of reactive oxygen species and algal growth inhibition by tritiated water with or without copper // Environ. Toxicology. 2012. V. 27. № 3. P. 155–165.
- Galeriu D., Turcanu C., Melintescu A. User guide for the tritium food chain and dose module FDMH of RODOS-PV4.0F_02. Bucharest: National Institute for Nuclear Physics and Engineering, 2001. 43 p.
- Rahman Z., Rehman S.U., Mirza S.M. et al. Geant4-based comprehensive study of the absorbed fraction for electrons and gamma-photons using various geometrical models and biological tissues // Nuclear Technology and Radiation Protection. 2013. V. 28. № 4. P. 341–351.
- Richardson R., Dunford D. A biochemical-based model for the dosimetry of dietary organically bound tritium – part 1: physiological criteria // Health Physics. 2003. V. 85. № 5. P. 523–538.
- Peterson S.-R., Davis P.A. Tritium doses from chronic atmospheric releases: a new approach proposed for regulatory compliance // Health Physics. 2002. V. 82. № 2. P. 213–225.
- Chao T.-C., Wang C.-C., Li J. et al. Cellular- and micro-dosimetry of heterogeneously distributed tritium // Int. J. of Radiation Biology. 2012. V. 88. № 1–2. P. 151–157.
- Chen J. Radiation quality of tritium // Radiation Protection Dosimetry. 2006. V. 122. № 1–4. P. 546–548.
- Chen J. Estimated yield of double-strand breaks from internal exposure to tritium // Radiation and Environ. Biophysics. 2012. V. 51. № 3. P. 295–302.
- Rabus H., Nettelbeck H. Nanodosimetry: bridging the gap to radiation biophysics // Radiation Measurements. 2011. V. 46. № 12. P. 1522–1528.
- Тимофеев Л.В., Максимов А.А., Кочетков О.А. и др. К вопросу о дозе трития на клеточном уровне // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2020. T. 65. № 6. C. 66–72.
- Mao L., Miao Y., Dong S. et al. Algae induced tritium organification promotes human exposure risk // Research Square. 2023. Preprint. 33 p.
- Hirao S., Kakiuchi H., Akata N. et al. Assessing the variability of tissue-free water tritium and non-exchangeable organically bound tritium in pine needles in Fukushima using atmospheric titrated water vapor // Science of the Total Environ. 2024. V. 907. Art. 168173.
- Ota M., Kwamena N.-O.A., Mihok S. et al. Role of soil-to-leaf tritium transfer in controlling leaf tritium dynamics: comparison of experimental garden and tritium-transfer model results // J. of Environ. Radioact. 2017. V. 178–179. P. 212–231.
- Galeriu D., Davis P., Raskob W. et al. Recent progresses in tritium radioecology and dosimetry – today and tomorrow // Fusion Science and Technology. 2008. V. 54. № 1. P. 237–242.
- Korolevych V.Y., Kim S.B., Davis P.A. OBT/HTO ratio in agricultural produce subject to routine atmospheric releases of tritium // J. of Environ. Radioact. 2014. V. 129. P. 157–168.
- Ulanovsky A., Pröhl G. Tables of dose conversion coefficients for estimating internal and external radiation exposures to terrestrial and aquatic biota // Radiation and Environ. Biophysics. 2008. V. 47. № 2. P. 195–203.
- Diabate S., Strack S. Organically bound tritium // Health Physics. 1993. V. 65. № 6. P. 698–712.
- Калязина Н.С., Журавлев В.Ф., Москалев Ю.И. Кинетика обмена в организме тимидина, меченного тритием // Гигиена и санитария. 1980. № 12. C. 40–43.
- Gagnaire B., Arcanjo C., Cavalié I. et al. Tritiated water exposure in zebrafish (Danio rerio): effects on the early-life stages // Environ. Toxicology and Chemistry. 2020. V. 39. № 3. P. 648–658.
- Arcanjo C., Armant O., Floriani M. et al. Tritiated water exposure disrupts myofibril structure and induces mis-regulation of eye opacity and DNA repair genes in zebrafish early life stages // Aquatic Toxicology. 2018. V. 200. P. 114−126.
- Beaton E., Gosselin I., Festarini A. et al. Correlated responses for DNA damage, phagocytosis activity and lysosomal function revealed in a comparison between field and laboratory studies: fathead minnow exposed to tritium // Science of the Total Environ. 2019. V. 662. P. 990–1002.
- Arcanjo C., Maro D., Camilleri V. et al. Assessing tritium internalisation in zebrafish early life stages: importance of rapid isotopic exchange // J. of Environ. Radioact. 2019. V. 203. P. 30–38.
- Arcanjo C., Maro D., Camilleri V. et al. Errata: Assessing tritium internalisation in zebrafish early life stages: importance of rapid isotopic exchange // J. of Environ. Radioact. 2022. V. 242. Art. 106757.
- Hunt J., Bailey T., Reese A. The human body retention time of environmental organically bound tritium // J. of Radiol. Protection. 2009. V. 29. № 1. P. 23–36.
- Strand J.A., Fujihara M., Burdett R. et al. Suppression of the primary immune response in rainbow trout, Salmo gairdneri, sublethally exposed to tritiated water during embryogenesis // J. of the Fish. Board of Canada. 1977. V. 34. № 9. P. 1293–1304.
- Kim S.B., Rowan D., Chen J. et al. Tritium in fish from remote lakes in northwestern Ontario, Canada // J. of Environ. Radioact. 2018. V. 195. P. 104–108.
- Pearson H.B.C., Dallas L.J., Comber S.D.W. et al. Mixtures of tritiated water, zinc and dissolved organic carbon: assessing interactive bioaccumulation and genotoxic effects in marine mussels, Mytilus galloprovincialis // J. of Environ. Radioact. 2018. V. 187. P. 133–143.
- Dallas L.J., Bean T.P., Turner A. et al. Exposure to tritiated water at an elevated temperature: Genotoxic and transcriptomic effects in marine mussels (M. galloprovincialis) // J. of Environ. Radioact. 2016. V. 164. P. 325–336.
- Nushtaeva V.E., Spiridonov S.I., Mikailova R.A. et al. Radiation dose assessment for representative biota organisms in the locale of NPP with VVER-1200 // Atomic Energy. 2020. V. 128. № 4. P. 251–258.
- Inomata T., Higuchi M. Accumulation and retention of tritium (tritiated water) in Rhodopseudomonas spheroides under aerobic condition // Radiation and Environ. Biophysics. 1982. V. 20. № 2. P. 123–136.
- Satoh Y., Imada S., Tani T. et al. Investigation of ratio of carbon to hydrogen (C/H ratio) in agricultural plants for further estimation of their productivity of organically bound tritium // J. of Environ. Radioact. 2022. V. 246. Art. 106845.
- Kirchmann R., Gerber G.B., Fagniart E. et al. Accidental release of elemental tritium gas and tritium oxide: models and in situ experiments on various plant species // Radiation Protection Dosimetry. 1986. V. 16. № 1–2. P. 107–110.
- Tani T., Nagai M. Retention of organically bound deuterium in grass plants exposed to heavy water vapour at different growth stages // Radiation Protection Dosimetry. 2022. V. 198. № 13–15. P. 886–890.
- DeVol T.A., Powell B.A. Theoretical organically bound tritium dose estimates // Health Physics. 2004. V. 86. № 2. P. 183–186.
- Strack S., Kistner G., Emeis C. Incorporation of tritium into planktonic algae in a continuous culture under dynamic conditions // Int. Sym. on the Behaviour of Tritium in the Environment. San Francisco, 16–20 Oct. 1978. Vienna: IAEA, 1979. 219–230 p.
- König L.A. Tritium in the food chain // Radiation Protection Dosimetry. 1990. V. 30. № 2. P. 77–86.
- Smith R., Ellender M., Guo C. et al. Biokinetics and internal dosimetry of tritiated steel particles // Toxics. 2022. V. 10. № 10. Art. 602.
- Barrett P.H.R., Bell B.M., Cobelli C. et al. SAAM II: simulation, analysis, and modeling software for tracer and pharmacokinetic studies // Metabolism. 1998. V. 47. № 4. P. 484–492.
- ICRP Publication 30: Limits for intakes of radionuclides by workers. Part 1 // Ann. ICRP. 1979. V. 2. № 3–4. 133 p.
- ICRP Publication 30: Limits for intakes of radionuclides by workers. Part 2 // Ann. ICRP. 1980. V. 4. № 3–4. 89 p.
- ICRP Publication 30: Limits for intakes of radionuclides by workers. Part 3 // Ann. ICRP. 1981. V. 6. № 3–4. 134 p.
- ICRP Publication 68: Dose coefficients for intakes of radionuclides by workers // Ann. ICRP. 1994. V. 24. № 4. 124 p.
- ICRP Publication 88: Doses to the embryo and fetus from intakes of radionuclides by the mother // Ann. ICRP. 2001. V. 31. № 1–3. 522 p.
- Tani T., Ishikawa Y. A deuterium tracer experiment for simulating accumulation and elimination of organically bound tritium in an edible flatfish, olive flounder // Science of the Total Environ. 2023. V. 903. Art. 166792.
- Galeriu D., A. Beresford N., Takeda H. et al. Towards a model for the dynamic transfer of tritium and carbon in mammals // Radiation Protection Dosimetry. 2003. V. 105. № 1–4. P. 387–390.
- Greiff D. The effect of beta rays (tritium) on the growth of rickettsiae and influenza virus // Proc. of the Symp. on the Detection and Use of Tritium in the Physical and Biological Sciences. V. II. Tritium in the Physical and Biological Sciences. Vienna: IAEA, 1962. P. 155–164.
- Lai J.-l., Li Z.-g., Han M.-w. et al. Analysis of environmental biological effects and OBT accumulation potential of microalgae in freshwater systems exposed to tritium pollution // Water Research. 2024. V. 250. Art. 121013.
- Ichimasa M., Ichimasa Y., Yagi Y. et al. Oxidation of atmospheric molecular tritium in plant leaves, lichens and mosses // J. of Radiation Research. 1989. V. 30. № 4. P. 323–329.
- Ichimasa M., Suzuki M., Obayashi H. et al. In vitro determination of oxidation of atmospheric tritium gas in vegetation and soil in Ibaraki and Gifu, Japan // J. of Radiation Research. 1999. V. 40. № 3. P. 243–251.
- Shibata T., Ishikawa Y. Deuterium transfer analysis including food chain from seawater into abalone // Radiation Protection Dosimetry. 2022. V. 198. № 13–15. P. 1125–1130.
- Atarashi-Andoh M., Amano H., Kakiuchi H. et al. Formation and retention of organically bound deuterium in rice in deuterium water release experiment // Health Physics. 2002. V. 82. № 6. P. 863–868.
- Ichimasa M., Weng C., Ara T. et al. Organically bound deuterium in rice and soybean after exposure to heavy water vapor as a substitute for tritiated water // Fusion Science and Technology. 2002. V. 41. № 3P2. P. 393–398.
- Takashima Y., Momoshima N., Inoue M. et al. Tritium in pine needles and its significant sources in the environment // Int. J. of Radiation Applications and Instrumentation. Part A. Applied Radiation and Isotopes. 1987. V. 38. № 4. P. 255–261.
- Momoshima N., Kakiuchi H., Okai T. et al. Tritium in a pine forest ecosystem: relation between fresh pine needles, organic materials on a forest floor and atmosphere // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. 2000. V. 243. № 2. P. 479–482.
- Hisamatsu S.I., Katsumata T.I., Takizawa Y. Tritium concentrations in pine needle, litter and soil samples // J. of Radiation Research. 1998. V. 39. № 2. P. 129–136.
- Pettitt E.A., Duff M.C., VerMeulen H. Influence of irrigation approaches and spatial geolocation on tritium speciation, uptake and depuration // Chemosphere. 2024. V. 349. Art. 140921.
- Lattaud C., Marcel R. Stimulating influence of cerebral ganglia on in vitro incorporation of tritiated leucine into ovaries of Eisenia fetida Sav. (Annelida: Oligochaeta) // Zoological Science. 1989. V. 6. № 4. P. 741–748.
- Marsden J.R., Coleman C., Richard R. et al. Uptake of tritium-labelled biogenic amines by the prostomium of the polychaete Nereis virens (SARS) (Annelida) // Tissue and Cell. 1981. V. 13. № 2. P. 269–282.
- Easdown J., Marsden J., Paradis K. et al. A preliminary account of brain growth in postlarval Nereis virens (Polychaeta: Annelida): a [3H]-thymidine study // Canadian J. of Zoology. 1980. V. 58. № 11. P. 2141–2149.
- Гудков Д.И. Тритий в пресных водах Украины и его действие на гидробионтов: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Киев, 1995. 24 c.
- Blaylock B. The production of chromosome aberration in Chironomus riparius (Diptera: Chironomidae) by tritiated water // The Canadian Entomologist. 1971. V. 103. № 3. P. 448–453.
- Kaplan W., Gugler H., Kidd K. et al. Nonrandom distribution of lethals induced by tritiated thymidine in Drosophila melanogaster // Genetics. 1964. V. 49. № 4. P. 701–714.
- Audette-Stuart M., Kim S.-B., McMullin D. et al. Measuring adaptive responses following chronic and low dose exposure in amphibians // Biomarkers of Radiation in the Environment / Eds. Wood M.D., Mothersill C.E., Tsakanova G. et al. Dordrecht: Springer, 2022. P. 205–221.
- Audette-Stuart M., Ferreri C., Festarini A. et al. Fatty acid composition of muscle tissue measured in amphibians living in radiologically contaminated and non-contaminated environments // Radiation Research. 2012. V. 178. № 3. P. 173–181.
- Audette-Stuart M., Yankovich T. Bystander effects in bullfrog tadpoles // Radioprotection. 2011. V. 46. № 6. P. S497–S502.
- Audette-Stuart M., Kim S.B., McMullin D. et al. Adaptive response in frogs chronically exposed to low doses of ionizing radiation in the environment // J. of Environ. Radioact. 2011. V. 102. № 6. P. 566–573.
- Sauer M.E., Walker B.E. Radiation injury resulting from nuclear labeling with tritiated thymidine in the chick embryo // Radiation Research. 1961. V. 14. № 5. P. 633–642.
Supplementary files