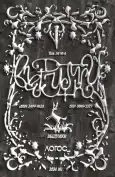Fantasy conditioning techniques and euphemization strategies of soviet bureaucracy after the Chernobyl accident: sarcophagi, plays, conclusions and reports
- Authors: Kozlov S.1,2
-
Affiliations:
- Moscow School of Social and Economic Sciences (MSSES)
- Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)
- Issue: Vol 34, No 4 (2024)
- Pages: 68-81
- Section: ARTICLES
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-5377/article/view/290430
- DOI: https://doi.org/10.17323/0869-5377-2024-4-68-80
- ID: 290430
Cite item
Full Text
Abstract
The article analyzes the reaction of the bureaucratic structures of the Soviet Union to Vladimir Gubarev’s play Sarcophagus, published shortly after the Chernobyl accident. The author examines how bureaucratic mechanisms interpret works of art as potential threats to the social order. Based on Pierre Bourdieu’s theory of social crises, the article explores works of state symbolic violence, its role in shaping the perception of objects of the world by various agents, and the techniques that are used by the state apparatus to tame fantasy and restore the boundaries between different social fields.
Keywords
Full Text
«Саркофаг» Владимира Губарева - советская гонзо-поэзия 1980-х годов, «отчет о командировке в Чернобыль, неожиданно ставший пьесой»1. «Саркофаг» был опубликован в девятом номере журнала «Знамя» за 1986 год. Это трагедия, жанр которой, по декларации самого Губарева, «выбирал не он». Публикация пьесы вызвала административный шок в руководстве Советского Союза. Это декларируемо фикциональное повествование заставило правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС прибегнуть к помощи комиссии докторов-радиологов и Политбюро ЦК КПСС: им было необходимо доказать, что написанное в пьесе было вымыслом, несмотря на то что «Саркофаг» был художественным произведением.
Почему фантазию автора (и читателей) «Саркофага» понадобилось дрессировать медицинскими заключениями, правительственными отчетами, комиссиями и постановлениями?
Сюжет пьесы прост: в «экспериментальном отделе института радиационной безопасности» на этаже, предназначенном для изучения воздействия радиации на человека, содержится один пациент - Бессмертный, он же Кролик. Несмотря на самую тяжелую форму лучевой болезни, он находится в институте уже около пятисот дней. На нем ставят опыты, которые ложатся в основу статей и отчетов: случай уникальный, потому что Бессмертный чувствует себя здоровым (с поправкой на уничтоженную радиацией иммунную систему и отсутствие памяти о событиях до попадания в институт). В какой-то момент где-то за пределами института на четвертом энергоблоке неназванной АЭС происходит авария, и на этаж один за другим начинают поступать новые пациенты с дозами радиации, сильно превышающими полученную Кроликом. Пациенты делятся друг с другом версиями произошедшего, поверхностно обсуждают физику реакторов и хозяйственные вопросы атомных станций, водят за нос Прокурора, пытающегося выяснить причины катастрофы, планируют побег из института, юлят, влюбляются в медиков-практиканток и один за другим умирают. В серии последних реплик Бессмертный завещает свой «эталонный» костный мозг для пересадки последнему оставшемуся в живых пациенту - Начальнику АЭС. Бессмертный хочет «приговорить его к жизни», чтобы сделать его живым свидетельством катастрофы и той архитектуры принятия решений, которая сделала ее возможной.
Социологии «Саркофаг» интересен не только и не столько сюжетом, сколько его рецепцией. Эта пьеса - высказывание, произведенное в социальном пространстве Советского Союза 1986 года, которое только что было трансформировано аварией на Чернобыльской АЭС. Произошедшее обладало всеми чертами социального кризиса, понятого в русле рефлексивной социологии Пьера Бурдьё, и было связано с деавтономизацией отдельных регионов социального пространства и трансформацией структуры принятия решений и распределения ресурсов. Остановлюсь на этом подробнее.
Аналитика событий студенческих выступлений во Франции мая 1968 года, проведенная Бурдьё2, предлагает социологу следующий набор предположений для концептуализации и анализа кризисов:
- Кризис сопровождается деавтономизацией ранее относительно изолированных друг от друга полей3. Ощущение историчности, сопровождающее кризис, связано с тем, что в критический момент внутренняя динамика, которая структурирует социальное пространство и время конкретного поля, оказывается открыта социальному универсуму в целом как совокупности полей и пространств между ними. Поле, которое до этого существовало в качестве относительно замкнутого порядка со своими правилами, структурами конкуренции и историей, оказывается разомкнуто, а его институциональные и эпистемические границы - нарушены. Так, история обесценивания престижных дипломов и латентный кризис воспроизводства преподавательского состава во французских университетах в ходе мая 1968 года оказываются обобщены и оторваны от своего прошлого достаточно, чтобы стать историей и кризисом Франции. Кризис всегда обладает историей, но в ходе его обобщения и развертывания эта история оказывается скрыта (деисторизована) постольку, поскольку выдергивается из региона социального пространства, архитектура отношений которого сделала оформление кризисной ситуации возможной.
- Эта деавтономизация, покоящаяся на синхронизации отдельных временных порядков, свойственных конкретным разворачивающимся в ходе кризиса полям, может быть в разной степени контролируемой. Бурдьё не указывает на это напрямую, но делает такое направление рассуждений возможным, когда указывает на способность национальной бюрократии служить оператором контролируемой генерализации4 локальных общественных движений. В обычной ситуации бюрократия и государственные структуры обладают привилегированным правом определять порядок величин событий, затрагивающих несколько полей и социальных страт: в случае если контролируемая генерализация действительно остается контролируемой, кризиса не возникает. Он остается захвачен государственными актами на одном из уровней масштаба и ограничен одной социальной стратой, одним бюрократическим порядком и одним регионом социального пространства. Специфика критического момента заключается в том, что контролируемость такой генерализации ставится под вопрос: никто не может до конца решить, где начинается и где заканчивается кризисная ситуация.
Отсюда: любой критический момент - это момент, в котором одной из легитимных ставок в социальном пространстве становится власть над разворачиванием и протеканием самого кризиса. Можно предположить, что в таких моментах механика контроля генерализации государством никогда не бывает до конца успешной: безотказность подобной работы депроблематизировала бы сам кризис. Одновременно с этим нельзя отрицать, что историю любого кризиса можно изобразить в виде последовательности локальных тактических успехов, достигаемых отдельными группами в попытке восстановить и переописать границы, до того разделявшие регионы социального пространства.
- Если в ходе кризиса происходит деавтономизация, то это деавтономизация куда-то: критерий относительной автономии полей предполагает, что на фундаментальном уровне поля связаны структурами и механизмами обмена, обеспечивающими возможность передачи и конвертации капиталов5 из одного поля в другое6. Как правило, речь идет о структурах поля экономики или политики: в то время как экономический капитал обеспечивает фундаментальную связность полей за счет виртуальной универсальности экономического капитала как предмета конвертации (если не все, то очень многое можно купить за деньги вне зависимости от того, в какой точке социального универсума вы находитесь), техники государства делают возможными рутинные и контролируемые вторжения в отдельные поля, осуществляемые, например, с помощью единств, производимых во время актов гражданской номинации за счет присвоения статусов гражданского состояния7. По мере такого разворачивания полей, возможность которого обеспечивается общностью фундаментальных структур, развернутыми также оказываются ранее не затронутые кризисом поля: например, поля литературы и искусства.
История социального кризиса, последовавшего за взрывом в машинном зале ЧАЭС 26 апреля 1986 года - это история трансформации, которая сопровождалась коллективной и частично контролируемой деавтономизацией8. Контекст этой деавтономизации - продолжающееся с 1960-х годов контролируемое вторжение Совета Министров СССР в фактическую структуру управления советским ядерным проектом, одним из шагов которого была передача полномочий по реализации мирного атома от Министерства среднего машиностроения (Минсредмаша) к Министерству энергетики и электрификации (Минэнерго). Институциональным аспектом этой передачи была трансформация корпуса управленцев: Чернобыльская АЭС была первой атомной электростанцией на территории СССР, от начала и до конца комплектовавшейся специалистами Минэнерго, а не Минсредмаша9. Различия между этими социальными телами как совокупностями групп и способов их воспроизводства становятся видимы, если обратиться к анализу послужных списков и траекторий, а также описанию взаимного расположения этих министерств в социальном пространстве Советского Союза. К примеру, Минэнерго обладало меньшим количеством связей с военным корпусом, в то время как «серьезный» опыт военной службы был одной из составляющих целевых траекторий Минсредмаша, не относящихся напрямую к теоретической экспертизе (так, для того чтобы стать инженером или геологом внутри Минсредмаша, было необходимо быть военным, но чтобы стать ученым-теоретиком внутри Минсредмаша, достаточно было быть только ученым).
На фоне замены корпуса управленцев менялась и структура принятия решений: подходил к концу длинный спор о том, нужны ли атомной энергетике генеральные конструкторы, подотчетные напрямую Совету Министров, и какую роль в новой структуре должна играть старая модель принятия решений, сконцентрированная вокруг «научного руководителя» ядерных экспериментов - Курчатовского института10. Формировавшийся с 1940-х годов свод органических неформальных правил, структурировавших реализацию ядерных экспериментов на территории Советского Союза, предполагал, что Курчатовский институт выступал пунктом обязательного прохождения для ядерных инициатив: там согласовывались программы экспериментов, проходили исследования физики реакторов и обсуждались технические детали мирных и военных атомных нововведений.
По мере масштабирования и разрастания поля атомной энергетики и оформления в нем стабильных институциональных барьеров, такая исключительная роль Института, зафиксированная не в документах, а в том, что, теряя некоторую долю смысла, можно назвать традициями корпусов, поступательно подвергалась сомнению вплоть до принятия «Положения о генеральных конструкторах» 1984 года. Этот документ возложил ответственность за развитие атомной энергетики на генеральных конструкторов станций, которые должны были назначаться Советом Министров СССР и нести персональную ответственность за все аспекты развития отдельных станций (или их групп). Этот акт в очередной раз деавтономизировал власть Курчатовского института, но институциональное сопротивление Минэнерго и Минсредмаша замедлило его имплементацию: на четыре года атомная энергетика СССР оказалась в организационном безвременье (в котором и произошла Чернобыльская авария), и первые генеральные конструкторы были назначены только в 1988 году.
Так, до того как стать социальным, чернобыльский кризис был сформирован в качестве системы латентных напряжений, связанных с трансформацией класса управленцев и общей деавтономизацией структуры принятия решений. Взрыву - а точнее, его рецепции - достаточно было только обобщить эти имманентные полю напряжения. Стадии такого обобщения можно зафиксировать, восстановив последовательность правительственных инициатив организационной контаминации аварии по актам и постановлениям. Взрыв, произошедший 26 апреля, пытались взять под контроль сначала на уровне актов местного КГБ и Минздрава, затем через формирование специальной правительственной комиссии, после этого - через эвакуацию ближайших поселений и введение особого положения в Киеве и, наконец, через обращение в отчетах к угрозе радиоактивного заражения всей европейской части СССР, координацию визита тогдашнего секретаря МАГАТЭ Ханса Бликса в Советский Союз и назначение Минсредмаша исполнителем работ по возведению бетонного укрытия над разрушенным энергоблоком.
Такая итеративная генерализация, на каждом следующем шаге размечаемая все новыми постановлениями, актами и отчетами, которые постепенно увеличивают масштаб катастрофы с локальной аварии до экологического бедствия планетарного масштаба, сделала кризисы, имманентные полю советской атомной энергетики, кризисом планеты. Эффект обратного предвидения, характерный для подобных ситуаций, заставил агентов, анализирующих предпосылки аварии в последующие годы, обратиться к риторике неизбежности, которая предполагала, что «этого не могло не случиться»11, несмотря на то что ранее подобные точки зрения если не были маргинальными, то, по крайней мере, не одобрялись и не признавались институционально. Вопросы, которые задавались во время ликвидации последствий взрыва и после нее были как сугубо техническими («Какова была физика реактора?»), но также более абстрактными («Что произошедшее говорит нам о системе принятия решений Советского Союза?») и проективными («Что случившееся может сказать об атомном проекте как таковом?»).
Как уже было сказано, «Саркофаг» - это одно из таких высказываний, произведенных в ситуации эпистемического обобщения локального кризиса, который стал кризисом глобальным. К моменту публикации пьесы чернобыльский кризис успел поставить под вопрос развитие советской атомной энергетики в целом и поэтому потерял свою историю, будучи сведенным к событию физического взрыва на отдельно взятой электростанции. Будучи институционально размещенным в поле советской литературы, «Саркофаг», благодаря эффекту приостановки работы границ между полями, оказался почти мгновенно схвачен механизмами распознавания угроз, локализованными в пространстве высшей советской бюрократии.
Первая реакция на нее - не литературное, не бюрократическое, но медицинское заключение, которое было написано профессионалами-медиками по поручению правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии 16 ноября 1986 года. Оно начинается со следующей конструкции:
В посвящении автора к пьесе указывается, что он пишет «обо всем и открыто» и далее пытается подчеркнуть, что любые описанные события реальны и имеют отношение к аварии на ЧАЭС.
Остаток заключения функционирует в логике разоблачения и уличения: авторы указывают, что работа по лечению пострадавших на ЧАЭС «была искажена», «не показано, что при этом был использован большой научный потенциал по радиационной медицине», перечисляются фактические искажения, связанные с количеством больных, получивших значительные дозы радиации, и отмечается, что
…пьеса наносит большой моральный ущерб всем советским людям и, в частности, пациентам, которые лечатся или будут лечиться в условиях асептических стерильных блоков.
В финале заключения авторы отмечают, что автор пьесы не общался ни с кем из руководящих сотрудников клиники, которая оказывала пострадавшим при аварии помощь, и констатируют, что
…данная ситуация может быть использована зарубежными средствами информации как основа для возобновления антисоветской кампании об искажении Советским правительством и советскими учеными реальной картины, сложившейся в результате аварии на ЧАЭС.
Так литература смешивается с медициной и вопросами научно-технического прогресса: факт ее публикации и действия вымышленных персонажей оказываются включены в процесс ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС на правах нарушителей спокойствия. Институциональная граница между реальным и вымышленным, пролегающая по страницам журнала, нарушается: заключение предостерегает читателя о том, что «Саркофаг» способен нанести реальный ущерб людям, институциям и советскому государству.
Записка комиссии по ликвидации последствий аварии, опубликованная 29 декабря 1986 года, резюмирует основные ходы врачебного заключения и вписывает пьесу в еще более широкий контекст. Как и в случае самого заключения она начинается с придания пьесе модальности реального:
В кратком предисловии автор сообщает, что эта пьеса по существу является его отчетом по командировке на Чернобыльскую АЭС в мае сего года, то есть сразу же после аварии на четвертом энергоблоке станции, происшедшей 26 апреля 1986 года. Это обстоятельство обязывает автора следовать в основном реальности случившегося.
Вслед за вменением модальности реального («то, что написано в пьесе, имеет отношение к действительности, и только поэтому имеет смысл о ней говорить») документ выполняет ряд процедур по описанию интенций и поступков автора пьесы. Записка упрекает его в том, что он не обсудил с медиками и физиками содержание «Саркофага», а в выборе описаний и сюжетных ходов погнался за «сенсационностью» происходящего, исказив факты и предложив трактовки перспектив развития атомной энергетики, которые «накладывают тень на общее состояние развития атомной энергетики, на общие порядки в стране».
Рис. 1. Заключение на пьесу Владимира Губарева «Саркофаг», опубликованную в журнале «Знамя» (1986. № 9). URL: https://nsarchive.gwu.edu/rus/Perestroika/Chernobyl.html.
Несмотря на то что эти два документа были написаны по особому случаю, в них нет ничего особого - бюрократическим описаниям свойственно производить такие тексты-гибриды, комбинирующие в одном оценочном повествовании международную политику, физику, медицину, вопросы общественной морали и администрирования министерств. Действительно интересной является сама ситуация реакции на «Саркофаг»: для того чтобы объяснить атаку на эту пьесу, нужно допустить, что само художественное высказывание было распознано бюрократическими структурами в качестве атаки на техники контролируемой генерализации социального кризиса. «Саркофаг» нес в себе набор действенных (и, что гораздо важнее, несанкционированных) ставок в споре о том, как выглядела социальная реальность позднего Советского Союза. Вероятно, генерализация обвинений в адрес «Саркофага» гомологична степени обобщения самого кризиса: пьесе вменяется, что она ставит под угрозу «общие порядки в стране» в тот момент, когда они сами находятся под угрозой.
Рис. 2. Записка Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. URL: https://nsarchive.gwu.edu/rus/ Perestroika/Chernobyl.html.
Рефлексивная социология Бурдьё дополняет веберовское определение государства (в котором оно является единственным источником права на легитимное физическое насилие) тезисом о том, что легитимное насилие может быть также и символическим12. Государственная власть - это власть, «насаждающая и навязывающая принципы видения и социального деления (vision and division)», которые позволяют людям согласовывать мир (и свои действия) между собой. Ситуации кризисов отличны от ситуаций производства ординарных государственных актов своей непредопределенностью: благодаря синхронизации пространств и времен развернутых друг в друга полей временные порядки, которые структурировали желаемые траектории в отдельных полях, оказываются частично подорваны. Иными словами, в этот момент и воспринимаемое, и объективное будущее перестают быть предопределенными13, а значит, сам социальный порядок, структурированный в первую очередь государственными актами, оказывается под вопросом.
Такие ситуации - время использования техник контроля и дрессировки фантазии. Фикциональность «Саркофага» (если такая и предполагается читателем) была мгновенно закодирована правительственной комиссией (одним из старейших организационных изобретений государства) в качестве претензии на высказывание реального в тот момент, когда само определение реального колебалось благодаря развитию относительно неконтролируемого социального кризиса. Условия этой реакции были сформированы институтами, но стали возможными благодаря истории: только в некоторых ее точках границы между регионами социального пространства становятся проницаемы настолько, что становится возможен спор врача и художника.
1 Губарев В. Саркофаг // Знамя. 1986. № 9.
2 Бурдьё П. Критический момент // Homo academicus. М.: Издательство Института Гайдара, 2018.
3 Относительно изолированные регионы социального пространства, в которых происходит борьба за различные виды ресурсов и которые производят специфический интерес, делающий борьбу за ресурсы осмысленной. Поле может быть описано разными способами, но для нужд этого исследования важны две характеристики этого понятия (и этих объектов): поля обладают историческим генезисом и устойчивыми институциональными барьерами, которые отделяют их друг от друга. Подробнее см.: Там же. С. 333; Он же. О государстве: курс лекций в Коллеж-де-Франс (1989–1992). М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 8, 189–216, 94–114; Krause M. How Fields Vary // The British Journal of Sociology. 2018. Vol. 69. № 1.
4 Там же. С. 340.
5 Ресурсы, за которые ведется борьба в поле и количество и комбинация которых обеспечивает возможности успеха отдельного агента в той или иной социальной игре. Если сравнить поле с пространством игры (jeu), то, с некоторыми оговорками, которые всегда сопровождают аналогии, капиталы можно уподобить мастям игральных карт (Bourdieu P., Wacquant L. An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge, MA: Polity Press, 1992. P. 98–99), которые могут комбинироваться и конвертироваться друг в друга, приводя к различным эффектам (Bourdieu P. Pascalian Meditations. Cambridge, MA: Polity Press, 2000. P. 67).
6 Там же. С. 335.
7 Бурдьё П. Биографическая иллюзия // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2002. Т. 1. № 1. С. 79.
8 Характер связи социальной трансформации и физического взрыва — предмет отдельной беседы. Возможно, для того чтобы окончательно распутать социальную игру, которая оказалась реализована в ходе чернобыльского социального кризиса и которая привела к трансформации советской атомной энергетики, нужно задаться рядом вопросов, которые традиционно неудобны для социологов: какова была физика реактора? Как эффекты цепной реакции и взаимодействия радиоактивных материалов оказались связаны с социальными изменениями, а социальные изобретения — с техническими? Как произошедшее 26 апреля 1986 года может быть аналитически связано с разворачиванием эволюционной цепочки реакторов РБМК, особенностями их распространения по Советскому Союзу и их конструктивными чертами?
9 Круглов А. К. Штаб Атомпрома. М.: ЦНИИатоминформ, 1998.
10 Сидоренко В. А. Научное руководство в атомной энергетике // История атомной энергетики Советского Союза и России. История ВВЭР / Под ред. В. А. Сидоренко. М.: Чернобыль-Атом, 2002. № 2. С. 5–28.
11 Александров П. А. Академик Анатолий Петрович Александров. Прямая речь: испр. и доп. 2-е изд. М.: Наука, 2002.
12 Бурдьё П. О государстве. С. 50.
13 Он же. Критический момент. С. 349.
About the authors
S. Kozlov
Moscow School of Social and Economic Sciences (MSSES); Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)
Author for correspondence.
Email: ste.kozlov@gmail.com
Russian Federation, Moscow; Moscow
References
- Alexandrov P. Akademik Anatolii Petrovich Aleksandrov. Priamaia rech’: ispravlennoe i dopolnennoe 2-e izdanie [Academician Anatoly Petrovich Alexandrov. Direct speech: Revised and Supplemented 2nd Edition], Moscow, Nauka, 2002.
- Bourdieu P. Biograficheskaia illiuziia [L’illusion Biographique]. Interaction. Interview. Interpretation, 2002, vol. 1, no. 1, pp. 75–84.
- Bourdieu P. Kriticheskii moment [Le moment critique]. Homo academicus, Moscow, Gaidar Institute Press, 2018.
- Bourdieu P. O gosudarstve: kurs lektsii v Kollezh-de-Frans (1989–1992) [Sur l’Etat. Cours au College de France (1989–1992)], Moscow, Delo Publishers of RANEPA, 2016.
- Bourdieu P. Pascalian Meditations, Cambridge, MA, Polity Press, 2000.
- Bourdieu P., Wacquant L. An Invitation to Reflexive Sociology, Cambridge, MA, Polity Press, 1992.
- Gubarev V. Sarkofag [Sarcophagus]. Znamya [The Banner], 1986, no. 9.
- Krause M. How Fields Vary. The British Journal of Sociology, 2018, vol. 69, no. 1, pp. 3–22.
- Kruglov A. Shtab Atomproma [Atomprom (Nuclear Industry) Headquarters], Moscow, TsNIIAtominform, 1998.
- Sidorenko V. Nauchnoe rukovodstvo v atomnoi energetike [Scientific Management in Nuclear Power Engineering]. Istoriia atomnoi energetiki Sovetskogo Soiuza i Rossii. Istoriia VVER [History of Nuclear Power Engineering of the Soviet Union and Russia. History of VVER] (ed. Sidorenko V.), Moscow, Chernobyl-Atom, 2002, no. 2, pp. 5–28.
Supplementary files