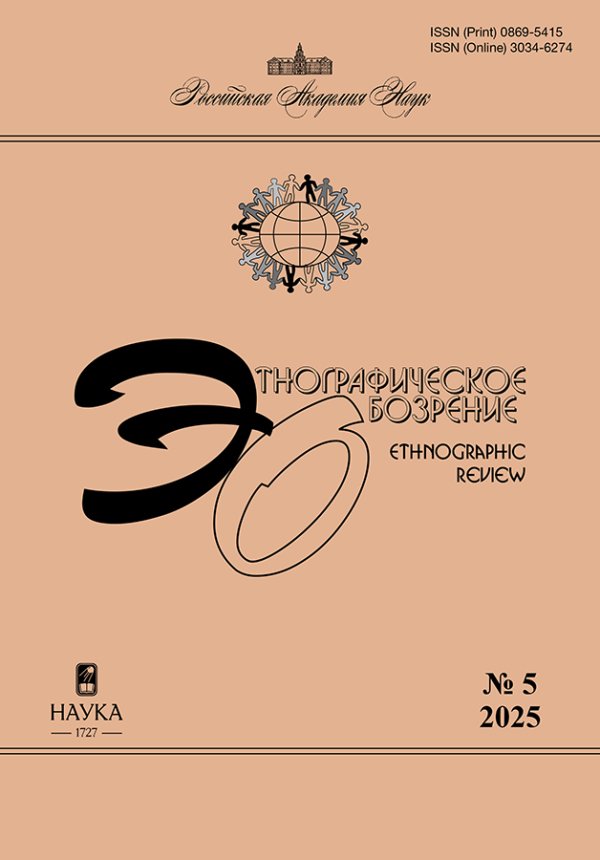Historical markets as special spaces of Italy
- Authors: Fais-Leutskaia O.D.1
-
Affiliations:
- Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 71-89
- Section: Special theme of the issue: Humans buying and selling: anthropology of trade (people, goods, structures, relationships)
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-5415/article/view/268460
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524030057
- EDN: https://elibrary.ru/BRNYEZ
- ID: 268460
Cite item
Full Text
Abstract
The article undertakes an anthropological examination of Italian historical markets which are well known but, surprisingly, have been little studied to date. This ancient trade institution has not just survived through the present day, but in fact it has not lost its vitality and still enjoys unusually high popularity among the locals. I attempt to address the aspects of its existence that had not previously been given enough research attention: the human components of markets, their gender, ethnic, and social composition, the relationships between sellers and buyers, as well as the reasons these rather archaic trading structures continue to enjoy high social ratings. I argue that these markets are more than just places of trade; they represent special social and cultural spaces in the context of communal life – certain places of memory – which distinguishes them from regular markets in the usual sense. In this study, I make extensive use of field materials, given the lack of scholarly publications on the subject.
Keywords
Full Text
Торговля, несомненно, является одним из древнейших универсальных видов экономической деятельности человека, о чем свидетельствует и география ее распространения. Однако даже на фоне глобальной вовлеченности в торговлю всего населения земного шара некоторые точки мира уже много веков назад заявили о себе как об очагах повышенной коммерческой активности. К таким точкам, бесспорно, относится с глубокой древности отличающееся сугубой плотностью международных торговых контактов Средиземноморье, а в его системе координат особого внимания заслуживает Италия. В силу географического положения – стратегически важного пребывания почти в центре этого ареала, “открытости” многим морям и т. д., а также ввиду древних традиций коммерции Италия по праву считается “историческим символом и иконой европейской и мировой торговли” (Pellegrini 2001: 8).
Несмотря на это, итальянская торговля (как, впрочем, и европейская) крайне редко выступает объектом антропологического анализа. Не в последнюю очередь это связано с тем, что новое и перспективное исследовательское направление антропология торговли (см., напр.: Brøgger 2009: 318–333; Lyon 2021), развивающееся в русле экономической антропологии, пока крайне скупо разработано, при том что его основы были заложены еще классиками этнографии и социологии Б. Малиновским, М. Моссом, К. Поланьи. Именно лакуны в этой области во многом обуславливают интерес автора данной статьи к широкому кругу проблем “игр обмена” (если выражаться языком Ф. Броделя). Этот интерес подогревает и тот факт, что торговля, как и любой другой аспект социального бытия, служит символом и маркером происходящих в обществе процессов, «средством передачи и восприятия его смысла, культуры, “абстракции опыта”» (Geertz 1973: 89).
В 2023 г. стартовал первый в отечественной науке проект антропологического изучения европейской торговли, наше участие в котором было представлено анализом сагр – популярных в Италии алиментарных фестивалей, специализирующихся на каком-то одном пищевом артефакте (Фаис-Леутская 2023: 144–164). Продолжая в рамках проекта исследование итальянских торговых реалий, мы хотели бы остановиться на таком институте, как исторические рынки (ит. mercati storici). Отметим: сегодня в Италии на гребне моды на все аутентичное и апробированное временем и традицией этим термином все чаще, особенно в СМИ, обозначают любые торговые инициативы, реализуемые с определенной периодичностью в течение достаточно долгого времени (так, напр., “историческим” часто именуют Mercato di San Lorenzo – уличный рынок кожаных изделий во Флоренции, существующий с начала 60-х годов ХХ в. [Mercati tipici a Firenze s. d.]). Однако, как уточняют ученые, термин корректно применять только в отношении специфических торговых институтов, встречающихся лишь в Сицилии (Buttitta 2007: 15). Речь идет об очень древних по происхождению городских уличных рынках, преимущественно пищевых, представляющих собой совокупность торговых кварталов в исторических центрах городов; полноценно функционируя, они и сегодня остаются в своих исконных границах. Такие рынки упоминали многие итальянские и европейские исследователи (напр.: Buttitta 1995: 2–10, 2007: 15–16; Calabi 1993: 145–146; Hubert 2006: 50), однако, по признанию ученых, это явление даже в Италии продолжает оставаться слабоизученным и ждет глубокого и разностороннего освещения (Sottile 2005: 93).
В 2013 г. в своей статье мы уже касались этого феномена, но наше внимание было сосредоточено на товарах и блюдах рыночной кухни (Фаис 2013). В настоящем же тексте делается попытка обрисовать, насколько позволяет материал, “человеческое лицо” этих архаичных торговых структур (продавцов, покупателей и проч.), а также проанализировать, пусть весьма бегло, причины необычайно высокой популярности этого института в социуме, – т. е. обратиться к тем сторонам бытия исторических рынков, которые не были прежде объектом исследования. Мы также стремимся проверить свою гипотезу, согласно которой эти конструкты являются чем-то большим, чем просто “местами торговли”, они фактически и в сознании населения представляют собой некие особые социокультурные пространства Сицилии, что отличает их от рынков в обычном понимании. В силу обращения к сегодняшнему дню исторических рынков важную роль в настоящей работе играют наши полевые материалы1, позволяющие рассмотреть интересующие нас вопросы в режиме реального времени.
Исторические рынки “живы” во многих городах Сицилии. К числу наиболее древних относятся: Ballarò (IX в.), Capo (IX в.), La Kalsa (X в.), Vucciria (XIII в.) в Палермо и Fera o luni (1493 г.) в Катании; рыбные рынки: Antigo Mercado в Марсале (1315 г.), ‘A pischiria (1422 г.) в Ачиреале, Pischiria (XV в.) в Катании и Pischiria (XVII в.) в Шакке; зеленные рынки, например Strat’a fogghia (XVI в.) в Калтаниссетте; фруктово-овощные – Borgo Vecchio (1556 г.) в Палермо; мясные – в Сант’Агата ди Милителло (1500 г.) и т. д. (Sorgi 2007: 60). Существуют и два непищевых исторических рынка, оба в Палермо – Lattarini (сегодня там торгуют подержанной одеждой), потомок средневекового рынка тканей, сформировавшегося в Х в. в недрах арабского базара специй Suk-el-Attarin (Schirò s. d.), и Mercato Sant’Agostino, с XII в. специализирующийся на торговле дорогими тканями (Stigliano 2020).
Рис. 1. Прилавок торговца “морскими гадами” на историческом рынке. Катания. 2023 г. Фото автора
Именно возраст исторических рынков в первую очередь позволяет выделить их в особую категорию: настолько древние и при этом и поныне действующие коммерческие структуры имеют мало аналогов в Италии и Европе (единственное исключение – архаичные, но все же значительно более молодые рынки Испании, например Mercado de la Calle Feria в Севилье, Mercado El Fontan в Овьедо, Mercado de la Cebada в Мадриде и т. д., представляющие собой закрытые, компактные торговые пространства в стенах одного помещения).
Весьма специфичен и облик исторических рынков. В отличие от всех уличных рынков Италии и Европы, они не окружают торговую площадь, охватывая прилегающее к ней пространство (Calabi 1993: 145), а подобно восточным базарам, имеют линейную структуру – вытянуты в длину, в прошлом – от одной границы города до другой (Soltanzadeh 2004: 29). Кроме того, как и их восточные аналоги (это убедительно доказывают примеры рынков [сук] “Эль Саида Зейнаб” в Каире, “Сук-аль-Аттарин” в Тунисе, базаров “Махани Иегуда” в Иерусалиме, “Меркато” в Аддис-Абебе, иранских рынков и т. д. [D’Angelo 2007: 127]), они, занимая значительную площадь в городских пространствах, представляют собой совокупность кварталов-базаров, каждый из которых имеет “узкую специализацию” (мясной квартал, рыбный, овощной и т. д.) и локализуется вокруг своего местного центра (площади, перекрестка, двора) (Soltanzadeh 2004: 29).
Рис. 2. Исторический рынок Балларо. Палермо. 2023 г. Фото автора
Ориентальные черты обнаруживают и механизм торговли, и широко применяемые вокальные практики: (a)bbanniiatе (от сиц. аbbanniari – “кричать”, “предлагать товар”) – “голосовая реклама”, хриплые и громкие речитативы торговцев (эти выкрики частично строятся на импровизациях, но преимущественно повторяют архаичные формулы), характерные для восточных базаров и не встречающиеся больше нигде в Италии (Bonanzinga 2007).
Исходя из возраста и облика исторических рынков, многие ученые считают их “наследием арабо-берберского господства” (D’Angelo 2007: 128) или “отголоском арабского культурного влияния” (Aime 2002: 9). Однако корректнее видеть в них прежде всего “живые памятники раннего Средневековья”, “ориентальность” которых обусловлена отнюдь не “только непосредственным присутствием арабов в Сицилии в IX–XIII вв.”, но и в значительно большей степени «давними контактами региона с Магрибом и различными территориями Востока и в целом “принадлежностью к единому полю средиземноморской культуры”»2 (La Duca 1994: 71–72).
Исторические рынки обладают и особой социальной спецификой, что дает основание именовать их “городами в городах” (Ariolo 2005: 46), “тотальным социальным фактом в жизни сицилийского общества” (Sorgi 2007: 61), вслед за М. Фуко считать их “гетеротопиями”, или “пространствами внутри пространства” (Cusumano 2012: 122; Settineri 2020: 7), а согласно концепциям Ж. Делёза и Ф.П. Гваттари, – и “ризомой” (Settineri 2020: 7). Эти сравнения, равно как и признание того, что исторические рынки, как “никакие другие рынки в Италии или Европе”, представляют собой “живущие по своим законам автономные социальные организмы” (Ibid.: 8), в основном не аргументированы: выделение рынков в особую категорию часто сделано “вслепую, интуитивно, без опоры на факты и проведенный анализ” (Sottile 2005: 93), а вопросы управления рынками, рыночного персонала и т. д. удивительным образом никогда не выступали объектом научного анализа и остаются крайне слабо изученными (Sorgi 2007: 62). Согласимся с мнением антрополога А. Кузумано, считающего, что подобное “отсутствие информации по поводу глубинных сторон существования исторических рынков” и даже “отсутствие интереса к этим вопросам, причем и в академических кругах” обусловлено вполне органичными для Сицилии историческими традициями отношений общества с его различными субъектами, построенных на принципах невмешательства первого в дела последних: социум следует “установленным самими рынками нормам уважения их автономности” (Cusumano 2012: 134–135). На сегодняшний день исторические рынки для окружающего, в том числе и научного мира во многом продолжают оставаться своего рода terra incognita: ученые ограничиваются лишь констатацией того факта, что не имеющая аналогов в Италии и Европе “человеческая специфика” рынков восходит к древности, а ее сохранение объясняется глубокой архаичностью Сицилии (Sottile 2005: 93).
В силу этого наши знания об акторах торговли на исторических рынках базируются преимущественно на интервью “рыночных”, что, однако, требует определенных оговорок. Так, при обнаруженной готовности торговцев к разговору – по мнению сицилийских исследователей, уже достаточно удивительной – степень их откровенности, о чем нас предупреждали коллеги-антропологи, сильно лимитирована; “рыночные” демонстрируют большую селективность в выборе тем беседы. Перед началом интервью оговаривалась табуированность ряда сюжетов, например проблем внутренней структуры рынков и механизма их управления, до сих пор остающихся белыми пятнами в науке не из-за криминального характера этих сторон рыночного существования, а в силу соблюдения вековых принципов их замалчивания (Sorgi 2015). Приходится констатировать, что о многих аспектах деятельности рынков мы можем рассуждать очень приблизительно; так, то, что на исторических рынках существует некий правящий “совет старейшин”, известно от представителей правоохранительных органов (ПМА 2), а не от “рыночных”.
Более всего в научной литературе освещена гендерная специфика этих архаичных торговых структур. Дело в том, что и сегодня исторические рынки представляют собой мужские миры: сильный пол составляет абсолютное большинство как продавцов, так и покупателей (ПМА 1). Торгующих женщин встретить сложно (редчайшее исключение, дань современности – единичные мигрантки на Capo и Ballarò в Палермо); пришедшие за продуктами покупательницы как феномен “родились” лишь очень недавно и на сегодняшний день остаются в радикальном меньшинстве. Подобная картина, при всей ее необычности для Италии и Европы, вполне органична для Сицилии – “маскулинного” (или фаллоцентричного, если выражаться языком философа Ж. Деррида [Derrida 2014: 291]), т. е. управляемого мужчинами общества, где и сегодня, согласно архаичным канонам, сильный пол составляет большинство покупателей, особенно в народных кварталах (Billitteri 2003: 163).
Сложно сказать, когда установились такие поведенческие принципы. Одни исследователи предполагают, что они бытуют с эпохи раннего Средневековья, т. е. со времен тотальной маргинализации женщин в социуме (La Duca 1994: 44). Другие напрямую увязывают их с периодом арабского завоевания и довлением постулатов ислама (Giacomarra 2007: 78) – однако, как возражают оппоненты, на базарах в мусульманских регионах, например в Магрибе, женщины и в прошлом, и сегодня нередко вполне активно участвуют в торговле. Существует версия, что господство мужчин на рынках восходит к мужским союзам – древнейшему общественному институту, уходящему корнями в первобытнообщинный строй (Giallombardo 2003: 127); это косвенно подтверждает и факт существования в Сицилии древней уличной (мужской) кухни (Ibid.: 127–135). Тем не менее, каким бы ни было происхождение такой моногендерности, она, на наш взгляд, немало способствует цементированию архаичности исторических рынков.
Меньше известно о других сторонах акторов торговли. Суммируя разрозненные сведения, констатируем, что можно говорить о потомственных торговцах, “реликтах” древнего цеха (особого братства, касты, средневековой торговой конгрегации), сохраняющих и сегодня свои древние атрибуты: штандарты, символы и даже храмы3. Преемственность обеспечивается жесткой эндогамностью сообщества исторических рынков – элиты торгового мира в Сицилии. Отметим также, что торговцы каждого рынка имеют свой, складывавшийся десятилетиями и веками социолект, как правило, недоступный для прочих “людей торговли” (ПМА 1; Ariolo 2005: 51). Торговцы составляют некий закрытый круг, в который крайне сложно попасть человеку со стороны (ПМА 1), и это рождает проблему пополнения персонала исторических рынков4; к соискателям предъявляются жесткие требования. Во-первых, они должны быть из числа “своих”. Как рассказал университетский профессор биологии, решивший, подобно отцу и брату, стать продавцом рыбы на рынке Vucceria (Палермо), он был “допущен” лишь потому, что происходил из династии работавших на этом же рынке торговцев (ПМА 3). Рассматривается и происхождение претендента: согласно неписаному кодексу, на рынках должны преобладать “чистокровные сицилийцы” (ПМА 1). Однако, как показали расспросы, любопытна трактовка этой “чистоты”: приоритетным оказывается не “состав крови”, а культурно-психологическая принадлежность локальной почве, обусловленная органичной связью с местным контекстом. В силу этого запрещено привлекать, например, сицилийцев, родившихся или долго живших за рубежом, но дозволено допускать до работы любых “инородцев” (“даже евреев”, как уточняют респонденты), лишь бы они были местными уроженцами и разделяли ценности локальной культуры (ПМА 1).
Тем более удивительно то, что в последние десятилетия на гребне миграционного кризиса, с прибытием в Сицилию обширного потока “чужаков”, им, в основном африканцам и магрибинцам, на исторических рынках отводят место для торговли характерной для их диаспор пищей. “Рыночные” не комментировали факт такого допуска, только отмечали, что с мигрантов не взимается дань (ПМА 1).
Но сколь скудными ни были бы сведения об акторах торговли, даже они позволяют понять, что речь идет об очень архаичных, восходящих к эпохе Средневековья, законсервировавшихся сообществах, сохранивших во времени многие древние черты.
Исторические рынки примечательны не только своей “человеческой” спецификой, но и особой повышенной популярностью у населения, не имеющей ничего общего с рейтингом других локальных сбытовых структур или обычных рынков где-либо в Италии (Pellegrini 2001: 82–83). Так, по свидетельству 100% наших респондентов, представителей различных социальных слоев города и деревни, все они, независимо от посещения других торговых точек в основном рядом с домом, регулярно, несколько раз в неделю наведываются на исторические рынки. Многие при этом тратят значительное время и преодолевают большие расстояния, пересекая практически весь город либо совершая “паломничество” из деревень (ПМА 4). Такая необычно высокая частота визитов на рынки отмечена именно в Сицилии и не типична для всей остальной Италии (Cirelli 2019: 19). Это подтверждают и исследовавшие периодичность посещения различных сицилийских торговых точек социологи: они отмечают, что исторические рынки в регионе характеризуются “индексом повышенной частотности”5 (Sorgi 2015). При этом анализ состава посетителей показывает, что речь идет обо всех стратах общества (включая высшие) и обо всех возрастных категориях (не только о людях старшего и среднего возраста, как в среднем по Италии, но и о молодежи, что само по себе “в масштабах страны уже является социологическим исключением” [Sorgi 2015]).
В первую очередь популярность исторических рынков обусловлена сугубо экономическим фактором: цены там всегда ниже, чем в остальных торговых точках региона. Такая ценовая политика продиктована давно выбранной стратегией: торговцы и поставщики отпускают товар по более низким (по сравнению с общегородскими) ценам, компенсируя это значительно большими объемами продаж (Cirelli, Graziano 2019: 99). Утром цены выше, но начиная с полудня (по мере увядания свежего товара – овощей, фруктов, зелени, а также рыбы и мяса, по архаичной традиции выкладываемых не в холодильниках, а на подложке изо льда), они снижаются6. Меняется и социальный состав посетителей: утром превалируют более состоятельные клиенты, те, кто может позволить себе купить продукты посвежее, к середине дня наблюдается максимальный приток стремящихся сэкономить малоимущих покупателей (бедняков, пенсионеров, выходцев из народных слоев) (Cirelli 2019: 20).
Исторические рынки в Сицилии предлагают не только самый дешевый, но и самый свежий товар. Это связано с системой организации их снабжения, опирающейся на типичную, сугубо “сицилийскую модель слаженных, отработанных десятилетиями, а иногда и веками устойчивых контактов между династиями торговцев и поставщиков, каждое поколение которых наследовало от предков уже сложившиеся рабочие взаимоотношения с определенным проверенным партнером” (Giacomarra 2007: 77).
Кроме этого, необычайная привлекательность исторических рынков для сицилийцев связана с тем, что в области – регионе абсолютного гастронационализма7 и абсолютной приверженности всех слоев населения prodotto nostrano (с ит. “нашему”, т. е. “местному продукту”) – именно они максимально отвечают запросам большинства. Следуя древним традициям, они свободны от каких-либо “чужих” (ПМА 4), импортированных (в том числе “континентальных” итальянских) товаров и предлагают не просто исключительно сицилийские, но, в отличие от других точек сбыта, именно локальные товары, произведенные в данном городе или провинции (Bonanzinga 2007: 85–88).
Отметим, что мало где в Италии или Европе отношения потребителей с местами сбыта выходят за рамки сугубой коммерции и приобретают характер культа, как это происходит с историческими рынками, которые в видении населения предстают чем-то значительно большим, нежели просто торговые точки. Это отмечают как исследователи (Cirelli 2019: 23–24; Cirelli, Graziano 2019: 91), так и наши респонденты (ПМА 4). Последние подчеркивают, что далеко не всегда визиты на рынок объективно мотивированы и продиктованы реальными нуждами (так, примерно 90% опрошенных указывали на некую искусственность аутостимуляции своих частых походов на исторические рынки, когда материальный повод визита придумывается и “подгоняется” под желание просто “посетить это место”), и утверждают, что исторические рынки воспринимаются ими как некое “особое пространство” (ПМА 4).
Перечисляя факторы, делающие это пространство притягательным, респонденты, например, указывают, что на рынках (как и на саграх), в отличие от любых других торговых площадок, до сих пор в ходу только “живые, а не виртуальные деньги”, “наличный расчет, а не кредитные карты”, что “передача денег из рук в руки” способствует “девиртуализации обстановки”, “сохранению человеческих, межличностных контактов”, поддержанию “человечного духа начинания” и “неформальной атмосферы”, помогает противостоять “современным обезличивающим тенденциям” (ПМА 4). Такие ответы вполне типичны: Сицилия не только не является итальянским “флагманом цифровых преобразований”, она больше, чем другие области страны, тяготеет к отторжению цифровизации во всех формах и проявлениях (Cirelli 2019: 16), оставаясь тем самым “благословенно-отсталой” (Sorgi 2015). Как подчеркивали опрошенные, исторические рынки – “апогей сицилийского неприятия расчеловечивания” (ПМА 4), обусловленного “переводом всех экономических и социальных процессов в цифровой формат”: они остаются “очагами противодействия процессам дегуманизации социального общения” (Cirelli 2019: 23). Хотя такие настроения разделяют все жители региона, гегемонию наличного расчета на рынках положительно оценивают (помимо торговцев) в первую очередь респонденты “из народа”, руководствующиеся «классовым, древним, крестьянским доверием к осязаемым, материальным деньгам (которые можно пощупать и спрятать) и непреодолимым недоверием к их “эрзацам” – ценным бумагам, чекам, пластиковым картам, не говоря уже о виртуальных расчетах» (Billitteri 2003: 107).
Таким образом, в представлении сицилийцев исторические рынки – это некий “островок (финансовой) свободы”, место, где можно на время отгородиться от неприятных и негативных реалий современности, забыть о них, почувствовать себя комфортно, а также – пусть и в латентной форме – отторгнуть то, что кажется нежелательным.
Не менее привлекательно и сохранение на исторических рынках столь ценимого в Италии, особенно в южных ее регионах, “живого” и “прямого” межличностного контакта продавца и покупателя, не опосредованного банкоматом, кассой или присутствием кассира (Pellegrini 2001: 82). В процессе “игр обмена” население с радостью претворяет в жизнь ту традиционную, предпочитаемую в Сицилии социальную модель деловых взаимоотношений, которую К. Гирц, исследуя базар в марокканском г. Сефру, назвал “клиентелизацией” (считая ее неотъемлемой частью торговых отношений, присущих крестьянской экономике восточных базаров). Она предполагает существование устойчивых, продолжительных отношений между одними и теми же покупателями и продавцами, оптимизирует торг, делая его продуктивным (стороны конкретизируют частные аспекты сделки, не отвлекаясь и не расходуя время и силы на “подходы” друг к другу), и превращает толпу в устойчивое сообщество хорошо знакомых партнеров (Geertz 1978: 30). Стоит отметить в этой связи, что на исторических рынках сегодняшние продавцы и покупатели – часто потомки многих поколений давних рыночных контрагентов и что клиентелизация скрепляет многовековые торговые взаимоотношения не отдельных индивидов, а целых кланов.
Эта модель отношений органична для сицилийцев, поскольку воплощает в себе традиционные для них основы мироздания. В социуме, где каждая уважающая себя семья и сегодня продолжает обращаться к услугам “своих” врача, нотариуса, адвоката, бакалейщика и т. д. и даже “своей”, “доверенной” проститутки, где основополагающим принципом ведения дел и существования в общественном пространстве по-прежнему остается поиск “нужного”, а точнее – “знакомого” лица, в силу довления векового приоритета “живого” межличностного контакта над абстрактным официальным (Billitteri 2003: 104), клиентелизация подразумевает превращение любого незнакомого социального пространства, потенциально чуждого и враждебного, в “свое”, освоенное, контролируемое. Это освоение пространства представляет собой один из реликтовых архетипов средневекового мышления, столь сильных в консервативной Сицилии, и психологически импонирует посетителям исторических рынков (Randazzo 1985: 52).
Показательно, насколько по-разному трактуют понятие “свое пространство” представители различных страт общества, говоря о рынках. Респонденты из “народа” ощущают их “своими”, так как в лице и торговцев, и населения рыночных кварталов имеют дело с классово-близкой средой, в которой исповедуются близкие им морально-этические и культурные ценности (ПМА 4). Представители среднего и высшего классов, а также интеллигенция апеллируют к “культурному иммунитету” рынков, видя в них «сгустки “своей”», т. е. сицилийской традиционной, культуры, не деформированной итальянизацией либо американизацией, а также “арену архаичных культурных проявлений, где прошлое ощущается сильнее всего” (Там же). Расспросы показывают, что под “своей культурой” понимается целый ряд сохраняющихся “привычных” и “типичных”, “связанных с прошлым” традиционных культурных составляющих (социовербальных, визуально-изобразительных, тактильных, поведенческих и т. д.), которые, по горькому признанию респондентов, постепенно размываются в современном социуме и уходят из “внерыночного” пространства (Там же).
В ходе опросов прозвучало лингвистическое обоснование привлекательности этих архаичных торговых структур для населения: все без исключения респонденты крайне высоко оценивают тот факт, что исторические рынки являются территорией абсолютного господства сицилийского языка, а это, по их мнению, позволяет ощутить “свою принадлежность к единому народу”, “противопоставить себя итальянцам и остальному миру” и т. д. (Там же). Монолингвизм исторических рынков отмечают и проводившие там полевые исследования ученые, подчеркивающие, что языковой фактор тесно связан с идентитарными настроениями, доминирующими сегодня в сицилийском социуме и достигающими своего апогея именно на рынках (Sottile 2005: 93). Лингвистическая монолитность рынков становится особенно ценной в условиях сегодняшнего ослабления позиций сицилийского идиома не только и не столько под давлением итальянского языка, сколько под натиском “современной унифицированной интернациональной массовой культуры, вербальной культуры глобализма и компьютерных техологий” (Ibid.: 95).
Обсуждая причины притягательности исторических рынков, респонденты (60% опрошенных) указали, что перспективы широкого социального общения в рыночном пространстве (“выход на люди”, “возможность пообщаться”, “погружение в живую человеческую атмосферу”) привлекают не меньше, чем “выгодная покупка” (ПМА 4). Эта склонность к общению, занимающая важное место в системе традиционных ценностей и поведенческих стереотипов всех итальянцев, по мнению ученых, обусловленная такими чертами национального характера, как “повышенная контактность и коммуникабельность, открытость, эмфатизированная склонность к коллективно переживаемым впечатлениям и опыту” (Censis 2013: 104), в Сицилии достигает своего апогея и порой кажется утрированной (Billitteri 2003: 64). Отметим, что особенно сильно эта тяга к “существованию в толпе и растворению в ней”, как обозначили данную психологическую и поведенческую черту исследователи (Pregnolato Rotta-Loria 1998: 104), проявляется сегодня после вынужденных ограничений общения в эпоху пандемии.
При этом понятие “общительность” порой своеобразно интерпретируется некоторыми респондентами: под ним подразумевается “телесная контактность” и “тактильность” (ПМА 4). Поясним: как показали проводившиеся в различных регионах Италии антропологические исследования локальных стереотипов проксемики, Сицилия обнаружила, в первую очередь в среде городских низов, явную склонность к “тесноте” и к повышенной физической контактности. Иными словами, тесное физическое соседство и пребывание в толпе не только не вызывает отторжения у сицилийцев, но и оказывается для них психологически комфортным (Pregnolato Rotta-Loria 1998: 104). Это подтвердили и региональные исследования границ межличностных дистанций и степени допустимой физической контактности. Было выявлено, что на городских “народных площадках” (в кварталах обитания низших классов социума, на исторических рынках и т. д.) больше, чем в местах локализации других социальных слоев, население положительно оценивает резкое сокращение дистанции в межличностном общении и пребывание в окружении большого скопления людей, считая такие условия оптимальными для себя. Такой выбор исследователи трактуют как своеобразное атавистическое проявление инстинкта самосохранения, поскольку присутствие толпы и чувство локтя в прямом и переносном смысле дарует ощущение безопасности (Ariolo 2005: 54–56). Именно поэтому исторические рынки с их толчеей, в согласии с народными идеалами проксемики, особенно высоко оцениваются респондентами и оказываются своего рода местами повышенной комфортности (ПМА 4).
Такая группа респондентов, как представители интеллигенции и люди с высоким культурно-образовательным уровнем (34% опрошенных), перечисляя причины притягательности для них исторических рынков, к числу приоритетных относили и эстетическую привлекательность этих торговых институтов. Речь идет о яркости самой снеди, ее подсветке, о характерном, веками отработанном красочном оформлении товаров (напр., выложенную на лед рыбу традиционно украшают красными гвоздиками, мясо – белыми), о прилавках, каждый из которых представляет собой натюрморт, а в совокупности они создают неповторимый, порой варварский, но зрелищный и привлекательный хроматический ансамбль, а также о разноцветных тентах над ними (Там же).
Рис. 3. Прилавок с овощами. Исторический рынок Капо. Палермо. 2023 г. Фото автора
Отмечалась и некая нарочитая сценичность, задающая тон поведению продавцов и покупателей, вовлекаемых в действо и осознанно или бессознательно начинающих “подыгрывать” общему постановочному сценарию происходящего. По признанию респондентов, многих посетителей рынка манит возможность стать зрителем или активным участником “игр обмена” во всей их полноте (ПМА 4).
При том что всем рынкам присуща театральность8, именно на исторических рынках, как отмечают антропологи, она “проявляется с необычайной силой” (Buttitta 2007: 16). Это обусловлено тем, что повышенная вербальная и поведенческая экспрессивность сицилийцев, эмфатизированный характер присущих им эмоций и их аффектированного выражения, помноженные на балаганную природу рынков в целом и на “сохранившиеся в Сицилии и закрепленные в веках средневековые культурные традиции и каноны поведения”, а также на “законсервированные в культурной памяти населения архаичные сценарии народных шутовских представлений”, предопределяют атмосферу, царящую на исторических рынках с их диалогами, шутками, солеными репликами и т. д., и превращают «рыночных акторов торговли и сторонних участников в “актеров” и “со-участников” происходящего – этого par excellance карнавального действа» (Bonanzinga 2007: 100–102).
Как мы полагаем, существует еще одна, на наш взгляд, приоритетная, причина притягательности исторических рынков. Она связана с понятием бессознательного, сенсориального оптимума – существующего у всех общностей набора факторов, который способен вызвать у индивидов положительные эмоции и ощущение полного физического, психологического и эмоционального благополучия, комфорта и принадлежности к чему-то “своему” (этот феномен детально исследовал антрополог Д. Ле Бретон). Основными детерминантами этого оптимума являются хроматико-визуальные, ольфакторные, акустические, гастические, тактильные факторы (увиденные краски, цвета; ощущаемые запахи; услышанные звук, мелодия, речь; почувствованный “на языке” вкус; физическое соприкосновение с другим человеком или предметом) (Le Breton 2006: 43–100, 223–350), которые могут дополняться социальными (лингвистико-акустическими или визуальными: характерные реплики, шумы; увиденные сценки, человеческие фигуры, пейзажи и т. д.) факторами (Ariolo 2005: 48–53; Bonanzinga 2007: 85–95). Переживания, обусловленные совокупностью этих факторов (или некоторыми из них), даруют человеку ощущение чего-то “родного” и “безопасного” и способствуют достижению состояния внутреннего покоя и комфорта.
Характерный звуковой фон, красочность выложенных на всеобщее обозрение товаров, острые запахи и живописная грязь исторических рынков (не случайно они зачастую именуются “грязными рынками” [сиц. mircatu ri grascia]), расположенных в наиболее древних городских районах, среди средневековых построек, а иногда и среди развалин9, ассоциируются не только у сицилийцев, но и у стороннего наблюдателя10 отнюдь не с жизнью европейского региона эпохи постмодерна, они коннотируют с реалиями других регионов и культур и других хронологических пластов, порой очень древних.
Рис. 4. Прилавок зеленщика. Исторический рынок Вуччерия. Палермо. 2022 г. Фото автора
Учитывая, что в Сицилии, регионе крайней консервативности, существует “культ былого” и что “сицилийцы весьма преданы ему – порой больше, чем настоящему и будущему” (Billitteri 2003: 189), а население массово обнаруживает ту “коллективную ностальгию по прошлому”, которая, согласно А. Аппадураи, есть фактор этнической/национальной консолидации общности (Appadurai 2001: 28), не удивительно, что именно на исторических рынках, этих пространствах “замершего времени”, “вневременных или, по крайней мере, далеких от сегодняшнего дня конструктах, перенесенных в условия современности” (Barilaro 2009: 11), благодаря концентрации привычных “элементов бытия” (красок, вкусов, запахов, фигур, звуков и т. д.) многие глубоко погружаются в былое, в воспоминания детства, в пространство, описанное еще родителями и дедами, в мир, который и сегодня остается неизменным, обнаруживающим иммунитет к современным метаморфозам и течению времени (ПМА 4). Можно с полным основанием считать, что исторические рынки в эмическом видении населения суть не только торговые площадки, но и “места памяти” (Nora 1984–1992) – т. е. точки, где память активизируется, где сосредоточена тоска по былому, где воссоздается прошлое и сконцентрировано сохраненное традиционное духовное и материальное начало (ПМА 4). Именно это делает столь популярными среди сицилийцев исторические рынки и приницпиально отличает их от обычных рынков в Сицилии, в Италии или в других странах.
Подводя итог исследованию, отметим, что мир исторических рынков не следует идеализировать. За привлекательным для туристов и для многих сицилийцев фасадом традиций и архаичной самобытности часто скрывается не менее традиционное “пространство негативного своеобразия” (Cusumano 2012: 122). На территории этих торговых структур, например, регулярно нарушается закон, заключаются теневые сделки, процветают черная экономика, бытовая преступность и азартные игры, здесь скрываются от правоохранительных органов разыскиваемые, осуществляется наркотрафик, находят приют нелегальные мигранты и т. д. (Cusumano 2012: 132; Settineri 2020: 7–10). Как подчеркивают сами “рыночные” и подтверждают представители силовых структур, “рынки не синонимичны мафии” и не входят в число объектов ее контроля (ПМА 1, 2), однако они «представляют собой особенные территории с устоявшимися во времени альтернативными нормами права и принципами существования “по понятию”, далекими от общепринятых» (Settineri 2020: 7). При этом ситуации правонарушений на территории исторических рынков или разрешаются силами самих “рыночных” (так, у обворованных туристов велики шансы получить назад украденное), или – в случае серьезного деяния – виновные передаются в руки правоохранителей только после “предварительного дознания”, проведенного “внутри” рынков» (ПМА 1).
К сожалению, ни объем полевого материала, ни рамки статьи не позволяют во всей полноте раскрыть социокультурную модель исторических рынков. Однако очевидно, что для сицилийцев эти древние структуры являются особыми (не просто торговыми) пространствами, они представляют собой архаичные микро- и макрокосмы внутри сицилийского общества, по традиции сохраняющие свою автономию и культуру. По отношению к ним вполне применимы слова автора работ по символической антропологии, исследователя повседневности развитых обществ Запада М. Оже, утверждавшего, что “город (под которым понимается не только населенный пункт, но и любая значимая социальная структура в его составе. – О.Ф-Л.) всегда имел хронологическое существование, часто выходящее за рамки пространственного и придающее ему выдающееся положение”, и что “это пространство представляет собой реалию, иллюзию и аллюзию” (Augè 2007: 74, 76) – последнее, на наш взгляд, как нельзя более точно отражает суть исторических рынков.
Сегодня, в условиях пост- и неоглобализма, когда даже в таком консервативном регионе, как Сицилия, сдвинулись с мертвой точки и пришли в движение феномены, которым, казалось, суждено было оставаться неизменными на века, когда под давлением ЕС и под натиском приходящих извне инноваций стали исчезать многие традиционные культурные явления и виды хозяйственной деятельности, сохраняющие витальность исторические рынки остаются квинтэссенцией и одним из оплотов прошлого, занимающего важное место в системе мировидения сицилийцев. В отличие от большинства итальянских и европейских рынков, эти структуры объективно и субъективно являются не только локусами торговли, но и сконцентрированными сгустками “своей” культуры, очагами привычности, “местами памяти”, позволяющими окунуться в былое. Поэтому потребность сохранить эти институты испытывают и те, кто их “населяет”, и те, кто “припадает к ним” в поисках материальной, духовной, культурной традиции. Абсолютная востребованность этих архаичных торговых структур обуславливает их витальность. Значимость исторических рынков как олицетворения и средоточия “локального” и “архаичного” – для сицилийцев двух приоритетных категорий – еще больше возрастает в условиях современной переоценки ценностей, растущей преданности “своей” культуре и “сильнейшей интенсификации идентитарных настроений в регионе, заставляющих все чаще обращать пристальное внимание на органичные культурные местные институты и на сохранение их жизнесособности” (Sorgi 2015).
Источники и материалы
ПМА 1 – Полевые материалы автора. Опросы в Сицилии (2012–2023 гг.). Опросная группа – 19 человек.
ПМА 2 – Полевые материалы автора. Опросы в Сицилии (2023 г.). Опросная группа – 6 человек.
ПМА 3 – Полевые материалы автора. Опросы в Сицилии (2023 г.). Информант Руджеро Мансуэто (Ruggero Mansueto). 1965 г. р.
ПМА 4 – Полевые материалы автора. Опросы в Сицилии (2012–2024 гг.). Опросная группа – 156 человек.
Billitteri 2003 – Billitteri D. Homo Panormitanus. Cronaca di un’estinzione impossibile. Palermo: Sigma, 2003.
Censis 2013 – Censis. I valori degli italiani. Venezia: Marsilio, 2013.
Controlli anti Covid 2020 – Controlli anti Covid nei mercati storici, chiusi tre esercizi commerciali // Cataniatoday. 08.08.2020. https://www.cataniatoday.it/cronaca/controlli-fiera-mercati-storici-coronavirus-comune-catania.html
De Felice 1956 – De Felice F. Storia del teatro siciliano. Catania: Giannotta, 1956.
Mercati tipici a Firenze s. d. – Mercati tipici a Firenze // Aboutflorence.com. https://www.aboutflorence.com/firenze/mercati-tipici-a-Firenze.html (дата обращения: 13.11.2023).
Schirò s. d. – Schirò S. I Lattarini, l’antico mercato arabo di Palermo // Palermoviva.it. https://www.palermoviva.it/i-lattarini-lantico-mercato-arabo-di-palermo (дата обращения: 13.11.2023).
Stigliano 2020 – Stigliano M.-R. Il Mercato di Sant’Agostino // Ilcantooscuro. 12.09.2020. https://ilcantooscuro.wordpress.com/2020/09/12/il-mercato-di-santagostino
Примечания
1 Особую ценность представляют интервью рыночных торговцев (ПМА 1) – очень закрытого сообщества, а также представителей правоохранительных органов (ПМА 2).
2 Уместно в этой связи вспомнить тот факт, что в Средние века понятие “Магриб” интерпретировалось не только как совокупность территорий Западной и Северной Африки, но включало и мусульманскую Испанию (Аль-Андалус), а также другие владения арабов в западной части Средиземноморья, в том числе и Сицилию, Сардинию, Балеарские острова.
3 Например, церковь Св. Козьмы и Дамиана на рынке Capo в Палермо.
4 Эта проблема актуализировалась сегодня, когда нарушается традиция и далеко не все сыновья торговцев готовы продолжать дело отцов, что ставит вопрос о “воспроизводстве” торгующей стороны.
5 Этот индекс частоты посещений стал еще выше в эпоху пандемии: в силу своей открытости исторические рынки оказались единственными торговыми структурами в Сицилии, которые власти сочли возможным не подвергать санкциям и ограничениям (это в итоге привело к тому, что приток на рынки людей невероятно увеличился) (Controlli anti Covid 2020).
6 Такая практика редко встречается где-либо еще в Италии: на рынках, не говоря уже о магазинах, цена товара остается неизменной, какими бы ни были время продажи, уровень сбыта и состояние товара (Pellegrini 2001: 92).
7 Традиции пищевого патриотизма очень сильны во всех регионах Италии, делая эту страну в масштабе Европы лидером защиты своей алиментарной самости; при этом они усиливаются по мере продвижения с Севера страны на Юг и достигают своего апогея в Сицилии (Cappati, Montanari 2000: 35).
8 Об этом писали и М.М. Бахтин, трактовавший торжища, праздники и площади как места сосредоточия смеховой культуры (Бахтин 1990: 9–10), и историки народного театра в Сицилии (см., напр.: De Felice 1956), и исследователи исторических рынков (см., напр.: Bonanzinga 2007: 85–118).
9 Напомним, что в 1943 г. союзники подвергли бомбардировкам многие населенные пункты Сицилии, в некоторых из них до сих пор сохраняются руины.
10 В последние десятилетия исторические рынки превратились в непременный объект туристических паломничеств, куда гиды массово приводят гостей острова.
About the authors
Oxana D. Fais-Leutskaia
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: oxana-fais@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-2757-2434
к. и. н., старший научный сотрудник центра европейских исследований
Russian Federation, 32-a Leninsky prospect, Moscow, 119991References
- Aime, M. 2002. La casa di nessuno – I mercati in Africa occidentale [Nobody’s House-Markets in West Africa]. Torino: Bollati Boringhieri.
- Appadurai, A. 2001. Modernità in polvere [Modernity in Powder]. Sesto San Giovanni (MI): Meltemi.
- Ariolo, L. 2005. Il “linguaggio codificato”: suoni-odori-colori-tradizioni [The “Coded Language”: Sounds-Smells-Colors-Traditions]. In Il teatro dell’esistenza. Palermo e i suoi mercati [The Theater of Existence: Palermo and Its Markets], by M.T. Calcara, et al., 45–61. Palermo: Anteprima.
- Augè, M. 2007. Tra i confini. Città, luoghi, interazioni [Between Borders: Cities, Places, Interactions]. Milano: Mondadori.
- Bakhtin, M.M. 1990. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul’tura srednevekov’ia i Renessansa [The Ooeuvre of Francois Rabelais and the Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moscow: Khudozhestvennaia literatura.
- Barilaro, C. 2009. I luoghi della memoria e dell’identità culturale. Fiere, mercati e sagre dei Nebrodi [Places of Memory and Cultural Identity: Fairs, Markets and Sagre of Nebrodi]. Geotema 38: 11–17.
- Bonanzinga, S. 2007. Il mercato dell’abbondanza. Pratiche di ostensione nei mercati siciliani [The Market of Abundance: Practices of Display in Sicilian Markets]. In Mercati storici siciliani [Historic Sicilian Markets], edited by O. Sorgi, 85–118. Palermo: Regione Siciliana.
- Brøgger, B. 2009. Economic Anthropology, Trade and Innovation. Social Anthropology 17 (3): 318–333.
- Buttitta, A. 1995. Elogio della cultura perduta [Praise of Lost Culture]. Nuove Effemeridi 8 (32): 2–10.
- Buttitta, A. 2007. Elogio del mercato [Praise of the Market]. In Mercati storici siciliani [Historic Sicilian Markets], edited by O. Sorgi, 15–16. Palermo: Regione Siciliana.
- Calabi, D. ll mercato e la città. Piazze, strade, architetture d’Europa in età moderna [The Market and the City: Squares, Streets, Architecture of Europe in the Modern Age]. Venezia: Marsilio, 1993.
- Cappati, A., and M. Montanari. 2000. La Cucina italiana. Storia di una cultura [Italian Cuisine: History of a Culture]. Roma-Bari: Laterza.
- Cirelli, C. 2019. Commercio, consumo e città in Sicilia [Commerce, Consumption and Cities in Sicily]. In Le strade del commercio in Sicilia [The Roads of Commerce in Sicily], edited by G. Cusimano, 15–27. Milano: Franco Angeli.
- Cirelli, C., and T. Graziano. 2019. Le vie del commercio a Catania. Rievocazioni stortiche e configurazioni attuali [The Ways of Commerce in Catania: Historical Reenactments and Current Configurations]. In Le strade del commercio in Sicilia [The Roads of Commerce in Sicily], edited by G. Cusimano, 89–102. Milano: Franco Angeli.
- Cusumano, A. 2012. Culture alimentari e immigrazione in Sicilia. La piazza universalе è a Ballarò [Food Cultures and Immigration in Sicily: The Universal Square is in Ballaro]. In Alimentazione, produzuioni tradizionali e cultura del territorio [Food, Traditional Products and Culture of the Territory], edited by S. Mannia, 121–141. Palermo: Fondazione Ignazio Buttitta.
- D’Angelo, F. 2007. I mercati di quartiere di Palermo [The Block Markets of Palermo]. In Mercati storici siciliani [Historic Sicilian Markets], edited by O. Sorgi, 127–132. Palermo: Regione Siciliana.
- Derrida, J. 2014. Resistenze. Sul concetto di analisi [Resistences: On the Concept of Analysis]. Napoli: Orthotes.
- Fais, O. 2013. “Istoricheskie rynki” v Sitsilii kak forposty sokhraneniia traditsionnoi kul’tury [“Historical Markets” in Sicily as Outposts for the Preservation of Traditional Culture]. In Ocherki o evropeiskoi identichnosti i mnogokul’turnosti [Essays on European Identity and Multiculturalism], edited by M.Y. Martynova, 1: 171–258. Moscow: IEA RAN.
- Fais-Leutskaia, O. 2023. Sagry v Italii: traditsii, opyt, sotsial’nye aspekty [The Sagras in Italy: Traditions, Experience, Social Aspects]. Vestnik antropologii 3: 144–164.
- Geertz, C. 1973. The Interpretation of the Cultures. New York: Basic Books.
- Geertz, С. 1978. The Bazaar Economy: Information and Search in Peasant Marketing. American Economic Review 68 (2): 28–32.
- Giacomarra, M. 2007. Il mercato: scambio di merci, scambio de messaggi [The Market: Exchange of Goods, Exchange of Messages]. In Mercati storici siciliani [Historic Sicilian Markets], edited by O. Sorgi, 75–80. Palermo: Regione Siciliana.
- Giallombardo, F. 2003. La tavola, l’altare, la strada. Scenari del cibo in Sicilia [The Table, the Altar, the Road: Food Scenarios in Sicily]. Palermo: Sellerio.
- Hubert, H. 2006. Alimentazione [Feeding]. In Dizionario di Antropologia ed Etnologia [Dictionary of Anthropology and Ethnology], edited by P. Bonte and M. Izard. Torino: Einaudi.
- La Duca, R. 1994. I mercati di Palermo [The Markets of Palermo]. Palermo: Sellerio.
- Le Breton, D. 2006. La Saveur du monde. Une anthropologie des sens [Flavor of the World: An Anthropology of the Senses]. Paris: Métailié.
- Lyon, S. 2021. Anthropological Perspectives on Fair Trade. In Oxford Research Encyclopedias. Anthropology. 29.10.2021. https://doi.org/10.1093/acrefore/ 9780190854584.013.521
- Nora, P. 1984–1992. Les Lieux de Mémoire [The Places of Memory]. 3 vols. Paris: Gallimard.
- Pellegrini, L. 2001. Il commercio in Italia [Trade in Italy]. Bologna: Il Mulino.
- Pregnolato Rotta-Loria, F. 1998. Antropologia e prossemica [Anthropology and Proxemics]. Udine: Campanotto.
- Randazzo, S.B. 1985. Sicilianità. Subcultura, tradizioni, ethos e comportamenti, tendenzialità [Sicilianity: Subculture, Traditions, Ethos and Behaviors, Bias]. Palermo: EDI OFTES.
- Settineri, D. 2020. Migrations, Power and Urban Spaces in Sicily Though an Ethnografic Case Study. Vestnik antropologii 4: 7–19.
- Soltanzadeh, H. 2004. Iranian Markets. Tehran: Cultural Research Center.
- Sorgi, O. 2007. I mercati siciliani tra persistenza e cambiamento [The Sicilian Markets among Persistence and Change]. In Mercati storici [Historical Markets], edited by O. Sorgi, 59–84. Palermo: Regione Siciliana.
- Sorgi, O. 2015. I mercati di Palermo fra storia e attualità. Un fenomeno di lunga durata [The Markets of Palermo between History and Current Events: A Long-Lasting Phenomenon]. Dialoghi Mediterranei 12. https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-mercati-di-palermo-fra-storia-e-attualita-un-fenomeno-di-lunga-durata
- Sottile, R. 2005. Il mercato in città: contesti comunicative-relazionali a Ballarò e al Capo di Palermo [The Market in the City: Communicative-Relational Contexts in Ballaro and Capo di Palermo]. In Dialetti in città [Dialects in the City], edited by G. Marcato, 93–98. Padova: Unipress.
Supplementary files