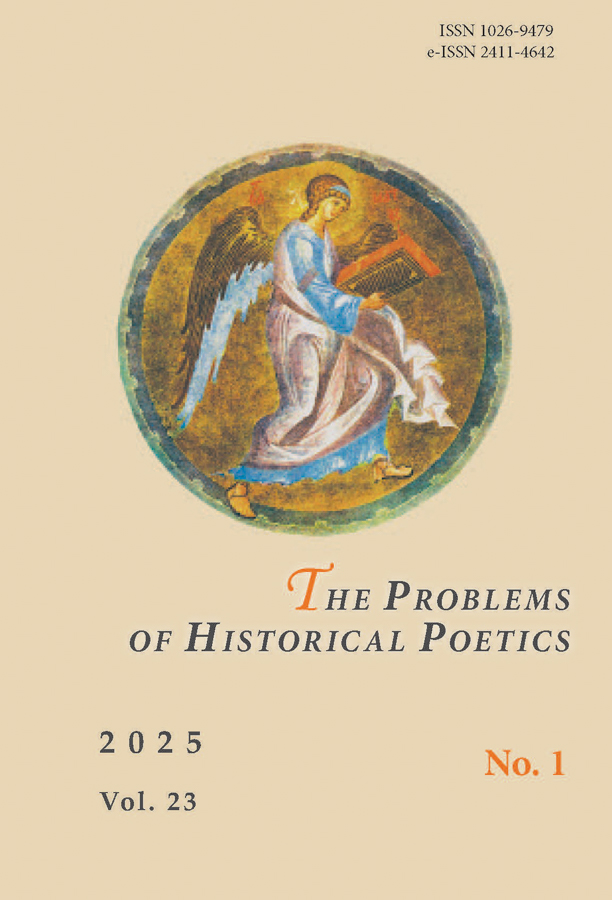Poetics of the Fairy Tale “Putem-dorogoyu” (“On the Road”) by M. E. Saltykov-Shchedrin
- Authors: Alyakrinskaya M.A.1
-
Affiliations:
- Russian Academy of Public Administration – Northwestern Institute of Management
- Issue: Vol 22, No 3 (2024)
- Pages: 127-141
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9479/article/view/276270
- DOI: https://doi.org/10.15393/j9.art.2024.13882
- EDN: https://elibrary.ru/KBFOEQ
- ID: 276270
Cite item
Full Text
Abstract
The fairy tale “Putem-dorogoyu” by M. E. Saltykov-Shchedrin is traditionally regarded to be an “accident” in the cycle of “Fairy Tales,” and is interpreted as a social story in terms of genre and thematically — as an invariant of the fairy tale “The Voron-Chelobitchik.” The author of the article believes that “Putem-dorogoyu” is an original work with its own problematics, which is not classified as “a story of everyday life” already by virtue of the author’s designation of the genre, namely, “conversation” (dialog). The dialog genre presupposes the fusion of philosophical and literary discourses; “conventionally schematic” type of interlocutor characters who often represent a certain ideological contrast. The heroes of “Putem-dorogoyu” Ivan Bodrov and Fyodor Golubkin personify opposite types of national consciousness, which is manifested in the semantics of their names, which have a stable system of connotations in the Russian anthroponymicon; the names largely determine their mode of behavior. In addition, the heroes’ dialog is projected onto mythological and fairy-tale plots about the dispute between Truth and Lie (Krivda), which allows to consider the problem of the search for Truth in the context of deep national-cultural attitudes and stereotypes; the struggle of the Christian world against the “non-Christian” world; to qualify the readiness of one of the heroes (Fyodor) to fight against the hostile society as readiness for Christian heroism and, hence, martyrdom. The poetics of the fairy tale, formed at the junction of philosophical dialog, magic-tale motifs (serpent-fighting, the way-road) and folk mythological symbolism, leads the reader to a complex of philosophical and historical reflections regarding Russia’s fate. The author’s concept of “Putem-dorogoyu” relates to the problem of violence, “blood” in history: the fairy tale can be regarded as the writer’s forecast of the upcoming historical upheavals.
Full Text
Сказка «Путем-дорогою», написанная М. Е. Салтыковым-Щедриным в августе 1886 г., не принадлежит к числу известных произведений сатирика, ее даже рассматривают в качестве некой «случайности» в цикле «Сказок»1, квалифицируя в жанровом отношении как «социально-бытовой» [Баскаков, Бушмин: 438] или «бытовой рассказ» [Макашин: 368], «рассказ о нужде и страданиях трудового крестьянского "мира" и мужицком правдоискательстве» [Баскаков]. Тематически сказку «Путем-дорогою» обычно объединяют со сказкой «Ворон-челобитчик», интерпретируя ее текст в качестве инварианта последней [Баскаков, Бушмин: 439].
Между тем «Путем-дорогою» — оригинальное произведение, уникальное прежде всего тем, что оно — единственное в книге «Сказок» — отражает народное миросозерцание, воспроизводит тип русского человека «с его прошедшим и настоящим, с его экономическими и этнографическими условиями…»2. Как справедливо отметила Е. А. Бузько, Салтыков-Щедрин в исследовании духовной жизни народа «шел собственным путем» [Бузько: 730], и знаменательно, что на склоне лет он вновь обратился к вопросу о народно-христианском идеале3, его соотношении с жизнью общества. Однако в сказочном цикле народная тема уже интерпретируется сатириком согласно принципам его авторской поэтики 1880-х гг., для которой характерны иносказательность и высокая степень условности, причем эти качества присущи не только «зоологическим», но и так называемым «социально-бытовым» сказкам, которые, как принято считать, «отходят» от «жанра сказки в собственном смысле слова» [Баскаков, Бушмин: 438]. Представляется, что и в произведении М. Е. Салтыкова-Щедрина «Путем-дорогою» присутствуют аллегоричность и ярко выраженный символизм, способствующие возникновению у этого текста малой формы способности к философским и социально-историческим обобщениям (что, вероятно, и обусловило для автора правомерность включения его в «Сказки»).
Стилизация «Путем-дорогою» под бытовой рассказ обманчива уже ввиду наличия авторского определения жанра: «разговор» (диалог). Диалог как форма художественного изложения материала (прежде всего философских взглядов) и как жанр возник в Античности, философский диалог получил широкое распространение в литературе и публицистике Просвещения4; характерной его особенностью является слияние философского, публицистического и художественного дискурсов; универсализм, выяснение истины в опоре на противоположные мнения. Салтыков-Щедрин, близкий по своим художественным установкам эстетике Просвещения, неоднократно использовал жанр диалога в качестве вставной конструкции в своих художественно-публицистических циклах; диалоги на идеологической основе — один из «основополагающих принципов» его поэтики [Строганова: 18].
В бесфабульном диалоге, по замечанию А. В. Луначарского, сюжетом служит движение мысли, дающее возможность «объективно изложить ряд мнений, взаимно поднимающих и дополняющих одно другое, построить лестницу воззрений и подвести к законченной идее» [Зунделович: 268]. В такой художественно-риторической структуре герои-собеседники осуществляют главным образом функцию средства развития мысли, поэтому в качестве этих героев способны выступать «схематические «анонимные» А, В, С» [Зунделович: 269]. Эрнест Ренан, автор философских диалогов, изданных в Париже в 1876 г., в предисловии к ним заметил, что собеседники его «разговоров» — абстракции, изображающие не «живых лиц, а существующие или возможные настроения интеллекта»5.
Безусловно, персонажей сказки «Путем-дорогою» Ивана Бодрова и Федора Голубкина нельзя считать «абстракциями», это крестьяне, хотя и изображенные с определенной долей схематизма, — не случайно в их характеристике самыми семантически значимыми элементами являются имена и фамилии, которым принадлежит существенная роль в создании семантической структуры произведения. Салтыков-Щедрин вообще придавал громадное значение антропонимике, большинство имен в его произведениях функционируют на правах эпитета6, относятся к категории тех, которые доросли до «семантически выделенного образа», где «имя обрастает плотью и становится образом человека данного имени» [Топоров, 2010: 44]. В произведении М. Е. Салтыкова-Щедрина «Путем-дорогою» имя также служит знаковым обозначением поведенческой линии героев-собеседников, во многом определяя сюжет сказки.
В диалоге участвуют два собеседника. Первый — Иван Бодров — носит имя, оцениваемое как наиболее частотное, «типичное» в русском антропонимиконе7; имя-символ, с которым ассоциируют русского человека в принципе. Именно в таком качестве использовано это имя во многих произведениях Салтыкова-Щедрина: в сказке «Соседи» «Иванами» зовутся все основные герои (Иван Бедный, Иван Богатый и Иван Простофиля); в «Истории одного города» «Ивашки» — самая ходовая разменная монета («…сбросили с раската двух граждан: Степку да Ивашку. <…> …утопили <…> Порфишку да другого Ивашку» (8: 292); «сбросили с раската Тимошку да третьего Ивашку <…> утопили Прошку да четвертого Ивашку» (8: 294); пятого Ивашку вздернули на дыбу (8: 301) (курсив наш. — М. А.)). Что касается фамилии «Бодров», то она не очень распространенная, во всяком случае, отсутствует в целом ряде справочников8. Б. Унбегаун утверждает, что фамилии, образованные от бессуфиксальных прилагательных, типа Густов, Чистов, Щедров, редки в русском языке [Унбегаун: 141]. Все это заставляет думать, что фамилия Бодров была скорее искусственно создана, чем взята из жизни Салтыковым-Щедриным, семантически она явственно характеризует присущую «Ивашкам» способность самовозрождения; в целом «Иван Бодров» — символическое воплощение такого вечного «Ваньки-встаньки», стойкого в жизненных бедствиях и выработавшего умение «бодро» реагировать на них.
Имя второго персонажа — Федора Голубкина — явление более сложное. В буквальном переводе с греческого Федор (Феодор) — «дарованный Богом», на присутствие божественного начала намекает также фамилия (голубь — символ Святого Духа), аналогичные фамилии часто давались представителям духовенства [Унбегаун: 175], [Ведина: 118]. Кроме того, фамилия Голубкин соотносима с идеонимом «Голубиная книга» — названием древнерусского духовного стиха, текст которого, впервые опубликованный в XIX в., активно изучался и комментировался в русской филологической науке и журнальной публицистике начиная с 1820-х гг.; этот текст явно и неявно присутствует и в сказке Салтыкова-Щедрина, во многом определяя ее смысловой концепт.
Смысл философского спора Ивана Бодрова и Федора Голубкина связан с поисками Правды, причем спор этот рассматривает тему Правды широко, затрагивая различные ее аспекты: собственно философский, церковно-религиозный, народно-поэтический и литературный, а также общественно-политический9. В плане философском обращают внимание слова Ивана Бодрова о том, что Правда «на дне колодца сидит спрятана» (т. 16; кн. 1: 190) — это отсылка к гносеологии Демокрита, полагавшего, что «человек удален от истинной действительности» и что «истина — в глубине» [Солопова: 313]. Что касается церкви, то герои согласны, что там «на всех стенах Правда написана, только со стены-то ее не снимешь» (т. 16; кн. 1: 190). В плане общественно-политическом постановка проблемы Правды связана с «толстовством», широко обсуждаемым на страницах русских журналов в период написания сказки «Путем-дорогою»: отражением этой полемики является осуждение героями сказки некоего московского «начетчика», призывающего жить «по правде»:
«Сыт, должно быть, этот начетчик, оттого и мелет» (т. 16; кн. 1: 192).
Однако в центре рассмотрения собеседников (и, соответственно, в центре смыслового поля сказки) оказывается народно-поэтический, глубинный аспект проблемы Правды и Кривды, представленный в тексте многочисленными аллюзиями, связанными с мифологической, фольклорной и литературной традициями. Спор Правды и Кривды — один из сюжетов мировой литературы, истоки которого восходят к глубокой древности: так, в литературе Древнего Египта известна сказка, герои которой — два брата, названные абстрактными именами Правды и Кривды, — являются «антропоморфными воплощениями справедливости и несправедливости» [Коростовцев: 74]10. В славянской мифологии, как указывают В. В. Иванов и В. Н. Топоров, спор Правды и Кривды имеет началом индоевропейскую традицию; «наиболее отчетливо» этот спор отразился в «Голубиной книге» [Иванов, Топоров]. В последней борьба Правды и Кривды в символическом сне царя Владимира представлена как борьба двух зверей, в результате которой Правда побеждает Кривду и попадает на небеса, оставляя царствовать на земле последнюю:
«Правда Кривду переспорила.
Правда пошла на небеса
К самому Христу, Царю Небесному;
А Кривда пошла у нас вся по всей земле,
По всей земле по свет-русской,
По всему народу христианскому»11.
Именно такими мифологемами мыслят герои «Путем-дорогою»: как утверждает Иван Бодров, Правда обитает у Бога:
«Бог ее на небо взял и не пущает» (т. 16; кн. 1: 191).
Философские народно-поэтические представления об отсутствии в мирской жизни Правды герои подкрепляют аргументами практического характера: так, у них, ревностных работников, нет ни денег, ни хлеба, ни прав, ни защиты от многочисленных зол, что явно не соответствует Правде-справедливости. На протяжении развертывания диалога факты торжества Кривды на Земле бесконечно множатся, создавая и усиливая ощущение ее всевластия, достигая кульминации в последней фразе текста:
«— Смотри, Федя, — молвил Иван, укладываясь и позевывая, — во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам...» (т. 16; кн. 1: 192).
Из этой доминирующей ноты естественно возникает вопрос об острой необходимости на Земле Правды, но герои, до появления этого вопроса мыслящие абсолютно синхронно, в решении его расходятся. Иван, как и следует из его имени-характера, уверен, что надо не унывать и мириться с реальностью, ибо «ничего не поделаешь»:
«…нет Правды для нас: время, вишь, не наступило!» (т. 16; кн. 1: 191);
Федор же, несмотря на резонные возражения и предупреждения приятеля:
«Нет уж, лучше ты этого дела не замай!» (т. 16; кн. 1: 191),
продолжает навязчиво твердить:
«Сыщу я Правду, сыщу!» (т. 16; кн. 1: 191).
Оппозиция Иван Бодров — Федор Голубкин в сказке не случайна, эти герои представляют два противоположных типа сознания вообще, один из которых ориентирован на высшую (сакральную) правду, истину и справедливость, а второй — на правду «земную», учитывающую реалии жизни в конкретном социуме. Ю. А. Разинов, рассматривая подобные типы национальной ментальности как раз на материале спора о Правде и Кривде «Голубиной книги», справедливо отметил, что «Кривда — не ложь в обычном понимании этого слова. Она скорее некая искривленная правда, правда самой жизни, а не ее идеального плана. Суть ее позиции — ненавязчивая деструкция посылов "высшей" правды, так сказать, проверка их на прочность. Правда исходит из соображения о том, как должно быть, в то время как Кривда исходит из того, как есть, из того, что испытано жизнью» [Разинов: 66]. Подобная философская постановка вопроса была характерна и для XIX в., ее высказывал Н. К. Михайловский, констатируя в «Письмах о правде и неправде» наличие двух правд: с одной стороны, правды о существующем, «о мире как он есть»12, а с другой — о мире, каков он должен быть. В зависимости от веры в ту или иную правду Михайловский подразделял людей на типы «практические», живущие истинами дня, приспосабливающиеся к любой обстановке и «согласные существовать в виде любого колеса любой телеги»13, и типы идеальные, взыскующие града духовного, пусть даже путем страдания. Нетрудно увидеть, что черты первого типа аккумулирует Иван Бодров, второго — Федор Голубкин, изъявляющий готовность пойти по пути «дедушки Еремея»14, правдолюбца и страдальца за Правду.
Оба героя-собеседника единодушно видят в своих врагах врагов христианского мира в принципе («мироед» Василий Игнатьев «рвет христианские души»; он себе «хоромы на христианскую кровь взбодрил» (т. 16; кн. 1: 190)); однако к битве за христианскую земную Правду готов лишь Федор: не случайно его имя ассоциируется со святыми Федором Стратилатом и Федором Тироном — змееборцами, представителями и покровителями христианского воинства. Надо сказать, что сказочный мотив «змееборства» не обойден в сказке: Федор, как явствует из разговора, намеревается «схватиться» с начальником волости — волостным старшиной, выступающим в произведении М. Е. Салтыкова-Щедрина «Путем-дорогою» в традиционной функции сказочного «змея». Старшина известен как похититель и «поглотитель» молодых женщин: за год до событий сказки из-за него «Прохорова Матренка задавилась» (т. 16; кн. 1: 189); теперь же он «не дает проходу» жене Федора. Ивану Бодрову исход этой ситуации видится вполне определенным («И ничего не поделаешь!» (т. 16; кн. 1: 189)) — Федор же грозит старшине, «псу несытому»15, «кишки выпустить», при этом он хорошо сознает последствия такого поступка:
«…знаешь ли ты, что за такую Правду с тобой сделают?
— И пущай делают» (т. 16; кн. 1: 191),
то есть он готов принести свою жизнь в жертву «Правде», как он ее понимает, бросить вызов злу, вступив тем самым на стезю мученичества — один из путей, ведущих на Руси к святости.
Формально «разговор» Ивана и Федора не оканчивается, он обрывается, поскольку, согласно сюжету, уставшие собеседники располагаются в поле на отдых и сон. Однако «открытость финала» не означает смысловой незавершенности текста сказки: герои отдыхают недалеко от «полусгнившего» верстового столба: «От Москвы 18, от станции Рудаки 3 версты» (т. 16; кн. 1: 192). Указание на столб с обозначением ближайшего конкретного места принципиально, поскольку художественное пространство в сказке «Путем-дорогою» представляет собой путь, что акцентируется самим ее названием. А путь-дорога «всегда приводит героя прямо к цели» [Неёлов: 14]. Кульминационный же момент сказочного пути приходится на «стык двух частей, указывающих границу» [Топоров, 2005: 80], такой «границей» в сказке Салтыкова-Щедрина и служит верстовой столб (столб на распутье — характерный сказочный мотив). Появление этого столба, никак не обоснованное с точки зрения сюжетного действия, мотивировано знаково-семантически: топоним «Рудаки» этимологически связан со словом «руда» — кровь [Евсеева: 70]16.
Напомним, что обретение Правды имеет в сознании Федора форму насилия, крови. Учитывая, что мифологема пути в сказочной традиции выступает метафорически — как «обозначение линии поведения» [Топоров, 2005: 81], а сказочный герой «в своей судьбе однозначно исчерпывается путем» [Неёлов: 16], мы можем сказать, что «Рудаки» в финале сказки — это не только ближайшая географическая точка, около которой находятся герои, но и ближайшая точка ментальная, до которой они дошли в разговоре. Кроме того, это точка символическая, дающая понять, что руда-кровь на историческом пути русского крестьянского мира в ближайшей перспективе более чем возможна, и, безусловно, именно эта концептуальная деталь придает завершенность художественному целому сказки.
Мнение, что феномен насилия в русской жизни непосредственным образом связан с самопожертвованием (категорией святости) и «добывать правду» кровью в гипотетических исторических потрясениях будут прежде всего праведники, в 1870–1880-е гг. высказывалось не одним Салтыковым-Щедриным. Н. К. Михайловский в статье «Вольница и подвижники. Исторические параллели», говоря о Спенсере, неожиданно «свернул» на спор Правды и Кривды, завершив статью словами:
«Правда отлетела, так или иначе. Ее добыть надо. Встают поэты и пророки. Одни вспоминают стародавнее житье <…>. Вспоминают и поэтизируют его… <…> Другие напряженно вглядываются в будущее, и в нем ищут возможности водворить правду на земле. Сильные ненавистью к настоящему, они верят, что конец ему наступит скоро. И вот их песни и пророчества поднимают бурные исторические волны: то идут добывать правду подвижники и вольница»17.
Итак, рассмотрение сказки «Путем-дорогою» убеждает, что это явно не социально-бытовой рассказ. С точки зрения жанровой структуры сказка — сложное гибридное образование, характерное, впрочем, для Салтыкова-Щедрина, утверждавшего, что в сатире «никакою формою стесняться не следует» и что это «не только не безобразно, но иногда даже не безэффектно» (т. 18; кн. 2: 75). Сочетание философского диалога, волшебно-сказочных мотивов (змееборства, пути-дороги) и народно-мифологической символики формирует сложную и во многом условную поэтику сказки, выводящую читателя на комплекс философско-исторических и культурологических размышлений о русском характере и судьбах России. Авторский концепт «Путем-дорогою» связан с проблемой насилия, «крови» в истории: сказку можно рассматривать как аллегорический текст, предсказывающий, что страна в своем вечном правдоискательстве с большой долей вероятности может столкнуться с кровавыми историческими катаклизмами; причем осудить действия «мучеников за идею» в этих грядущих битвах с позиций культуры практически невозможно.
1 Так, М. И. Назаренко заметил, что текст «Путем-дорогою», будучи напечатан в другой книге Салтыкова-Щедрина, никогда бы не привлек «внимание исследователей литературной сказки» [Назаренко: 519].
2 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. М.: Худож. лит., 1966. Т. 5. С. 33. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома, книги и страницы в круглых скобках.
3 Этот вопрос поднимался в рассказах о «праведниках» «Губернских очерков» («Отставной солдат Пименов», «Пахомовна»), а также в рецензии М. Е. Салтыкова-Щедрина на «Сказание о странствии и путешествии <…> инока Парфения».
4 Любопытно, что в конце 1885 г. в издательстве «Посредник» вышла «народная книга» «Греческий учитель Сократ», в создании которой принимал непосредственное участие Л. Н. Толстой; эта книга написана также в жанре диалога.
5 Ренан Э. Философские диалоги: Жрец Немийский. Одесса: Гносис, 1919. С. 4.
6 Б. О. Унбегаун, известный ономатолог, заметил, что из русских писателей М. Е. Салтыков-Щедрин и А. П. Чехов проявляли особый интерес к «созданию так называемых "говорящих" фамилий как к литературному приему» [Унбегаун: 188].
7 См. у В. Даля: «Нет имен супротив Иван (мн. ч.); нет икон супротив Никол»; «Иванов, как грибов поганых»; «Всякий черт Иван Иванович» (Даль В. И. Пословицы русского народа. М.: В Универ. тип., 1862. С. 778).
8 Так, ее нет в «Ономастиконе» С. Б. Веселовского [Веселовский], в «Словаре фамилий» Т. Ф. Вединой [Ведина], в списках фамилий Б. О. Унбегауна [Унбегаун].
9 Н. К. Михайловский в «Письмах о правде и неправде» отметил, что «каждый порядочный мужик имеет в своем распоряжении полную систему Правды, хотя и в смутном, зародышевом состоянии…» (Михайловский Н. К. Письма о правде и неправде // Сочинения Н. К. Михайловского: [в 6 т.]. СПб.: Ред. журн. «Русское богатство», 1897. Т. 4. С. 406).
10 Сказка о Правде и Кривде известна и в русской литературе, разновидности сюжета представлены в «Народных русских сказках» Афанасьева (см.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: в 3 т. М.: Наука, 1984. Т. 1. С. 152–163. (Сер.: Лит. памятники.))
11 Голубиная книга: русские народные духовные стихи XI–XIX вв. М.: Моск. рабочий, 1991. С. 42.
12 Михайловский Н. К. Письма о правде и неправде. С. 414.
13 Там же. С. 458.
14 Еремей — третье имя, имеющее семантическую значимость в сказке. Думается, в судьбе этого героя просматривается некое сходство с пророком Иеремией, но данный вопрос требует специального изучения.
15 Пес, согласно ряду текстов Библии, считается символом «животных страстей и плотских чувствований» [Нюстрем: 320].
16 Сочетание руда-кровь присутствует в вариантах списков «Голубиной книги»:
«От чего у нас мир-народ?
От чего у нас кости крепкие?
От чего телеса наши?
От чего кровь-руда наша?» (Голубиная книга: русские народные духовные стихи XI–XIX вв. С. 35) (курсив наш. — М. А.).
17 Михайловский Н. К. Вольница и подвижники. Исторические параллели // Отечественные записки. 1877. № 1. С. 180.
About the authors
Marina A. Alyakrinskaya
Russian Academy of Public Administration – Northwestern Institute of Management
Author for correspondence.
Email: alyakrinskaya-ma@ranepa.ru
ORCID iD: 0000-0002-6581-2988
PhD (Philology), Associate Professor of the Department of the Journalism and Media Communications
Russian Federation, Sredniy prospekt Vasil’evskogo ostrova 57/43, St. Petersburg, 199178References
- Baskakov V. N. “Putem-dorogoyu” (“On the Road”) [Сomments]. In: Saltykov-Shchedrin M. E. Sobranie sochineniy: v 20 tomakh [Saltykov-Shchedrin M. E. Collected Works: in 20 Vols]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1974, vol. 16, book 1, p. 471. (In Russ.)
- Baskakov V. N., Bushmin A. S. Fairy Tales [Section 5, Сomments]. In: Saltykov-Shchedrin M. E. Sobranie sochineniy: v 20 tomakh [Saltykov-Shchedrin M. E. Collected Works: in 20 Vols]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1974, vol. 16, book 1, pp. 437–446. (In Russ.)
- Buz’ko E. A. “The Legend” of the Monk Parthenius in the Creative Consciousness of M. E. Saltykov-Shchedrin. In: M. E. Saltykov-Shchedrin: pro et contra: antologiya [M. E. Saltykov-Shchedrin: Pro et Contra: an Anthology]. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2016, book 2, pp. 727–734. (Ser.: Russian Way.) (In Russ.)
- Vedina T. F. Slovar’ familiy [Dictionary of Surnames]. Moscow, AST Publ., 1999. 539 p. (In Russ.)
- Veselovskiy S. B. Onomastikon: drevnerusskie imena, prozvishcha i familii [Onomasticon: Ancient Russian Names, Nicknames and Surnames]. Moscow, Nauka Publ., 1974. 382 p. (In Russ.)
- Evseeva O. S. On the Etymology of the Toponym Rudnya. In: Regional’naya onomastika: problemy i perspektivy issledovaniya: sbornik nauchnykh statey Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (g. Vitebsk, 18 fevralya 2016 g.) [Regional Onomastics: Problems and Prospects for Research: Collection of Scientific Articles of the International Scientific Conference (Vitebsk, February 18, 2016)]. Vitebsk, Vitebsk State University Named After P. M. Masherov Publ., 2016, pp. 69–71. (In Russ.)
- Zundelovich Ya. O. Dialogue. In: Literaturnaya entsiklopediya: v 11 tomakh [Literary Encyclopedia: in 11 Vols]. Moscow, Kommunisticheskaya akademiya Publ., 1930, vol. 3, pp. 267–270. (In Russ.)
- Ivanov V. V., Toporov V. N. Truth and Falsehood. In: Mify narodov mira: v 2 tomakh [Myths of the Peoples of the World: in 2 Vols]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1982, vol. 2, pp. 328–329. (In Russ.)
- Korostovtsev M. A. Literature of Ancient Egypt. In: Istoriya vsemirnoy literatury: v 9 tomakh [History of World Literature: in 9 Vols]. Moscow, Nauka Publ., 1983, vol. 1, pp. 54–82. (In Russ.)
- Makashin S. A. Saltykov-Shchedrin. Poslednie gody, 1875–1889: biografiya [Saltykov-Shchedrin. The Last Years, 1875–1889: Biography]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1989. 526 p. (In Russ.)
- Nazarenko M. I. The World Order of Fairy Tales by M. E. Saltykov-Shchedrin. In: M. E. Saltykov-Shchedrin: pro et contra: antologiya [M. E. Saltykov-Shchedrin: Pro et Contra: an Anthology]. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2016, book 2, pp. 519–543. (Ser.: Russian Way.) (In Russ.)
- Neyolov E. M. Fol’klornaya volshebnaya skazka i nauchnaya fantastika: analiz khudozhestvennogo teksta [Folk Fairy Tale and Science Fiction: Analysis of Literary Text]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1986. 103 p. (In Russ.)
- Nyustrem E. Bibleyskiy slovar’ [Bible Dictionary]. St. Petersburg, Khristianskoe obshchestvo “Bibliya dlya vsekh” Publ., 1997. 517 p. (In Russ.)
- Razinov Yu. A. The Debate of the Truth and Falsehood. In: Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya [Proceedings of Voronezh State University. Series: Philosophy], 2011, no. 2 (6), pp. 60–73. Available at: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylosophy/2011/02/2011-02-05.pdf (accessed on May 10, 2024). EDN: ONWGTP (In Russ.)
- Solopova M. A. Democritus. In: Antichnaya filosofiya: entsiklopedicheskiy slovar’ [Antique Philosophy: Encyclopedic Dictionary]. Moscow, Progress-Traditsiya Publ., 2008, pp. 308—316. (In Russ.)
- Stroganova E. N. M. E. Saltykov-Shchedrin and Antique Literature. In: Kul’tura i tekst [Culture and Text], 2015, no. 4 (22), pp. 14–24. Available at: https://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B042015.pdf (accessed on May 10, 2024). (In Russ.)
- Toporov V. N. Space and Text. In: Toporov V. N. Issledovaniya po etimologii i semantike: v 3 tomakh [Toporov V. N. Research on Etymology and Semantics: in 3 Vols]. Moscow, Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ., 2005, vol. 1, pp. 55–118. (In Russ.)
- Toporov V. N. About the Mythological Image of Semyon and Semyonovna in the Russian Tradition. In: Semantika imeni (Imya-2) [Semantics of the Name (Name-2)]. Moscow, Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ., 2010, pp. 44–69. (Ser.: Namebook/Name. Philology of Proper Names.) (In Russ.)
- Unbegaun B. O. Russkie familii [Russian Surnames]. Moscow, Progress Publ., 1989. 443 p. (In Russ.)
Supplementary files