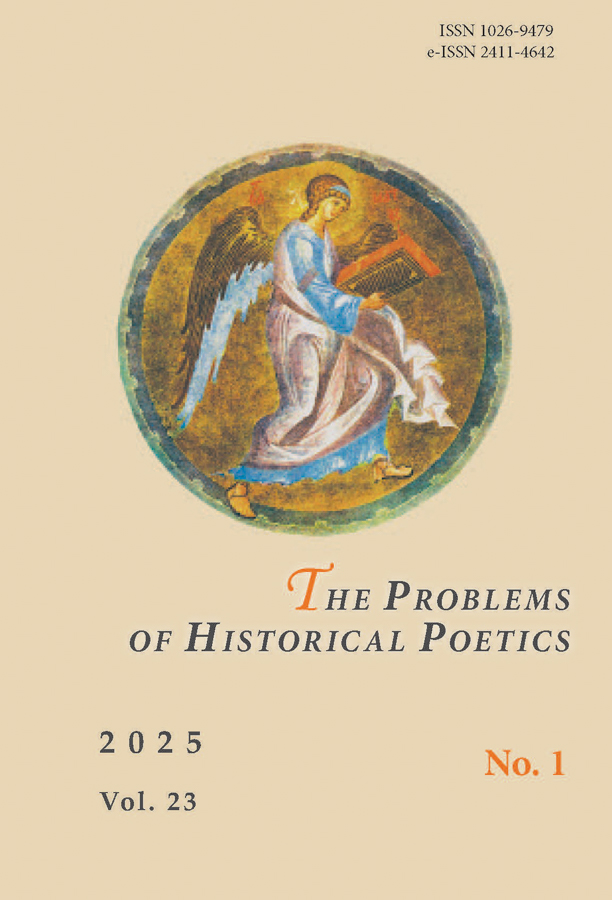The Futurology of Cosmism in the Light of Science Fiction: the Experience of V. Muravyov and A. Gorsky
- Authors: Gacheva A.G.1,2,3
-
Affiliations:
- A. M. Gorky Institute for World Literature, Russian Academy of Sciences
- The Moscow School of Social and Economic Sciences
- Fyodorov’s Library no. 180 OKC of the Southern Administrative District of Moscow
- Issue: Vol 22, No 3 (2024)
- Pages: 163-204
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9479/article/view/276272
- DOI: https://doi.org/10.15393/j9.art.2024.14222
- EDN: https://elibrary.ru/RGZQTM
- ID: 276272
Cite item
Full Text
Abstract
The article is the first part of the study of the features of philosophical and artistic futurology in Russian cosmism of the 1920s — 1930s. The key principles of the approach to the topic of the future in the religious/philosophical and natural/scientific branches of Russian cosmism are revealed: a projective worldview, the unity of futurology and anthropology, the will to idealism, designing the future as a perfect world order, unity of purpose and means, the personal principle of the relationship betweennature and man, the idea of the need to improve the external world, and human nature. The article demonstrates how these principles manifest themselves in the artistic and philosophical experiments of A. K. Gorsky and V. N. Muravyov in the 1920s and 1930s. It investigates the role of the science fiction element in their texts, in which, on the one hand, an integral image of the future is presented as the basis of mankind’s collective activity, and on the other hand, it offers a critique of “fractional ideals” in history, and flawed versions of the future. It demonstrates how the introduction of science fiction plots and motifs contributes to the test of futurological ideals for strength.
Full Text
Имя Александра Беляева, писателя-фантаста, одного из ведущих представителей так называемой фантастики «дальнего прицела», открывающей горизонты будущего, известно и исследователям русской литературы XX в., и широкому кругу читателей. Имена двух других его современников — философа, поэта, литературного критика Александра Горского и дипломата, философа Валериана Муравьева, пробовавшего себя также в жанрах художественной словесности, даже в профессиональных филологических и философских кругах известны еще недостаточно, однако интерес к ним год от году растет1.
Трое современников принадлежали — каждый со своими акцентами — к тому течению отечественной мысли и культуры, за которым закрепилось название «русский космизм»2. Для его представителей было характерно проективное отношение к будущему, стремление не просто выявлять и предсказывать тенденции развития и перспективы движения вперед, но задавать этому движению новые ценностные основания, новые траектории, опирающиеся на понимание человека как творящей, созидающей силы мира, как существа, в котором, как писал родоначальник космизма Н. Ф. Федоров, природа «начинает не только сознавать себя, но и управлять собою», двигаясь к совершенному состоянию, когда «она уже ничего разрушать не будет, а все в эпоху слепоты разрушенное восстановит, воскресит»3.
О специфике футурологического проектирования в русском космизме, о том, как она проявилась в литературно-философских опытах В. Н. Муравьева и А. К. Горского, активно использовавших в своих сочинениях научно-фантастические мотивы, а также о научной фантастике Александра Беляева, рефлектировавшего над ведущими темами философии космизма, связанными с перспективами преодоления смерти, регуляции природы, преобразования человеческого организма, освоения космического пространства, и пойдет речь в нашем исследовании.
Проектирование будущего: опыт русского космизма
Характерной чертой проектирования будущего в философском, естественнонаучном, художественном космизме является тесная связь футурологии и антропологии. Именно от человека, от его действия в мире зависит будущее Земли. К. Э. Циолковский, вдохновлявший космического фантаста Беляева4, расширял масштаб самоопределения человека с национального до планетарного и космического, называя его «гражданином Вселенной»5. А В. И. Вернадский, полагавший возникновение сознающего и творящего существа масштабным сдвигом в естественной истории, подчеркивал, что с этого момента ключевым фактором развития жизни становится разум — «великая геологическая и, быть может, космическая сила»6.
«Усиленно сознающим» героям Достоевского казалось, что человек «пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?»7, и они воздвигали метафизический и онтологический бунт против стреноженности человека «всесильными, вечными и мертвыми законами природы»8. Для деятелей космизма человек — не только не лишний в природно-космическом бытии9, напротив, он абсолютно необходим самой природе, призван преодолеть падшее и смертное ее состояние, изменить, пользуясь образным выражением поэта-космиста И. Г. Филипченко, «законы природы» в «законы для природы» [Семенова, 2016: 307]. Через него, как скажет один из ведущих представителей христианского космизма В. С. Соловьев, совершается «космический рост» мира10, бытие расцветает и преображается, преодолевая смерть и распад.
Человек для русских космистов — существо, которое живет и действует в мире по принципу Мюнхгаузена, чья фантазия конструктивна и проективна. Он пытается поднять себя за косичку из болота вопреки закону всемирного тяготения, и не только себя, но и коня, а в его лице — всю природу, пребывающую в тине бывания, инстинктивно-животного, смертного существования, всю тварь, что, по слову ап. Павла, «совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22). Ему предлежит привести мир к состоянию всеединства, но не пассивно-статичного, погруженного в абсолютный покой, а динамического, исполненного творческих сил, расцветающего, подобно «Цветам мирового расцвета» на знаменитом полотне П. Н. Филонова.
К. Э. Циолковский в предисловии к вышедшему в 1926 г. четвертому изданию своей знаменитой работы «Исследование мировых пространств реактивными приборами», обозначившей теоретический старт космической эры, так определял развитие человеческой мысли и практики, расширяющее ареал и масштаб действия рода людского в природе: «Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль»11. Родоначальник космонавтики полагал в фундамент научно-технических свершений человечества мечту, полет фантазии, действие воображения. Он хорошо сознавал проективность фантазии, ее целеполагающий характер. В наличном состоянии природы всякое последующее вытесняет предыдущее, здесь царствует закон борьбы за существование, а жизнь материального мира упирается в «двойную непроницаемость»12 вещей и существ — во времени и в пространстве, здесь налицо «парадокс человека» [Семенова, 2016: 245], фундаментальный разрыв между бесконечностью духовной природы человека и ограниченностью его физического естества, точно переданный знаменитой строкой Ф. И. Тютчева «Я, царь земли, прирос к земли!..»13. Человеческая фантазия стремится вывести мир и человека из этого состояния. Она направляется волей к преодолению земных пределов, волей к идеалотворчеству и в этом своем качестве стимулирует развитие научного и технического делания, благодаря чему самая дерзновенная мечта становится сначала проектом, а затем творческим актом, воплощаясь в реальность.
Порыв к превосхождению наличных пределов, стремление идти за мечтой, не за локальной, а за вселенской мечтой, созидать «идеальный строй жизни»14 и целостно преображать человека определил не только развитие русского космизма в лице Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.А. Сетницкого, А.К. Горского, В.Н. Муравьева, но и ту линию научной фантастики, которая по своим установкам оказалась тесно связана с русским космизмом и в которой одно из центральных мест принадлежит писателю-фантасту Александру Беляеву. В этой линии мысли и художественной практики рефлексия о будущем была окрашена волей к воплощению целостного идеала, если воспользоваться терминологией Н.А. Сетницкого, посвятившего проблеме идеала свою главную книгу «О конечном идеале» (Харбин, 1932) и поставившего в основу своей теории идеала принцип проективности: «Идеал, по самому смыслу своему, есть крайнее, последнее и величайшее задание, к которому стремится человечество»15.
Творчество идеала в философии русского космизма — это творчество образа совершенства. Речь здесь идет не просто о поступательном развитии бытия, в котором имеет свою часть человек, а о преображении бытия в благобытие, где торжествует полнота любви и неветшающей жизни. Человек, возникший как инстанция самосознания и самоуправления природы, призван перевести не только собственную, но и всю природно-космическую жизнь в преображенное состояние. Для христианских космистов Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова это обновленное состояние вселенской жизни явлено в образе Царствия Божия, нового совершенного порядка реальности, проявляющего на всех ее уровнях принцип Троицы, неслиянно-нераздельного единства Божественных лиц. Для космистов естественнонаучной ориентации оно воплощено в принципе «стройности», который вносит homo sapiens explorans, человек разумный исследующий16, в социальную и природную жизнь, в идеале ноосферы как новой ступени развития биосферы Земли, на которой ведущую роль играют научное знание, культура и творчество. А П. А. Флоренский, ученый и священник, математик и богослов, в самой своей личности явивший возможность соединения науки и веры, предложит в письме В. И. Вернадскому назвать новый порядок реальности, возникающий с появлением на земле человека и началом преобразовательной деятельности его в природе, неразрывной с религиозным и нравственным вопрошанием, «пневматосферой»17, акцентируя не просто разумно-деятельностную, но духовную природу творческой активности и дела культуры, понятой расширительно — как возделывание бытия, исполнение заповеди обладания землей, данной Адаму при сотворении.
И ноосфера, и пневматосфера не ограничиваются в своем становлении только земной колыбелью, но в перспективе времени и истории распространяются за пределы планеты. Философы-космисты задают перспективы вселенского действия, говорят о сознательно-творческом управлении природными процессами в масштабах ближнего и дальнего космоса, требующем, с одной стороны, развития научного знания, а с другой — нравственного обновления и внутреннего роста человеческого рода, его движения к состоянию совершеннолетия, заданному не только И. Кантом, но и Христом, соединившим идеал совершеннолетия с заповедью о совершенстве: «Будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный» (Мф. 5:48). Покорению природы, утилитаристскому и прагматическому отношению к научно-техническому прогрессу и его перспективам, когда не только земля, но и космос воспринимаются лишь как источник ресурсов, сырьевой придаток цивилизации, они противопоставляют идеал регуляции, субъект-объектному отношению к бытию — субъект-субъектный, декларируют необходимость единства цели и средств и, проектируя развитие науки, техники, технологий, настаивают на его этическом векторе.
Как наличное — смертное, разрозненное бытие природы, стоящее «на взаимном стеснении и вытеснении»18, — не является в философии космизма нормой реальности, так и смертный, пожирающий, вытесняющий, физически стреноженный и духовно калечный человек не является для деятелей течения нормой человеческого. Существо, на крыльях мысли и воображения перелетающее огромные расстояния, а в действительности остающееся пленником своей «физики», дисгармонично по самой своей природе и никакой рай на земле с ним быть построен не может. Подлинной нормой человеческого для космистов является человек, обладающий тем, что Н.Ф. Федоров называл «полноорганностью»: умеющий управлять органическими процессами, трансформировать свой организм, свободно перемещаться в пространстве, жить в разных средах, достигший автотрофности, способный к бесконечному самовозобновлению. «Полноорганный» человек — принципиально свободное существо, обладающее действительной, а не той призрачной, мнимой свободой, при которой, как говорил Федоров, «если человек свободен, то свободен как птица в клетке»19. Это существо, способное «осуществлять не по нужде, а по избытку душевной мощи бесконечную мысль в неограниченных средствах материи»20, уподобляясь тем самым Творцу, по образу и подобию Которого человек был задуман и создан.
Такой разворот футурологической темы был задан русским космизмом, и он во всей полноте проявился в творчестве философов-космистов 1920–1930-х гг. А. К. Горского, Н. А. Сетницкого, В. Н. Муравьева. Встретившиеся в Москве в 1923 г., они стали единомышленниками и стремились, взаимодействуя с новой властью, задать советскому строительству космистские перспективы21. Свое видение будущего они представляли в разных жанровых формах и разных текстах, часть которых вышла в печать, а большинство упокоилось, по образному выражению Н. С. Тихонова, «в могиле стола» [Тихонов, 6]. Это философская монография (Н. А. Сетницкий. «О конечном идеале», 1932; В. Н. Муравьев. «Овладение временем как основная задача организации труда», 1924), историко-философское сочинение с элементами публицистики (А. К. Горский. «Николай Федорович Федоров и современность», 1928–1933), социально-экономическая работа (Н. А. Сетницкий. «СССР, Китай и Япония: начальные пути регуляции», 1933), философский трактат (В. Н. Муравьев. «Культура будущего», «Овладение историей», «Философия действия», 1926–1928), журнальная статья и научный сборник (серия статей о НОУТ А. К. Горского и Н. А. Сетницкого в журнале «Октябрь мысли», сборник «Трудоведение», 1924), философская мистерия (В. Н. Муравьев. «София и Китоврас», 1921–1925), утопический роман (В. Н. Муравьев. «Остров Буян», 1926–1928), поэма (цикл апокалипсических поэм А. К. Горского 1922 г., частично вошедших в его сборник «Лице Эры» (Харбин, 1928)), повесть (В. Н. Муравьев. «Повесть о том, как Яичкин сделался Фордом»), пьеса (В. Н. Муравьев. «Восстание радионасекомых»), сказка (В. Н. Муравьев. «Полоненое царство»), утопия (А. К. Горский. «<Люадия>»). В целом ряде названных сочинений присутствует научно-фантастический элемент, призванный в одних случаях — задать целостный образ будущего, представить примеры науки, этически и религиозно ориентированной, служащей делу жизни, исполняющей то грандиозное задание, которое ставил человечеству Федоров: воскрешение всех когда-либо живших, регуляция процессов природы, а с другой —отрефлектировать возможные негативные сценарии общего действия, коль скоро оно будет пренебрегать принципом соответствия цели и средств или станет попыткой воплощения «дробного идеала»22.
Тот же подход к проектированию будущего, основанный на единстве технологий и аксиологии, присутствует в фантастике Александра Беляева. Его роднит с русскими космистами отсутствие страха перед технологиями, нацеленность на расширение физических возможностей человека, на совершенствование его природы. В этом смысле проективная фантастика Беляева принципиально отличается от предупреждающей фантастики того же М. А. Булгакова, явившего в двух своих хрестоматийных вещах — повестях «Собачье сердце» (1925) и «Роковые яйца» (1924) — резко негативное отношение к самой идее изменения наличной природы человека, к попыткам экспериментировать с ней, вторгаться в течение естественных процессов, меняя их ход. Беляев бесстрашен по отношению к научному знанию, поддерживает самые дерзкие эксперименты, но при этом требует, чтобы сердце и руки экспериментаторов были чисты.
Валериан Муравьев: искание целостного идеала и лакмусовая бумажка научной фантастики
О философской мистерии В. Н. Муравьева «София и Китоврас» мне уже не раз приходилось писать23. В данной статье нас будет интересовать футурологический пласт ее текста и научно-фантастические мотивы, возникающие по ходу развертывания основного сюжета: «хождения» молодой женщины Софии, представляющей собой земное воплощение Софии Премудрости Божией, в сопровождении своего «Вергилия» — Китовраса (героя цикла легенд о Соломоне и Китоврасе, помогавшего великому царю в строительстве Иерусалимского храма) по земным царствам, воплощающим различные представления человечества об идеальном общественном строе.
Мистерия, ставшая исповеданием веры В. Н. Муравьева, пронизана темой будущего, неразрывной с апологией целостного идеала. София, председательница религиозно-философского общества, отвергает предлагаемые ее членами модели развития, подчеркивая, что ей нужно совершенное, неущербное царство, «где небо и земля соткнулись»24. Ее путь вместе с Китоврасом через всю историю человечества — от древних царств до царства социализма — пронизан взысканием Абсолюта. И в диалогах, которые ведут герои в каждом из царств и в которые неизменно включаются их строители — Святогор, апологет самостийной и сильной личности, стремящейся двигать историю, но не нуждающейся ни в ком, кроме себя; Хирам, убежденный сторонник западноевропейской модели развития; Кеван, возлагающий надежды на революцию; Иоасаф, уповающий на аскетическое делание, разрывающее связи личности с миром, — испытание этих моделей на прочность ведется с точки зрения «конечного идеала».
Своей кульминации тема будущего достигает в финальных главах мистерии, где София оказывается в пустыне на обломках рухнувших царств, символизирующих дробные идеалы истории, и где к ней начинают взывать птицы и звери, травы и облака, моля ее, Душу мира, спасти их от прозябания, от плененности смертным законом, дать им разум и свет. Сюда же стекаются люди, в том числе бывшие строители царств, которые проходила она в своем странствии, — эти герои теперь сами искатели подлинного, совершенного царства, пережитый опыт воплощения компромиссных, дробных моделей развития больше не привлекает их. Все существа и все вещи мира взывают: «Спаси нас, София!»25. И когда на горизонте возникают контуры Царства Пресвитера Иоанна, воплощающего в себе чаемый образ совершенного строя жизни, и одновременно между ним и пустыней, где стоит София, окруженная земными и небесными обитателями, разверзается пропасть — символическое воплощение образа смерти, несовершенного, смертного статуса мира, — героиня призывает людей и всю тварь, с надеждой притекающую к ней в поисках спасения и избавления от смертных законов, совершить общую работу — засыпать пропасть, провести дорогу в грядущий град. А когда София и ее помощники, от людей до животных, входят в Иоанново царство, перед ними открываются перспективы поистине Вселенского дела — преобразования уже не только земли, но Вселенной. Человек и природа соединяются в общем труде, обращенном к преображению мира, воплощается соборная модель действия человека и других природных существ, при которой человек задает их активности нерушимые ценностные основания.
В диалогах Софии и Китовраса, а также в финальной сцене мистерии, где герои намечают план строительства «Нового Бенсалема», возникает образ новой науки, служащей жизни и преображению мира. Такая наука развивается в благом творческом векторе, опираясь на ценности персонализма. Она не имеет ничего общего с той сервилистской, манипуляторной наукой, которая является рабыней торгово-промышленной цивилизации, ее эгоистических интересов, служит и злу и благу или нейтрально относится к последствиям применения своих открытий. Наука будущего, служащая делу жизни, работает с самой материей мира. Познавая законы вещества, учится управлять ими.
Целостный идеал, рисуемый в сюжете мистерии «София и Китоврас» и судьбах ее героев, подкреплялся и содержанием философских диалогов, разворачивавшихся по ходу сюжета. Муравьев включил в мистерию диалоги о времени, в которых не просто обсуждалась природа времени, но ставился вопрос о преодолении времени, прямо выводящий к апокалипсической теме «свершения времен». Контуры целостного идеала очерчивались и в диалогах о Церкви как совершенном — соборном — принципе бытия вещей и существ, который в перспективе общего дела должен воцариться во всем мироздании. Оптика Абсолюта присутствовала и в диалоге о новой культуре, понятой как космически-преобразовательное действие: она вовлекает в общее дело и организует вокруг него все сферы человеческой практики.
В мистерии «София и Китоврас» научно-фантастические мотивы свободно входят в повествование. Она населена образами фантастических существ, идущими из глубин мифа, библейского предания, апокрифа, легенды. Здесь действуют Навуходоносор-царь и царь Полкан, Единорог и Егорий из духовного стиха о Егории Храбром, причем последний в планах и набросках мистерии опирается на науку, овладевая тайнами метаморфозы вещества. Растения, животные, вещи здесь оживают и обретают свой голос. София и Китоврас летают по воздуху, свободно перемещаются во времени и пространстве, принимают облик героев древности, сохраняя при этом идентичность с самими собой. Характерна завершающая глава мистерии «Новый Бенсалем», само название которой отсылает, с одной стороны, к образу утопического острова из «Новой Атлантиды» Ф. Бэкона, где жизнь социума основывается на единстве знания и веры, науки и христианства, а с другой — к образу «Нового Иерусалима» 21–22 глав «Откровения». Строитель-помощник Софии, избравший себе имя Орей (так звали одного из архонтов, что, согласно учению офитов, сотворяют материальный мир и стоят у небесных врат26), разворачивает перед нею перспективы преобразования мира через управление физико-химическими и биологическими процессами, вплоть до овладения механизмами живого, превращения инстинктивно-природного рождения в сознательно-творческий процесс, где люди-андрогины, преодолевшие раскол между мужской и женской природой, путем коллективной медитации творят новую жизнь.
Образ нового рождения, совершаемого соборным действием людей, объединяющихся в «творческой симфонии», в едином порыве, в напряжении всех жизненных сил, возникает как в философских, так и в художественных текстах В. Н. Муравьева: книге «Овладение временем», статье «Всеобщая производительная математика», трактате «Культура будущего», в мистерии «София и Китоврас» и черновых редакциях пьесы «Советник смерти» (1927). В последнем случае художник Миша Миронов рассказывает Елене, предстающей, подобно Софии мистерии, воплощением вечной женственности, о том, как видится ему будущее общее дело: «Производство, техника, наука должны слиться с искусством и переделать мир, дать ему новый образ. Человек должен получить новое тело, вещи должны из мертвых подобий обратиться в живые существа»27. Как следует из вдохновенного слова героя, процесс рождения будет творческим, подобным художественному акту, как бы восстанавливающим на новом витке сюжет мифа о Пигмалионе и Галатее, но участвует в этом акте уже не одинокий художник, а все люди, сознавшие и соделавшие себя творцами: «Тут нет отдельных художников, так же как нет отдельных искусств — архитектуры там, живописи, музыки. Есть один общий организм, и творчество его одновременно есть и живопись, и музыка, и архитектура. Люди узнали тайну деятельных волн, излучаемых живыми существами, и собрались, чтобы вместе, сообща создать новый образ, который будет не образом только, а живым существом, новым целым»28.
В философских и художественных текстах, предназначенных для печати, научно-фантастические мотивы вплетались в создававшийся на их страницах проект культуры будущего, ведущей к преобразованию мира, преодолению смерти, управлению временем и процессами жизни. Выстраивая этот проект с целью продвинуть его в умы и сердца современников, одушевить им и тех, кто стоит в Советской России у рулевых рычагов, Муравьев был вынужден уводить в подтекст глубинное религиозное основание своей мысли, ее активно-христианский посыл, идущий от религиозно-философской ветви космизма, где человек утверждается как соработник Творца в деле преображения мира в Царствие Божие. В религиозно-философских текстах, не имевших шанса выйти в печать, а потому писавшихся в ощущении внутренней свободы, Муравьев не только не прятал концы, но усиливал их мистериальное содержание, вводя научно-фантастические мотивы в визионерские сюжеты, как, например, в этюде «Человек в жизни» (1925), в финале которого разворачивалось видение человечества, в союзе с другими живыми существами, со всеми вещами и силами мира, восходящего в небесные дали, движущегося к полноте просветления, совершающего вместе со всей природой работу спасения и преображения, творящего новую культуру, в которой «мощь материальная, сила распоряжаться вещами и менять их природу перестала быть оторванной от силы духовной, но присоединилась к ней, стала в подчинение руководящим движениям религиозного духа»29.
В одном из набросков финала мистерии «София и Китоврас» возникает федоровский образ «внехрамовой литургии», которая совершается Софией и всеми существами и стихиями мира, пресуществляя разрозненное бытие смертного мира в соборное, неслиянно-нераздельное целое. Элемент научно-фантастический здесь соединен с элементом визионерским, проектирование будущего, как и в этюде «Человек в жизни», обретает черты видения:
«Все существа начинают петь. — Ритм охватывает мир. Постепенно создается новое целое, свивающееся и развивающееся в вихреобразном движении. Оно начинает принимать очертания живого существа. Границы его раздвигаются по мере того, как из земли воскрешаются мертвые и занимают место в общей массе. Постепенно стирается отделенность людей — все они сохраняют свои лица, становящиеся все более и более выразительными, но теряют свои тела. Каждое существо становится как бы очагом энергии, воздействующим на других. Посредине вихря София и Китоврас — София с поднятой рукой направляет общее дело»30.
Если в мистерии «София и Китоврас», видении «Человек в жизни», происходит соединение мистического и научно-фантастического элемента, то в набросках сказки «Полоненое царство» приемы научной фантастики расширяют поэтику сказки. В ее замысле неразрывно сплелись мотивы волшебной сказки, древнерусских легенд и апокрифов, в том числе излюбленного Муравьевым духовного стиха о Егории Храбром, причем, обращаясь по ходу замысла к двухтомнику «Сказки и песни Белозерского края» (М., 1915) и делая выписки сказочных выражений («муха шумиха», «вошь поползуха», «комар пискун», «Бурзачило поганый», «Вихор Чудо-юдо», «Змей многоглавый» и др.), философ ищет в сказке выраженные в символических образах мотивы регуляции природы, работы с материей, «изменения своего организма»31, будущей новой техники, умножающей возможности человека, расширяющей ареал его действия в мире: «скатерть-самобранка», «сапоги-скороходы», «ковер-самолет», «шапка-невидимка», «топор-саморуб», который «вычищает остров и ставит дом, строит мост»32. В бросании героями полотенца, оборачивающегося рекой, «щетки, гребня», из которых вырастает густой лес», яблока, дающего начало горе, простыни, становящейся морем, видит иносказательное изображение способности человека регулировать процессы природы, к чему неустанно призывал Н. Ф. Федоров. А образ «избушки на курьих ножках» прямо соотносит с проективным, научно-фантастическим образом будущих новых жилищ — не стационарных, прочно стоящих на неподвижном фундаменте, а динамичных, способных перемещаться в пространстве: «дом-оболочка подвижной»33.
Об этих жилищах, о летающих зданиях и кремлях, философ писал в книге «Овладение временем», рисуя перспективы будущей культуры, становящейся рекреатурой, созидающей не только на земле, но и в космосе, обретающей способность к творчеству жизни, вбирающей в себя не только гуманитарные сферы, но и производство, медицину, генетику, биологию. В сказке «Полоненое царство» разворачивается тот же образ творческого делания будущего, регуляции, охватывающей все сферы и все уровни бытия — от микромира, царства электронов и атомов, микробов и бактерий, до планет, звездных скоплений и макровселенных. Все их посещает Иван, младший из трех братьев, подвизавшихся спасти царевну из плена «злобного и жестокого чудища»34. Первый из них избирает путь пассивного созерцания и молитвы: ею он надеется победить налетевший на страну «Вихорь» — символ слепых, стихийных сил естества. Второй предпочитает односторонне-материалистический путь, при котором он «побеждает природу, но забывает цель»35, пренебрегает субъектностью самой природы, чающей не покорения, а преображения, не насилия, а любовного попечения от человека — как об этом скажет в главке «Микрокосм и макрокосм» работы «У водоразделов мысли» отец Павел Флоренский:
«Человеку-мужу надлежит любить Мир-жену, быть с нею в единении, возделывать ее и ходить за нею, управлять ею, ведя ее к просветлению и одухотворению и направляя ее стихийную мощь и хаотические порывы в сторону творчества, чтобы явился в твари ее изначальный космос. Человек есть Царь всей твари — Царь, но не тиран и не узурпатор, и пред Богом, Творцом твари, предлежит ему дать отчет за вверенное ему»36.
Что касается Ивана, то он, управляя своей телесностью и погружаясь, благодаря знанию, в глубину бытия, проходя электронный и «стихийно-геологический мир», мир растений и насекомых, животных и вещей, действует по завету Флоренского и следствием его преобразовательного действия, которое он, как и София мистерии, совершает не самостийно, а в союзе с другими существами мира, в том числе животными и сказочными созданиями — великанами и гномами-кузнецами, семью Симеонами, Вертедубом и Вертегором, становится «творческое обновление природы», «овладение временем», «воскрешение»37.
Сказка «Полоненное царство» стала творческим ответом Муравьева на дискуссии 1920-х гг. о полезности/вредности сказки для воспитания подрастающего поколения строителей нового мира. В отличие от сторонников изгнания сказки из арсенала детской литературы, заявлявших, «что она может заронять зерна мистицизма, искажать представления детей о реальности» [Костылев, 2021: 131], Муравьев утверждал проективный, идеалотворческий потенциал сказки, не просто раскупоривающей воображение, но задающей дерзновенные цели творческому действию человека, настраивающей на смелое и ответственное поведение в реальном мире. И одновременно демонстрировал новые возможности жанра сказки, коль скоро к нему будет привит черенок научной фантастики. В то же время форма сказки позволяла прикровенно представить те идеи и идеалы, которые истекали из христианской картины мира, неразрывно связывались с чаянием преображения и которые напрямую звучали в потаенных, не выносимых в печать произведениях Муравьева.
Проективные возможности научной фантастики Муравьев утверждал и в романе «Остров Буян», жанр которого он определял то как «исторический роман для юношества из быта новгородской вольницы в X веке»38, то как «социально-утопический роман из быта новгородской вольницы»39. В основе романа — та же тема искания совершенного строя жизни, что и в философской мистерии «София и Китоврас», но подана она не через аллюзию к «Откровению Иоанна Богослова» с его образами тысячелетнего Царства Христова и Небесного Иерусалима, а через отсылку к сказочно-легендарному образу острова Буяна и волшебного камня Алатыря, который должны добыть для Запавы Путятишны три богатыря — Могут, Богомил и Будимир. Если первый понимает островом Буяном земное царство, а под камнем Алатырем — силу и власть, второй видит в Буяне потустороннее царство, а в камне Алатыре — символ благодати богов, то Будимир, устремленный к знанию и действию, воспринимает остров Буян как мир, преобразованный усилием человеческой воли. Он становится учеником алхимика Альгабора, сумевшего открыть волшебные свойства янтаря, исходящую из него «электронную силу», при помощи которой «можно управлять миром». Будимир не ищет Буяна, он строит его — новый город, «столицу Солнцева царства», используя при строительстве новейшие данные науки и достижения техники. Благодаря открытию электричества, герой проектирует суда, которые движутся без парусов и гребцов, собирается использовать силу воды для выработки электричества, предвосхищая тем самым создание гидростанций, и планирует построить «летающий корабль» (напомним — действие романа происходит в X веке! — несомненный намек автора на то, что кажущееся фантастическим и утопическим в данный момент времени и истории может оказаться реальностью спустя столетия)40. «Мое чародейство есть могущество знания, — гордо говорит он Запаве, — человек — сам бог, если захочет им быть»41.
Будимир, опираясь на знание, вступает в единоборство с природой. Подобно Фаусту, он собирается осушить болото, предсказывает погоду и, демонстрируя свою власть над стихиями, выстрелом в облака отгоняет тучу — отсылка к практике искусственного вызывания дождя методом взрывов в облаках, о которой много писал Н. Ф. Федоров, видя в ней начало «обращения орудий истребления в орудия спасения»42, и которую активно пропагандировали в 1920-е гг. Н. А. Сетницкий, А. К. Горский, В. Н. Муравьев, а также анархист-биокосмист П. И. Иваницкий, выпустивший в 1925 г. в издательстве «Новая деревня» брошюру «Искусственное вызывание дождя и управление погодой посредством регуляции атмосферного и земного электричества».
Проектируя город Буян, Будимир собирается устроить в нем кремль, музей, обсерваторию для наблюдения над небесными явлениями — новые отсылки к философии Н. Ф. Федорова, для которого эти институты памяти и знания символизировали синтез науки и культуры в общем деле «обращения слепой, смертоносной силы в живоносную»43. Вдохновенно говорит герой-строитель Запаве, что в новом городе смогут раскрыться все силы и дарования людей, стремящихся жить и творить. Здесь будут свои зодчие, ваятели, живописцы. Будут построены новые дома, в которых будут жить люди Солнцевой страны, воплощая самые дерзновенные мечты, вплоть до победы над смертью. Будимир делает попытки подступиться к ее страшной загадке, производя опыты оживления, которые, впрочем, цели не достигают.
Само имя героя — Будимир — намекает на то, что в его образе действия дана модель строительства будущего мира, основанная на познании природы и управлении ее силами, на коллективном усилии, способном менять облик земли. «Все дело в согласном действии», — уверяет герой свою избранницу, — <…> Подумай только, что могли бы сделать люди, если бы соединили свои усилия и начали бы делать общее дело вместо того, чтобы расходовать свои силы на бессмысленную борьбу. Все пространство земли можно было бы заселить, обработать, превратить в цветущий сад»44.
Однако строимый Будимиром остров Буян лишь поначалу кажется идеальным городом будущего. Запава начинает осматривать устройство города, и замечает, что помимо свободных строителей, избранных «людей солнца, витязей», творящих новую жизнь, там есть «люди-волы». Для Будимира это разделение в порядке вещей, он гордо заявляет своей спутнице: «Счастье и солнце для избранных единиц, а не для толпы»45. Но героиня, взыскующая совершенного образа мира, не может принять подобной разделительной логики. Она упрекает Будимира в том, что его царство лишено свободы и равенства. «Настоящая мощь обретается только в единении всех, в общем деле»46, — говорит она герою.
Ранее восхищавшаяся его могуществом, увлеченная его речами о городе Солнца, Запава отчетливо видит гордыню Будимира, а когда мимо проходит «армия получеловеков», замечает, как меняется облик героя: его вдохновенное лицо внезапно становится «лицом надсмотрщика»47. На слова Запавы о том, что его Буян — не Солнцево царство, ибо строится на делении единого человечества «на людей солнца и на людей-скотов», Будимир презрительно замечает: «Уж не заразилась ли ты христианством и не проповедуешь ли ценность каждого человека как такового?»48.
Построенный Будимиром остров Буян оказывается дробным идеалом: он воплощает в себе мечту о преображении мира и управлении им, но не дотягивает до целостного идеала и по используемым им средствам (разделение на людей-витязей и людей-волов — очевидная отсылка к Г. Уэллсу), и из-за отчетливо выраженного в нем «прометеистического» характера активности человека в природе. Для Муравьева, как наследника русской религиозной философии в ее активно-христианском изводе, как представителя христианской ветви русского космизма, человек — не самостийный индивид, стоящий над природой и не нуждающийся в «гипотезе Бога», а существо, неразрывно связанное с другими существами единой цепью, образующее с ними всеединое, соборное целое, восходящее вместе с ними в Божественную полноту. Он — не узурпатор, а соработник, благой, творческий деятель, который «не только воскресает сам, но воскрешает других и себя, тем участвуя в Боге активно»49.
Как и всякий дробный идеал, проект Будимира терпит крах. Доведенные до отчаяния угнетенные люди поднимают восстание и разрушают город Буян. Финалом романа, как и в философской мистерии София и Китоврас, становится сон-видение Запавы под названием «Город будущего», в котором ей открывается подлинный путь к Солнцевой стране, основанный на знании, неразрывном с любовью, и на общем действии не только людей, но и всей природы:
«Теперь надо строить город на более широком фундаменте. Не должно быть париев, исключенных из участия в строительстве культуры. Основанием города должно быть все человечество. <…> Нужна помощь не только людей, но всех строителей мира, всех животных и растений, всех стихий, всей природы»50.
Подобно Софии, Запава повелевает всем людям и «всей природе участвовать в постройке дороги» в грядущий град, ибо и в человеке, и в каждом создании мира бьется сила жизнетворчества, «сила великого Буяна». «И с каждым ударом, и с каждым шагом уменьшается пропасть и приближается Солнечный Город»51.
Рисуя в мистерии «София и Китоврас», набросках сказки «Полоненное царство», финале романа «Остров Буян» образ вселенского действия, проектируя целостный образ будущего и идеал новой науки, неразрывной с религиозным сознанием, служащей делу жизни, Муравьев одновременно стремится увидеть и «камни преткновения» идеала всеобщего дела [Семенова, 1994: 102], понять, какими могут быть негативные сценарии общего действия, какие угрозы не внешнего, но внутреннего порядка должны быть человечеством учтены и в чем причина того, что научные эксперименты в области человеческой физики, равно как и попытки овладения силами природы могут быть не только созидательными, но и разрушительными, в том числе для самого человека и преобразуемого им природного мира.
Рефлексию над этой проблемой Муравьев облекает в форму научно-фантастических текстов, делая наброски к научно-фантастической пьесе «Восстание радионасекомых» и создавая конспект «Повести о том, как Яичкин сделался Фордом». Научно-фантастический жанр оказывается как нельзя более подходящим для постановки вопроса о том, на каких путях осуществлять движение в будущее, может ли это движение быть благим вне поля этики и что происходит, когда технологии порывают с аксиологией, уходя в область сугубой прагматики.
Сюжет пьесы «Восстание радионасекомых» был вызван интересом социологической и естественнонаучной мысли второй половины XIX — первой трети XX в. к жизни общественных насекомых, в частности к социальной организации термитов, основанной на четкой иерархической структуре и разделении функций трех каст: производителей, солдат и рабочих. Слаженность социума насекомых вызывала восхищение ученых. Один из лидеров российской евгеники, биолог Н. К. Кольцов утверждал: «Для дальнейшей эволюции человеческого типа может быть оставлен идеал такого приспособления к социальному устройству, которое осуществлено у муравьев или термитов»52.
Однако Муравьева привлекало отнюдь не жесткое устройство социума у насекомых: в пьесе главный герой — термит по имени Фаф — поднимал восстание против кастового устройства термитника. Философа интересовало другое: сложная организованность природы термитов, их способность к трансформации своего организма, ориентации в пространстве, улавливании электромагнитных волн. Эту способность, присутствующую у насекомых на уровне инстинкта, он считал продуктивной и значимой для будущей эволюции человеческого рода, обладающего не только инстинктом, но и разумом, подчеркивая, что в дальнейшем люди смогут сознательно овладеть этой способностью, присутствующей на досознательных уровнях жизни, и использовать для совершенствования физической природы человека, способов его взаимодействия с внешним миром.
О необходимости соединения инстинкта и интеллекта как двух оснований функционирования жизни на животном и сознательном этапах ее становления — писал А. Бергсон в книге «Творческая эволюция» (рус. пер. — 1909). А еще ранее Н. Ф. Федоров подчеркивал, что регуляции человек должен учиться у самой природы, овладевая механизмами «органосозидания», «естественного тканетворения»53, доступными ей на путях инстинкта, и переходя от технического прогресса, расширяющего возможности человека внешне, путем создания совершенных орудий, на пути внутреннего, органического прогресса, обретения существом сознающим способности к изменению своей природы54.
Муравьев подхватывает эти идеи и в символической форме, апробированной всемирной литературой, представлявшей жизнь животных вообще и насекомых в частности иносказательным изображением жизни людей, ставит вопрос о перспективах человечества как части природы, ее разумно-творческого авангарда, об исполнении/неисполнении задачи совершенствования себя и мира и о последствиях сворачивания рода людского на иные пути.
В качестве эпиграфа к пьесе Муравьев приводит слова французского историка Ж. Мишле из его книги «L’insekte» («Насекомое», 1858): «Термиты наименее защищенные насекомые и физически слабы; но они наилучшие строители», сопровождая их собственным комментарием: «То же самое можно сказать про людей»55. Схожесть организации людей и насекомых открывает возможности внутреннего роста первых и вторых: первых — по линии обретения способности к летанию, трансформации своего организма, улавливанию электромагнитных волн, вторых — по линии восхождения к свободе, сознанию и творчеству, явленным в человеческом мире.
Фаф, термит-изобретатель, символизирующий в пьесе внутреннее движение жизни к обретению сознания, протестует против своей участи в порядке природы, устремляясь к творческому действию и призывая своих собратьев выйти из состояния косности и застоя, беря пример с человека: «Посмотри на людей — говорит он своей возлюбленной Цалар, — почему они могут изобретать и двигаться вперед, а мы нет?»56. Подобно людям, Фаф стремится овладеть силами природы, полагая в этом свою миссию, подчеркивая, что, в отличие от людей, изменяющих вещи, «он, как насекомое, пользуется пластичностью своего рода, совершенствуя себя. Человек создал аппарат для радио, насекомое само превращается в источник радиоволн»57 и в этом смысле находится в более выгодном положении, чем человек: обретя разум и способность к творчеству и не утрачивая при этом природной пластичности, мир термитов способен достичь поистине невиданных возможностей, вплоть до достижения бессмертия.
Подобно будущим героям Заболоцкого — «безумному волку» из одноименной поэмы и мыслящим животным поэмы «Торжество земледелия» (1933), стремящимся подняться по эволюционной лестнице, делающим выбор в пользу сознания, науки и созидания58, Фаф призывает термитов двинуться к новым творческим горизонтам, изменяя наличный порядок вещей, управляя электрической силой, обнаруженной им в природе, сознательно используя способность живых организмов излучать магнитные волны. Однако призыв героя наталкивается, с одной стороны, на косность и социальную рознь обитателей термитника, а с другой — на межвидовую рознь, разделяющую термитов и людей: люди враждебны термитам, стремятся уничтожить их популяцию, проникают в термитник, ставя его на грань катастрофы. Сюжет пьесы развивается по линии столкновения термитов и людей, настоящей мировой войны между ними, когда «мобилизации всего человечества против термитов» противостоит «контра-мобилизация всех насекомых»59.
Примечательно, что человечество, использующее возможности интеллекта, уповающее на внешнюю техническую мощь, в этой войне проигрывает насекомым, задействующим не только инстинктивную способность к самоорганизации и противостоянию опасности, но и возможности целенаправленного управления природной энергией, и в частности, энергией атома. Фаф, научившийся управлять радиацией, мечет в сторону людей радиоактивные лучи, нанося им сокрушительное поражение, термиты овладевают человеческим городом, обращая людей в рабство, используя их как «вьючный скот», гоня их «на бойни для доставления мяса победителям»60.
Но и этот урок человечеству, пошедшему по пути одностороннего развития техники и пренебрегшему постановкой онтологических задач, которые в результате перехватываются термитами, в пьесе Муравьева не становится последним словом. Муравьев демонстрирует, к каким последствиям может привести абсолютизация закона борьбы в самой природе, когда вместо солидарного действия преображения мира, которое осуществляли, по призыву Софии и Запавы, люди, животные, птицы, рыбы, насекомые, облака, камни, травы… — все обитатели планеты Земля, человеческие и нечеловеческие существа, обращаются друг против друга. Победа термитов, одной части природного целого, берущих верх над людьми, другой его частью, в конечном итоге оборачивается катастрофой… для всей природы. Фаф, вдохновляющий термитов к новым победам: «Человечество у наших ног. — Земля в нашей власти. — Мы достигли небывалой культуры. — Но это не все. — Мы должны идти дальше. — Мы должны овладеть внутриатомной энергией»61, — стремится исполнить эту задачу, устраивается публичный опыт высвобождения ядерной энергии в скале, в результате которого происходит взрыв, разрушающий землю:
«Фаф: Поздно! Земля будет взорвана. — Смятение. Слышен гул, начинается ветер, вихрь, взрыв. — Все летит»62.
Д. Д. Николаев, рассматривая пути российской научной фантастики 1920-х гг., подчеркивает настойчиво звучащий в ней мотив столкновения цивилизаций, противостояние идеологически разных миров, в котором новейшие научные изобретения и открытия активно используются для победы над врагом. «В повести С. Т. Григорьева “Гибель Британии” (1926), — отмечает исследователь, — война будущего — столкновение не армий, а технологий» [Николаев, 2006: 680]. Но если С. Т. Григорьев (как ранее и А. В. Чаянов в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии») представляет достижения Советской России в области регуляции климата и атмосферы как фактор военного сдерживания и победы над врагом и в этом смысле оправдывает использование научного знания в военных целях, то В. Н. Муравьев в набросках пьесы «Восстание радионасекомых» в полной мере воспроизводит точку зрения Н. Ф. Федорова, для которого человечество, использующее новейшие научные открытия и технические изобретения в военных целях, совершает кощунство, используя данные ему Творцом разум и творческую способность на служение смерти:
«Адская технология, производящая орудия истребления, для оправдания своего существования, хочет видеть в крайней истребительности своих орудий сильнейшее средство против войны, т. е. хочет уверить в этом всех, забывая или скрывая при этом, что вооруженное состояние, постоянное ожидание войны не лучше, если не хуже самой войны. Таково оправдание адской софистики»63.
Муравьев, подобно философу общего дела, стремится преодолеть адскую технологию, подчеркивая — методом от противного, — необходимость для науки работать только на благо, утверждая человеческую жизнь как высшую ценность, которая не может быть объектом манипуляции.
О недопустимости манипуляции человеческой жизнью в биологических экспериментах, даже если они внешне направлены на защиту и утверждение этой жизни, Муравьев художественно размышляет в цикле «Неприятные рассказы» (1928), погружаясь буквально на дно человеческой природы, пытаясь понять и объяснить причины крайней жестокости человека, корни всевозможных психических отклонений, провоцирующих личность на зло, и настойчиво утверждая — методом от противного — что наука без твердого этического основания может стать для человечества дорогой в ад. Характерен с этой точки зрения рассказ «Синтетическая лаборатория доктора Михаэльса», в котором описываются эксперименты по оживлению и пересадке органов, проводимые над людьми, превращенными в подопытных животных. Обманом привлеченные в лабораторию и загипнотизированные доктором Скайлером герои не могут сопротивляться, претерпевая над собой все ужасы непроверенных экспериментов.
Сам доктор Скайлер, фанатик от науки, так объясняет студенту Петеру Кортланду, которого стремится сделать очередной своей жертвой, цели проводимой им вивисекции:
«— Вы должны быть счастливы, молодой человек, что случайное стечение обстоятельств привело вас к нам и позволит вам послужить делу величайшего научного открытия, которое когда-либо было сделано. Мы нашли после долгих исследований способ создавать синтетических людей с особо совершенной природой. Опыты целого ряда ученых дали нам возможность начать серию экспериментов в этом направлении. Мы имеем намерение путем пересадки органов и вивисекции создать комбинированные человеческие тела, в которых не будет недостатков, присущих современным людям. Мы уже добились блестящих результатов, работая над животными. Теперь мы хотим в этой лаборатории построить первого синтетического человека. Мы уверены, что во имя любви к науке вы не откажетесь предоставить нам для этой цели ваш организм. Жизнь коротка и все равно кончается смертью. Никакие ваши личные достижения не смогут сравниться с той великой ролью, которую вы можете здесь сыграть, как добровольный участник создания синтетического человека. Вы будете материалом для величайшего опыта. Из вашего тела будут взяты существенные части для построения совершеннейшего существа»64.
Муравьев, убежденный сторонник «Философии общего дела» Федорова, где задача преображения человеческой природы, как и природы мира основывалась на предельных религиозно-нравственных основаниях, на принципе апокатастасиса и абсолютного соответствия цели и средств, категорически не приемлет эксперименты над человеком, совершаемые вне поля этики. Через используемую в «Неприятных рассказах» поэтику шока он стремится духовно встряхнуть своих современников, подчеркивая, что работа над строительством новой культуры заключается «не во внешних только формах жизни, а в самом существе человека», требует «преображения человека в другую сторону»65.
Завершая разговор о научно-фантастическом пласте темы будущего у В. Н. Муравьева, коснемся конспекта «Повести о том, как Яичкин сделался Фордом». Повесть была задумана философом в 1925 г., когда он работал над переводом книги А. Бенсона «Новый Форд» по заказу издательства НКРКИ. Середина 1920-х гг. была пиком популярности идей Г. Форда в Советской России, чему в немалой степени способствовало и широкое сотрудничество его компании с СССР. С 1921 по 1927 г. Советская республика приобрела более 24 тракторов «Фордзон» и несколько сотен легковых и грузовых машин, а в 1923 г. был выпущен первый советский серийный трактор «Фордзон-Путиловец», представлявший собой преобразованную модель «Фордзона». В газетах и журналах появлялись популярные статьи о Форде, была издана книга Г. Форда «Моя жизнь и мои достижения» (М., 1925). Идеи Форда и практика его работы активно осваивались теоретиками НОТ, встраивались в общую установку на технизацию сельского хозяйства и производства. Как пишет А. М. Никулин: «Форд — пусть и капиталистический, но выдающийся и прогрессивный (!) организатор производства мирового уровня — в целом был одной из идеологических икон советской индустриализации. Большевики 1920-х годов готовы были почтительно учиться фордизму сегодня, чтобы, усвоив фордистские уроки завтра в 1930-е устремиться догонять и перегонять Америку» [Никулин, 2022: 48].
А. М. Никулин в статье «Муравьев В. Н: анализируя проекты сельского развития Генри Форда с точки зрения учения Николая Федорова» дал развернутый разбор наброска «Повести о том, как Яичкин сделался Фордом» и с точки зрения литературной традиции, и в контексте оценки Муравьевым, с одной стороны — ученым секретарем Центрального института труда, а с другой — религиозным философом-федоровцем, идей и проектов Г. Форда [Никулин, 2022]. Отсылая читателя к этой статье, отметим отчетливо звучащий в повести о скромном библиотекаре Яичкине, который объявил себя Фордом, мотив редукции живой жизни под натиском техники, символом чего становится конвейер Форда. Яичкину снится сон, что он, став наконец Фордом, изобрел способ превращать рабочих в машины. В результате на его фабрике не остается людей, более того он не может ни сдержать, ни контролировать запущенный им процесс машинизации человека, так что в конечном итоге сам становится «фрезерным станком», потом «машиностроительным» и в последней, почти апокалипсической сцене «пустой зал прозрачно сияет машинами, которые поворачиваются одни, без рабочих»66.
Прометеистически-техницистскому натиску на мир, оживающим машинам, которые поглощают и вытесняют людей, философы-космисты 1920-х гг. противопоставляли иной образ мироотношения и действия человека, основанный на субъект-субъектном принципе, на нерукотворном и неорудийном воздействии на окружающую среду. Об этом типе воздействия особенно много размышлял философ, эстетик, поэт Александр Горский.
Александр Горский: мировоздействие и духо-телесная метаморфоза
В проектировании будущего Горский, принадлежавший к христианской ветви русского космизма, был по-настоящему дерзновенен, буквально следуя словам ап. Павла: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). Выпускник Московской духовной академии, он прочитывал будущее сквозь призму последней книги Нового Завета — «Откровения Иоанна Богослова», но при этом, как и его друг Н. А. Сетницкий, как и их духовный собрат В. Н. Муравьев, развивал идеи «активной апокалиптики», подчеркивая светлый, миропреображающий пафос откровения о будущем, данного апостолом любви. Эту светлую линию «Откровения» Горский видел и в образе гусляров, стоящих на огнестеклянном море с гуслями Божиими и поющих Новую песнь, и в видении Небесного Иерусалима с его образом древа, 12 раз приносящего плоды, которое символически свидетельствует о полноте и вечности жизни, беспрерывно самообновляющейся, благой, совершенной. Более того, подчеркивал, что в движении к Небесному Иерусалиму, точнее — в воплощении его принципов на земле, и состоит главная задача истории.
Как Н. А. Сетницкий в конце 1920-х гг. посвятит вторую часть книги «О конечном идеале» разбору образов и сюжетов «Откровения Иоанна Богослова» в активно-христианском ключе, смело раскрывая их в свете идеала всеобщего дела, так Горский в 1922 г. будет работать над апокалипсическими поэмами, акцентирующими тему преображения. В них, как и в мистерии Муравьева, появляется образ внехрамовой литургии, творимой человеческим родом, сознавшим свое единство и религиозную ответственность перед Богом и бытием67. В рефлексии о будущем главный акцент поэт и философ делает на метаморфозе телесности, на преображении человека, совершаемом в процессе исполнения им Божьих заветов.
В отличие от научных фантастов, полагавших будущее действие человека в природе масштабным и технически мощным, но придававших мало значения внутренним, духовным его основаниям, в результате чего свершения будущего творились тем же «ветхим» человеком, стреноженным физически и духовно, свитым на своей самости, Горский в проектировании будущего уходил не только от утилитаризма и эгоизма, но и от техницизма, считая, что техника овнешняет человека, сообщает ему функции автомата, закрывает перспективу движения к «новой природе», к преображенному, духоносному телу, о котором пророчествует ап. Павел.
Идеал духо-телесной метаморфозы — в центре рефлексии Горского о будущем земли и человека. Представляя ее основания и перспективы, философ отсылает к ключевому эпизоду Нового Завета, описывающему момент Преображения Христа на горе Фавор, когда все естество Его засияло нетварным, Божественным светом. Ставя перед человеком задачу уподобления Спасителю не только в Его крестном страдании, но и в делах исцеления, воскрешения, регуляции природных процессов (утишение бурь, разделение хлебов), Горский призывает своих современников:
«Сплотимся же вокруг Престола,
Не пустим тленья к Бытию:
Все отдадим за звук глагола,
За жизнь его, как за свою68.
Сам стань Творца проводником
В пресуществлении Природы!»69.
Следуя идеалу «положительного целомудрия» Н. Ф. Федорова и идеям «Смысла любви» В. С. Соловьева, полагавшего высшую задачу любви в утверждении бессмертия, в достижении «всемирной сизигии», в преображении всей природно-космической среды просветленными и одухотворенными токами эроса70, Горский в трактате «Огромный очерк» (1924) противопоставил фрейдовскому психоанализу, вытесняющему влечения, психосинтез, одухотворяющий и просветляющий энергии пола, направляющий их на духо-телесное творчество, на преображение и собственного организма человека, и всей вне его лежащей природно-космической среды. Половому соединению и рождению, естественному в порядке природы, но производящему столь же несовершенную, страдающую и конечную жизнь, мыслитель противополагал сознательно-творческое управление эротическими энергиями. В поэтических текстах и философских набросках он рисовал образ духо-телесной метаморфозы, преодоления жесткой кожной границы, отделяющей организм от внешней среды, обретения им способности воздействовать на мир не при помощи внешних орудий, а непосредственно, нерукотворно, совокупностью магнитных волн и разрядов, представляющих собой трансформированные и просветленные энергии эроса. Смело раздвигая границы аскетического подвига, он включал в умное делание пресуществление не только умно-сердечной сферы, но и влечений эроса, очищающихся от животного сладострастия, проявляющих во всей полноте животворящую силу любви.
Свои заветные идеи о нерукотворном воздействии на мир усилием творческой воли, психо-физической регуляцией, превращающей энергию эротического возбуждения в энергию творческого мировоздействия, Горский развивал и в лагерный период, когда после ареста в 1929 г. он был направлен на Соловки, а затем на строительство Беломорско-Балтийского канала. Не угашавший духа, он воспринял это строительство, а также строительство Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска как своего рода репетицию, еще очень несовершенную пробу пера будущей жизнетворческой регуляции. Любивший игру слов, мыслитель заменял аббревиатуру «Магнитострой» на «Огнестекломорстрой», разумея под последним определением целостное, религиозно окрашенное строительство жизни, преодолевающее оскопленность дробного идеала, и в письмах жене М. Я. Монзалевской, Мэри, с которой был связан беспорочным, духовным браком долгие годы, призывал ее при свидании отдаться не воспоминаниям о прошлом, а проектированию будущего, подчеркивая важность всецелой включенности в напряженный ритм современности, требующей от каждого живущего мощнейшей концентрации внимания, духовной и творческой заряженности, беззаветной самоотдачи.
Говоря о путях мировоздействия, Горский включал в них и новые способы воздействия на атмосферу, в том числе при помощи музыки, подчеркивая космизующее воздействие звуковых волн. Мыслитель особенно ценил терменвокс, первый советский электромузыкальный инструмент, созданный в 1920 г. изобретателем Л. С. Терменом, в котором звук извлекался без прикосновения к инструменту при помощи вибрации рук музыканта за счет изменения частоты колебаний магнитного поля. Для Горского бесконтактный способ игры на терменвоксе представал как метафора возможности целенаправленного, гармонизующего воздействия человеческого организма на окружающую среду. Философ писал Мэри, певице и пианистке, погруженной в стихию музыки: «Продолжай происки арфистки и воздействуй на атмосферу»71.
Особое значение в деле высветления атмосферы эпохи, ее духовного фона Горский придавал снам, считая возможным управление сновидческой фантазией, организацию потока снов и пронизывающих их звуков и образов:
«Дать лицо звуку (т. е. увидеть образ, слагающийся из звуковолн) и равным образом довести до уха призвуки ежедневных, глаза намозоливших образов (отблесков и теней) — вот задача, о которой никто еще не помыслил»72.
В письме Мэри он набрасывал проект организации жизни, в котором не будет привычного деления на зоны активной работы и пассивного отдыха, ибо вся жизнь станет творческим деланием:
«Это если город, то не такой, где работа сосредоточена в заводах, лабораториях и книгохранилищах, а место культуры (бесплановых “развлечений”) и отдыха является некий парк. Наоборот, это система рабочих или творческих парков, связанных системой лучезвуковолн, и к ним всякие книжно-лабораторные клетки являются лишь незначительным и временным привеском. Научимся “спать с открытыми глазами»”: веко, этот клапан-предохранитель останется без надобности, когда явится возможность непосредственно излучать облака видений в надлежаще обработанную и восприимчивую атмосферу»73.
В модели мировоздействия, которую выстраивал Горский в философских текстах, письмах и стихотворениях, человек не отделялся от бытия, не отгораживался от него, не ставил между собой и миром посредника в виде техники, но, напротив, максимально раскрывался миру, стремился непосредственно контактировать с ним и одновременно воздействовать на него всеми силами и энергиями своего существа. Гармонизируя себя, собственную психо-физику, человек, по мысли Горского, должен вынести плоды этой гармонизации в мир, меняя и преображая внешнюю среду, побеждая разделенность, взаимную непроницаемость мира, торжествуя над хаосом и распадом.
В качестве своеобразной проектировки и тренировки мировоздействия Горский рассматривал художественное творчество, представляя творческий акт поэта, писателя, архитектора, живописца как предварение будущего миро- и телостроительства. При этом наиболее продуктивными в плане прощупывания путей будущей регуляции он считал поэзию и прозу символизма, в которых выстраивается целостный образ должного, совершенного строя мира и одновременно наиболее полно звучит тема преображенного эроса. Что же касается научной фантастики, то ее главный изъян философ видел в предлагаемой ею антропологии, страдавшей позитивизмом, одномерностью и упрощенностью, и упрекал авторов научно-фантастических произведений в том, «что эротическая проблематика в них отсутствует или же дается крайне топорно и примитивно»74.
Говоря о видах искусства, наиболее близко стоявших к делу «организации мировоздействия», Горский особенно выделял искусство кино, выводящее образ из состояния статики, устремленное к организации и гармонизации потоков образов. Философ вдохновился идеей поставить кино на службу делу воскрешения и регуляции. Обращая внимание на способность киноискусства представить картину того, как «в одном отрезке времени, но в разных участках пространства ряд людей, как будто друг от друга независимо, но глубоко зеркально взаимодействуя и взаимообусловливаясь, производят ряд жестов-слов — излучают волны любви, злобы, зависти, творчества и пр.», Горский предложил расширить ее диахронически, поменяв при этом акценты. Тогда в единой точке пространства, будь то «могила, храм, комната, улица, гора, лес и пр.», «но в разных отрезках времени (года, десятки лет, века, тысячелетия)» их обитатели совершали бы «одни и те же — или как-то взаимообусловленные и взаимопересекающиеся — жесты»75, тем самым демонстрируя глубинное единство рода людского не просто в современности, но и в истории, в уходящей вглубь времени цепи поколений, которая вся должна быть развернута, воскрешена в каждом своем звене.
В то же время философ, внимательно следивший за тенденциями развития научного знания и общественного устроения, задавался вопросом о том, каковы перспективы эволюции социальной жизни людей и их взаимодействия с природным миром, если прогресс техники будет продолжен, а состояние психофизики останется неизменным, более того — не изменится целеполагание человека, побуждающее его к действию. Так в его лагерных бумагах возник набросок научно-фантастического рассказа, в котором философ попытался заглянуть в будущее, смоделировав указанную ситуацию, но при этом подчеркивал, что после открытия Эйнштейна не может точно указать время действия, равно как и локализовать его в пространстве.
Горский описывает утопическую страну, называя ее жителей по имени их главного города — Люади. Он подчеркивает позитивные черты социального уклада людей-люадийцев:
«Почти полное отсутствие социальных неурядиц… отсутствие борьбы за власть, за пищу. Разумеется, за власть, упирающуюся в дубинку, в “тащи и не пущай”. Никто никого не тащил — и всех всюду пущали. Не было нищих, холодных, отрепанных. Каждый находил себе работу более или менее по вкусу. И у всех была уйма свободного времени»76.
Нарисовав эту привлекательную картину, Горский задается вопросом о том, куда употребляли люадийцы свободное время. И тут выясняется, что это свободное время использовалось в основном для развлечения, причем развитие техники давало возможность развлекаться, не прилагая к этому никаких усилий, буквально — не сходя с места:
«Радио — и звуковое кино достигло такого совершенства, что не стало нужды никуда двигаться, чтобы увидеть или услышать что-нибудь интересующее. Довольно было сесть или лечь у себя в комнате — нажать соответствующую кнопку, и пред каждым желающим начинали проноситься картины, а звуки — из любых областей действительности, истории или фантазии»77.
К чему привело такое удобство? К тому, что «большую часть своего времени жители Люадии проводили каждый у себя на дому — то переключаясь по каталогам на готовые фильмы любого содержания, то ища на свой страх и риск, новых ситуаций, прощупывая в разных местах эфир, попадая то на одну, то на другую волну — пересекаясь с другими такими же эфирными бродягами и завязывая таким образом эфирные знакомства, — имевшие все преимущество пред обычными. Тут, во-первых, не нужно никаких представлений и рекомендаций — во-вторых, возможность себя показать только с приятной стороны — и при малейшем затруднении или нежелании продолжать общение — переключиться на другую волну и след простыл»78.
Проницательно и точно описывал Горский возникающую благодаря развитию технологий и расширяющуюся все больше и больше виртуализацию жизни людей, демонстрируя не только позитивную, но и негативную ее сторону: атомизация общества, разрушение общей жизни и общения:
«Площади обезлюдели — залы собраний пустовали. Никому не было охоты прокладывать себе дорогу, толкая боками своих ближних, когда все тех же ближних или, вернее, дальних, можно было великолепно и с беспримерно большим разнообразием перелистывать в эфире»79.
Даже общение с природой целиком переходит в виртуальную сферу: «море — поле — лес — небо — все это заменялось экраном»80. А умение ученых синтезировать запахи, в том числе естественные, природные запахи, и осязательные ощущения, полагало окончательный крест на реальном контакте человека с живой природой и вообще на его контакте с миром и другими людьми, сводя реальное пространство его жизни до комнаты с большим экраном, на котором сменяются разнообразные виртуальные изображения.
В творческой модели мировоздействия, которую отстаивал Горский, невозможна ни подобная пассивность человека, имеющего уйму свободного времени и употребляющего его на развлечения, ни виртуализация, спровоцированная этой пассивностью и одновременно стремлением к качественной организации времяпрепровождения. Никакой расслабленности, никакого пассивного щелкания кнопкой по каналам с целью вызвать все новые и новые изображения, услаждающие слух и глаз, никакого ухода в иллюзию, при которой имитация запаха принимается за реальный запах, а имитация действия — за реальное действие, никакого дистанцирования от людей, редуцирования их до изображения на экране, которое в любой момент можно аннигилировать. Напротив — предельная собранность, деятельный настрой, постоянная внутренняя работа, перетекающая во внешнее действие, целью которого является не времяпрепровождение, а воскрешение, возжигание угаснувшей жизни, как огонь от огня.
Так в художественно-философском творчестве В. Н. Муравьева и А. К. Горского, нацеленном на проектирование будущего, отразилась сформулированная их духовным собратом и единомышленником Н. А. Сетницким, диалектика целостного/дробного идеала.
1 О биографии и творческом наследии А. К. Горского и В. Н. Муравьева см.: [Hagemeister: 230–239, 318–416]; [Семенова, 1993]; [Аксенов, 1992]; [Аксенов, 1998]; [Гачева, 2019а; 2019b; 2021: 519–574]; [Оносов, 2021; 2022].
2 О русском космизме, его персоналиях, идеях, влиянии на культуру см.: [Семенова, 2020]; [Гачева, 2021: 641–697]; [Young]; [Оносов, 2006].
3 Федоров Н. Ф. Сочинения: в 4 т. М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. Т. 2. С. 239.
4 Об этом свидетельствовал сам писатель в своих письмах родоначальнику космонавтики. См.: [Кудрявцев, 2005; 2009].
5 Циолковский К. Э. Гений среди людей. М.: Мысль, 2002. С. 23.
6 Вернадский В. И. Автотрофность человечества // Русский космизм: антология философской мысли. М.: Педагогика-пресс, 1993. С. 288.
7 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1981. Т. 23. С. 147.
8 Там же.
9 О мотиве онтологической «лишности» человека в русской философской поэзии и у Ф. М. Достоевского см.: [Гачева, 2004: 43–60].
10 Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 630.
11 Циолковский К. Э. Исследование мировых пространств реактивными приборами (Издание 1926 года) // Циолковский К. Э. Земля космическая. М.: Роскосмос, 2017. С. 324.
12 Соловьев В. С. Сочинения. Т. 2. С. 540.
13 Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. М.: Классика, 2002. Т. 1. С. 161.
14 Циолковский К. Э. Гений среди людей. С. 417.
15 Сетницкий Н. А. Избранные сочинения. М.: РОССПЭН, 2010. С. 79.
16 Умов Н. А. Роль человека в познаваемом им мире // Русский космизм: антология философской мысли. М.: Педагогика-пресс, 1993. С. 114, 121–122.
17 П. А. Флоренский — В. И. Вернадскому // Там же. С. 165.
18 Федоров Н. Ф. Сочинения. Т. 2. С. 48.
19 Федоров Н. Ф. Сочинения: в 4 т. М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. Т. 1. С. 111.
20 Там же. С. 125.
21 См. подробнее: [Гачева, 2021: 540–567].
22 Понятие «дробного идеала» было введено Н. А. Сетницким [Сетницкий, 2010: 122–134]: в отличие от целостного идеала, обладающего полнотой блага и совершенства, предполагающего всецелое преображение мира, человека, истории, стоящего на принципе апокатастасиса, дробные идеалы не несут в себе полноты. Черты целостного идеала могут быть в них отражены, но всегда в редуцированном, оскопленном, стреноженном виде. Дробные идеалы «не дотягивают» до целостного идеала или по цели, или по средствам. Зачастую они воспринимаются современниками как конкретные и воплотимые — в отличие от целостного идеала, кажущегося безумной мечтой, однако именно дробные идеалы в конечном итоге проваливаются в ходе истории. По-настоящему воплотим, по Сетницкому, только совершенный, целостный идеал.
23 См.: [Гачева, 2014, 2017, 2019b].
24 Муравьев В. Н. Сочинения: в 2 кн. М.: ИМЛИ РАН, 2011. Кн. 1. С. 104.
25 Там же. С. 346.
26 Там же. С. 682.
27 Муравьев В. Н. Сочинения: в 2 кн. М.: ИМЛИ РАН, 2011. Кн. 2. С. 699.
28 Там же.
29 Муравьев В. Н. Сочинения. Кн. 1. С. 51.
30 ОР РГБ. Ф. 189. Оп. 1. Карт. 17. Ед. хр. 13. Л. 6–7.
31 ОР РГБ. Ф. 189. Оп. 1. Карт. 8. Ед. хр. 32. Л. 17.
32 Там же. Л. 12.
33 Там же.
34 Муравьев В. Н. Сочинения. Кн. 2. С. 516.
35 Там же. С. 514.
36 Свящ. Павел Флоренский. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 2000. Т. 3 (1). С. 440.
37 Муравьев В. Н. Сочинения. Кн. 2. С. 514.
38 ОР РГБ. Ф. 189. Оп. 1. Карт. 4. Ед. хр. 1. Л. 2.
39 Там же. Л. 1.
40 ОР РГБ. Ф. 189. Оп. 1. Карт. 2. Ед. хр. 1.
41 Там же. С. 305.
42 Федоров Н. Ф. Сочинения. Т. 2. С. 298.
43 Там же. С. 200.
44 ОР РГБ. Ф. 189. Оп. 1. Карт. 2. Ед. хр. 1.
45 Там же. Л. 335.
46 Там же.
47 Там же.
48 Там же. Л. 347.
49 Муравьев В. Н. Сочинения. Кн. 2. С. 567.
50 ОР РГБ. Ф. 189. Оп. 1. Карт. 2. Ед. хр. 1. Л. 364.
51 Там же. Л. 369.
52 Кольцов Н. К. Улучшение человеческой породы // Русский евгенический журнал. 1922. Т. 1. Вып. 1. С. 15.
53 Федоров Н. Ф. Сочинения. Т. 2. С. 295.
54 Подробнее об идее органического прогресса у Н. Ф. Федорова и русских космистов см.: [Семенова, 2019: 217–218, 261, 330; 2020: 44–57].
55 Муравьев В. Н. Сочинения. Кн. 2. С. 518.
56 Там же. С. 519.
57 Там же. С. 518.
58 Подробнее о проявлении у Н. А. Заболоцкого идей Н. Ф. Федорова и К. Э. Циолковского о переходе природы из бессознательного состояния в сознательно-творческое и о подтягивании меньшой твари до человека как задаче будущей истории см.: [Семенова, 2016: 474–485].
59 Муравьев В. Н. Сочинения. Кн. 2. С. 522.
60 Там же.
61 Там же.
62 Там же.
63 Федоров Н. Ф. Сочинения. Т. 2. С. 274. Ср. реакцию Н. Ф. Федорова в письме В. А. Кожевникову от 12 января 1899 г. на сообщение газеты «Русские ведомости» о новейших артиллерийских орудиях, способных не просто уничтожать противника, решая судьбу боя, но разбивать кости и сжигать огнем их тела: «Если не преувеличены известия о действии на трупы новоизобретенных орудий, то разницы в отношении народа к вопросу о войне и умиротворению и к вопросу о кремации не будет. Бездушная интеллигенция, смотрящая с гигиенической точки, вероятно, очень возрадуется новому изобретению, а народ не придет ли в ужас от орудий, не убивающих только, но и производящих огненное погребение, которое, по народному воззрению, — ничего неясного и смутного в себе не заключающему, — лишает убитых не только настоящей, но и будущей жизни. Люди из народа решатся ли стрелять даже в творцов этого адского изобретения?» (Федоров Н. Ф. Сочинения: в 4 т. М.: Традиция, 1999. Т. 4. С. 373).
64 ОР РГБ. Ф. 189. Оп. 1. Карт. 8. Ед. хр. 18. Л. 10.
65 ОР РГБ. Ф. 189. Оп. 1. Карт. 8. Ед. хр. 1. Л. 2.
66 Муравьев В. Н. Сочинения. Кн. 2. С. 532.
67 См. подробнее: [Гачева, 2018: 430–433].
68 Горский А. К. Сочинения и письма: в 2 кн. М.: ИМЛИ РАН, 2018. Кн. 2. С. 240.
69 Там же. С. 242.
70 Подробнее об идеале метаморфозы эроса и пола у Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева и А. К. Горского см.: [Семенова, 1994: 251–259, 359–381].
71 Горский А. К. Сочинения и письма. Кн. 2. С. 496.
72 Там же. С. 497.
73 Там же.
74 Там же. С. 35.
75 Там же.
76 Там же. С. 39.
77 Там же.
78 Там же. С. 39–40.
79 Там же. С. 40.
80 Там же.
About the authors
Anastasia G. Gacheva
A. M. Gorky Institute for World Literature, Russian Academy of Sciences; The Moscow School of Social and Economic Sciences; Fyodorov’s Library no. 180 OKC of the Southern Administrative District of Moscow
Author for correspondence.
Email: a-gacheva@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5453-0881
PhD (Philology), Leading Research Fellow at the Department, Leading Research, Chief Librarian, Researcher
Russian Federation, ul. Povarskaya 25a, Moscow, 121069; Gazetny per. 3–5/1, Moscow, 125009; ul. Profsoyuznaya 92, Moscow, 117485References
- Aksenov G. P. The Power Over Time (on Valerian Muravyov and His Philosophy). In: Voprosy filosofii, 1992, no. 1, pp. 89–97. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?edn=tauxyx&ysclid=m0knitrf32914754597 (accessed on May 12, 2024). EDN: TAUXYX (In Russ.)
- Aksenov G. P. The Seeker of the Last Truth. In: Murav’ev V. N. Ovladenie vremenem. Izbrannye filosofskie i politicheskie proizvedeniia [Muravyov V. N. Mastering Time. Selected Philosophical and Political Works]. Moscow, Political Encyclopedia Publ., 1998, pp. 3–21. (In Russ.)
- Gacheva A. G. “Nam ne dano predugadat’, Kak slovo nashe otzovetsya…” Dostoevskiy I Tyutchev [We Can Not Predict How Our Words Will Resound...” Dostoevsky and Tyutchev]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2004. 640 p. (In Russ.)
- Gacheva A. G. V. N. Muravyov’s Philosophical Mystery “Sofia and Kitovras”: a Creative History. In: “Strana filologov”: problemy tekstologii i istorii literatury. K yubileyu chlena-korrespondenta RAN N. V. Kornienko: sbornik nauchnykh statey [“The Land of Philologists”: Problems of Textual and Literary History. To the Anniversary of Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences N. V. Kornienko]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2014, pp. 54–67. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=41552004 (accessed on May 12, 2024). EDN: SOUOIZ (In Russ.)
- Gacheva A. G. Gnostic Motifs in the Philosophical Mystery “Sofia and Kitovras” of V. N. Muravyov. In: Rossiya i gnozis: trudy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Russia and Gnosis: Proceedings of the International Scientific Conference]. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2015, vol. 1, pp. 15–51. (In Russ.)
- Gacheva A. G. Active Apocalyptics: Images of the New Testament in Works of A. K. Gorsky, N. A. Setnitsky, V. N. Muravyov. In: Novozavetnye obrazy i syuzhety v kul’ture russkogo modernizma [The New Testament Images and Plots in the Culture of Russian Modernism]. Moscow, Indrik Publ., 2018, pp. 422–441. (In Russ.)
- Gacheva A. G. The Concept of the Liturgical Poetry in A. Gorsky’s Aesthetics and Artistic Practice. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics], 2019, vol. 17, no. 1, pp. 108–161. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1554369989.pdf (accessed on May 12, 2024). doi: 10.15393/j9.art.2019.6001 (In Russ.) (a)
- Gacheva A. G. A Sophianic Theme in the Artistic and Philosophical Heritage of Valerian Muravyov: from the Mysteries of “Sophia and the Centaur” to the Novel “The Island of Buyan”. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics], 2019, vol. 17, no. 4, pp. 242–272. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1571145008.pdf (accessed on May 12, 2024). doi: 10.15393/j9.art.2019.6842 (In Russ.) (b)
- Gacheva A. G. Chelovek i istoriya v zerkale russkoy filosofii i literatury [Man and History in the Mirror of Russian Philosophy and Literature]. Moscow, Vodoley Publ., 2021. 700 p. (In Russ.)
- Kostylev A. O. Andrei Platonov and the Discussion of the Fairy Tale in Children’s Literature of the 1920s. In: Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Kostroma State University], 2021, vol. 27, no. 2, pp. 130–136. Available at: https://vestnik.ksu.edu.ru/2021-t-27-2/kostylev-ao-vestnik-2021-2-ru.html (accessed on accessed on May 12, 2024) DOI: https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-2-130-136 (In Russ.)
- Kudryavtsev E. Correspondence of Science Fiction Writer A. R. Belyaev with K. E. Tsiolkovsky. In: Neva, 2005, no. 4, pp. 260–267. (In Russ.)
- Kudryavtsev E. P. From the Correspondence of A. R. Belyaev and K. E. Tsiolkovsky. To the Peculiarities of Russian Cosmism (Text Preparation and Comments of E. P. Kudryavtsev). In: Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii [Journal of the Russian Christian Academy for the Humanities], 2009, vol. 10, issue 4, pp. 202–207. Available at: https://np.rhga.ru/upload/iblock/79f/79f31f6658c1ea6d38624373c23c4ee5.pdf (accessed on May 12, 2024 ). (In Russ.)
- Nikolaev D. D. Russkaya proza 1920–1930-kh godov: avantyurnaya, fantasticheskaya i istoricheskaya proza [Russian Prose of the 1920th–1930s: Adventurous, Fantastic and Historical Prose]. Moscow, Nauka Publ., 2006. 688 p. (In Russ.)
- Nikulin A. M. Muravyov V. N.: Analyzing Rural Development Projects Henry Ford from the Point of View of the Teachings of Nikolai Fedorov. In: Dukhovno-nravstvennoe vospitanie [Spiritual and Moral Education], 2022, no. 6, pp. 47–60. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=50323569&ysclid=m0kre19ws8543702897 (accessed on accessed on May 12, 2024). EDN: PMAKUV (In Russ.)
- Onosov A. A. Kul’turno-evolyutsionnaya deontologiya: sotsial’nye proektsii russkogo kosmizma [Cultural and Evolutionary Deontology: Social Projections of Russian Cosmism]. Moscow, Lomonosov Moscow State University Publ., 2006. 146 p. (In Russ.)
- Onosov A. A. Museum of Russian Cosmosophy: V. N. Muravyov’s Philosophy of Action. In: Voprosy Filosofii, 2021, no. 1, pp. 150‒159. Available at: https://pq.iphras.ru/article/view/5342 (accessed on accessed on May 12, 2024). DOI: https://doi.org/10.21146/0042-8744-2021-1-150-159 (In Russ.)
- Onosov A. A. Universal Transformative Culture (From the “Gospel of Omnipotence” of V. N. Muravyov). In: Filosof obshchego dela: materialy mezhdunarodnykh nauchnykh chteniy pamyati N. F. Fedorova [The Philosopher of the Common Cause: Materials of International Scientific Readings in Memory of N. F. Fedorov]. Moscow, Centralized Library System of the South-West Administrative District Publ., 2022, pp. 410–458. (In Russ.)
- Semenova S. G. Valerian Nikolaevich Muravyov. In: Russkiy kosmizm: antologiya filosofskoy mysli [Russian Cosmism: Antology of Philosophical Thought]. Moscow, Pedagogika-Press Publ., 1993, pp. 185–190. (In Russ.)
- Semenova S. G. Tayny Tsarstviya Nebesnogo [Secrets of the Kingdom of Heaven]. Moscow, Shkola-press Publ., 1994. 415 p. (In Russ.)
- Semenova S. G. Russkaya literatura XIX–XX vv.: ot poetiki k miroponimaniyu [Russian Literature of the 19th—20th Centuries: from Poetics to Worldview]. Moscow, Akademicheskiy proekt Publ., Paradigma Publ., 2016. 890 p. (In Russ.)
- Semenova S. G. Filosof budushchego: Nikolay Fedorov [Philosopher of the Future: Nikolai Fedorov]. Moscow, Akademicheskiy proekt Publ., Paradigma Publ., 2019. 638 p. (In Russ.)
- Setnitsky N. A. Izbrannye raboty [Selected Works]. Moscow, ROSSPAN, 2010. 734 p.
- Tikhonov N. S. Iz mogily stola [From the Grave of the Table]. Moscow, Sabashnikov Publishing House, 2005. 512 p.
- Semenova S. G. Sozidanie budushchego: filosofiya russkogo kosmizma [Creating the Future: The Philosophy of Russian Cosmism] Moscow, Nookratiya Publ., 2020. 458 p. (In Russ.)
- Hagemeister M. Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben, Werk und Wirkung [Nikolai Fedorov. Studies of Life, Works and Effect]. München, Sagner Publ., 1989. 550 p. (In German)
- Young G. M. The Russian Cosmists: the Esoteric Futurism of Nikolai Fedorov and His Followers. New York, Oxford University Press Publ., 2012. 296 p. (In English)
Supplementary files