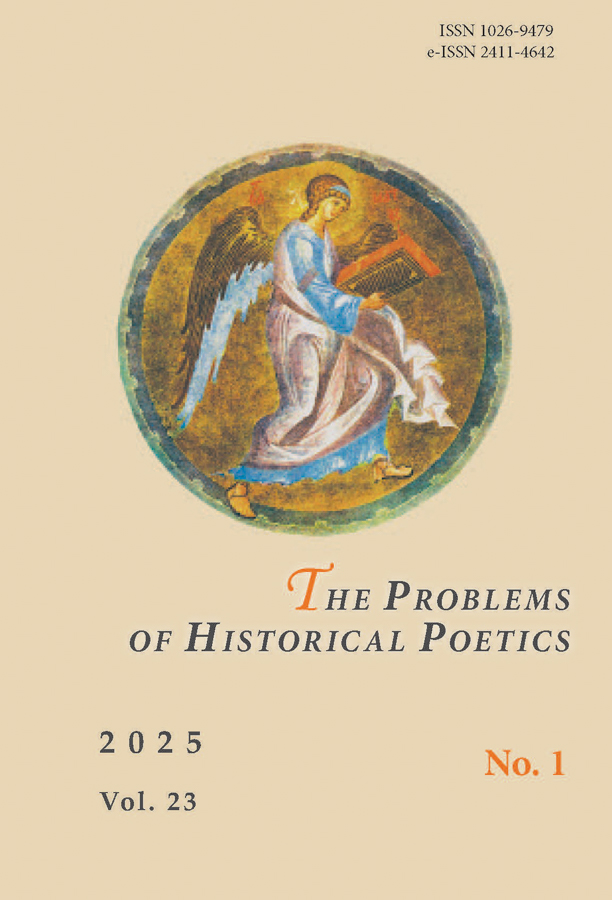Eschatological Motifs in the Short Novel “Definitely Maybe” by A. and B. Strugatsky
- Authors: Abramova O.G.1, Suchockaja J.V.1
-
Affiliations:
- Petrozavodsk State University
- Issue: Vol 22, No 3 (2024)
- Pages: 286-308
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9479/article/view/276278
- DOI: https://doi.org/10.15393/j9.art.2024.14202
- EDN: https://elibrary.ru/QJOQHT
- ID: 276278
Cite item
Full Text
Abstract
The article presents an analysis of eschatological motifs in Arkady and Boris Strugatsky’s short novel “Definitely Maybe” (“One Billion Years to the End of the World”) (1976), in particular, it describes the development of the motifs of the Last Judgment, the end of the world and the fate of the universe in the original idea of the story as reflected in the author’s sketches and in the final text. The motif of the Last Judgment underwent a strong change in the text of the story and was realized in the form of self-judgment of the scientists, who are the heroes of the story. They condemn themselves to a future in which their scientific potential will not be fully realized. The motif of the end of the world is stated in the title and the main conflict of the story, which entails the heroes’ confrontation with the force that prevents scientific discoveries that could lead to the end of the world. Most scientists try to make sense of what is happening by appealing to folklore, religious experience, or ideas about extraterrestrial civilization. The fate of the universe is closely connected with the phenomenon of the Homeostatic Universe, which influences the lives of the characters in the story not directly, but implicitly, through everyday phenomena, which by the story’s finale add up to an insurmountable obstacle for most scientists. The eschatological motifs of the Strugatsky brothers were formed under the influence of Holy Scripture, folklore, Russian cosmism and the philosophy of N. F. Fyodorov.
Full Text
«Присутствие эсхатологической топики в художественном тексте, — как было отмечено Н. С. Цветовой, — является одной из онтологически значимых особенностей русской литературной традиции, формирование которой началось в древнерусскую эпоху» [Цветова: 7]. Мотив конца света сопровождает русскую литературу и на протяжении всего XX в., полного исторических изменений и кризисов. Особое внимание современных исследователей привлекает апокалиптика В. П. Астафьева, Л. М. Леонова, В. Г. Распутина, А. И. Солженицына, В. М. Шукшина, писателей второй половины столетия (см.: [Золотухина], [Дырдин], [Журавель], [Цветова]). Художественная апокалиптика Аркадия и Бориса Стругацких, обладавших талантом создавать увлекательные истории, отразившие глубокие философские и социальные проблемы, не стала исключением.
Творчество братьев Стругацких начали изучать еще при жизни писателей. Уже в 1975 г. в монографии «Русский советский научно-фантастический роман» в главе «Дорога в сто парсеков» упоминаются С. Снегов, Г. Мартынов, А. и Б. Стругацкие как авторы романов-эпопей о будущем [Бритиков]. В 1985 г. в Лондоне была опубликована книга Л. Геллера «Вселенная за пределом догмы: Размышления о советской научной фантастике», в которой отдельные главы были посвящены А. и Б. Стругацким, В. Савченко и И. А. Ефремову. На примере нескольких повестей ученый рассмотрел «феномен Стругацких», оказавших влияние на мировую литературу [Геллер]. В 1991 г., во время публикации первого собрания сочинений братьев, стало ясно, что их творчество требует более глубокого научного осмысления. Автор вступительной статьи А. Зеркалов (Александр Исаакович Мирер) отмечал: «И ведь не то что монографии — нет ни одной опубликованной статьи о поэтике Стругацких!» [Зеркалов: 10].
Ситуация изменилась к настоящему времени. В последние десятилетия было защищено более десяти кандидатских диссертаций по творчеству Стругацких, ученые исследуют их идеостиль, произведения в контексте литературных направлений XX в., то, как принималось и освещалось творчество братьев в критике и литературоведении [Кузнецова], [Тельпов]. Материалом для исследования Н. А. Бирюзовой стал роман фантастов «Отягощенные злом, или сорок лет спустя», в котором, согласно ее анализу, присутствуют христианские мотивы.
При этом, несмотря на внимание ученых к творчеству Стругацких, до сих пор не все их тексты становятся объектами пристального изучения. Так, повесть «За миллиард лет до конца света», опубликованная в 1976 г., остается практически неизученной (см. [Калинина], [Лисовицкая], [Фролов], [Щукина]).
В 1990 г. в Мичиганском университете была защищена диссертация Ивонны Хауэлл «Апокалиптический реализм: научная фантастика братьев Стругацких», в которой эсхатологические мотивы утверждаются как одни из главнейших в творчестве фантастов. Откликом на эту диссертацию в отечественных исследованиях можно считать статью С. Некрасова «Космизм Н. Ф. Федорова и творчество Стругацких», опубликованную в 1996 г. В ней автор вступает в полемику с И. Хауэлл относительно повести «Волны гасят ветер» и ее связей с «Философией общего дела» Н. Ф. Федорова, отмечая тенденциозность некоторых утверждений американской коллеги. В примечаниях к статье С. Некрасов указал: «Предполагалось, что диссертация будет переработана автором и издана отдельной книгой, однако известий об этом до настоящего времени не поступало [Некрасов: 167]. Результаты исследования И. Хауэлл были опубликованы на английском языке еще в 1994 г. [Howell], а спустя более четверти века, в 2021 г., книга вышла в России на русском языке.
В своей работе И. Хауэлл акцентирует внимание на межтекстовых отсылках, которые «отражают сознательное стремление авторов откликнуться на тему апокалипсиса, присутствовавшую в русской литературе до и непосредственно после революции. Более того, Стругацкие, как и их предшественники в Серебряном веке и 1920-х годах, пытаются пересмотреть значимость иудеохристианской апокалиптической мысли для современной русской жизни, внося в свой фантастический мир образы из гностических и манихейских ересей, космологии Данте и, конечно, библейского Откровения» [Хауэлл: 29]. Исследовательница вполне однозначно утверждает влияние Откровения Иоанна Богослова на ряд произведений Стругацких. В то же время довольно подробно рассматривает вопрос о связях художественного мира советских фантастов с философскими идеями Н. Ф. Федорова.
Разумеется, в текстах братьев Стругацких отсутствуют прямые указания на Евангелие и философское учение Федорова, что обусловлено и эпохой, в которую они творили, и позицией авторов, неоднократно выраженной Борисом Стругацким в интервью:
«…у меня существует некое представление о том, что такое религия как социальное явление, откуда она берется и каково ее социальное назначение. Вот эти представления у меня есть. А что касается <…> религиозной философии, то я не уверен, что мне это даже будет интересно!»1.
Тем не менее связи между текстами имеют более тонкий характер. Г. А. Тиме пишет об этом так: «…прочитанное лишь поступает в творческий "запас" писателя и находит отражение в произведениях более позднего времени, причем, как правило, в достаточно измененном виде, соприкасаясь с иными исканиями и новыми читательскими интересами. Здесь на первый план выступают категории мышления самого писателя, который далеко не всегда следует прочитанному или спорит с ним…» [Тиме: 18].
Христианская традиция, столь глубокая и насквозь пронизывающая русскую культуру, не могла не повлиять на творчество Стругацких. Однако одна из главных сложностей выявления подобных связей состоит в отсутствии возможности однозначной интерпретации многих произведений Стругацких. Как отметил С. Некрасов, «Стругацкие активно экспериментируют со стилями, используют многие приемы постмодернистской эстетики, не оставляя предпосылок для однозначной интерпретации какого-либо фрагмента. (Впрочем, большинство их произведений также не допускает однозначной трактовки)» [Некрасов: 165].
В предисловии к 4-томному Собранию сочинений Н. Ф. Федорова, издававшемуся во второй половине 1990-х гг., С. Г. Семенова, внесшая значительный вклад в изучение и публикацию наследия мыслителя, отмечает редкую оригинальность философии Федорова, система основных категорий которой соединяет «язык родового сознания и христианского мышления» [Федоров: 16]. Наряду с этим неоднократно в публикациях разных лет исследовательница подчеркивала, что при всем своем универсализме «Федоров — мыслитель по преимуществу религиозный, ибо устремляет человечество к наивысшим и наиблагим идеалам и целям» [Семенова: 8], уделяя особое внимание влиянию философии «московского Сократа» на русскую литературу XX в. [Семенова, Гачева: 42–59]. Работы С. Г. Семеновой 1980-х гг., посвященные Н. Ф. Федорову, стали значимой основой изучения научной фантастики в контексте «Философии общего дела».
В 1988 г. Е. М. Неёлов выделил особую роль трех исходных идей философа — идей родственности, регуляции и патрофикации, определяющих жанровое содержание научной фантастики и имеющих глубокое родство с натурфилософией русской волшебной сказки. «Художественная натурфилософия волшебной сказки, — пишет Неёлов, — вот родник, равно питающий и жанровое содержание научной фантастики в целом и, в частности, научно-фантастическое (и в то же время сказочное) учение Федорова» [Неёлов, 1988: 169].
Е. М. Неёлов отмечал сложность существования христианской традиции в фантастической литературе в чистом виде и выделил три возможных варианта ее воплощения. Первый, так называемый «нулевой», когда христианская традиция находится лишь на жанровом уровне, не входит в уровень содержания. В качестве примера ученый привел большую часть фантастики советского периода. Второй вариант, иллюстрацией к которому стал роман «Трудно быть богом», предполагает, что христианская традиция входит в фантастическую литературу на уровне фразеологии, образов и мотивов, потерявших «в культурном коде строгий христианский смысл, имеющих скорее светское, чем религиозное значение» [Неёлов, 2011: 385]. Согласно третьему варианту, христианская традиция сохраняется в фантастической литературе практически в аутентичном виде, но оказывается обусловлена законами жанра (перемещением во времени и др.).
Таким образом, анализируя художественный мир Стругацких, мы имеем дело со сложным комплексом вопросов о влиянии на него, с одной стороны, Священного Писания и христианского мировоззрения, с другой — русского космизма и философии Н. Ф. Федорова, с третьей — фольклорного наследия. Квинтэссенция этого комплекса обнаруживается в рассматриваемой нами повести, а именно в художественном воплощении эсхатологических мотивов.
В повести «За миллиард лет до конца света» находят отражение мотивы Страшного суда, конца света и судьбы Вселенной.
Мотив Страшного суда переплетается с мотивом конца света и проявляется, главным образом, на уровне художественного текста. Обратимся к истории создания повести, опираясь на рабочие дневники братьев. Первое упоминание будущей повести встречается в записи Бориса Стругацкого от 23 апреля 1973 г.:
«23.04.73
Арк приехал писать заявку в "Аврору"
- "Фауст, XX век". Ад и рай пытаются прекратить развитие науки.
- "За миллиард лет до конца света" (до страшного суда).
Диверсанты
Дьявол
Пришельцы
Спруты Спиридоны
Союз 9-ти
Вселенная» [Стругацкие. Материалы к исследованию: 167–168].
На тот момент мотив Страшного суда утверждается на уровне варианта заглавия («За миллиард лет до страшного суда» в заявке Стругацких). На следующий день заявка была написана:
«24.04.73
Сделали заявку в "Аврору" на ЗМЛдКС.
Баба (подруга жены с запиской; оч<ень> соблазнительная).
Коньяк в холодильнике.
Странное (само)убийство соседа.
Странное поведение следователя (Кафка).
Дьявол: копыта на подоконнике.
Агент союза 9-ти.
Агент пришельцев.
Внезапное повышение на службе, требующее отказа от работы.
Коллекционерские находки (монеты, марки).
Нашествие сладострастных баб.
Фальшивые идеи (Ньютон — пойман на Апокалипсис; Ферма никогда не доказывал своей теоремы, почерк не его).
Телефонные звонки (телефон соединился с бюро разных справок).
Подкинут мальчика, 4-х лет ("Больше воспитывать не могу, воспитай сам").
Застрял в лифте.
Раздражение — удивление — страх — I понимание (все это не случайно) — ужас, поиск поддержки» [Стругацкие. Материалы к исследованию: 169].
В частности, в записи от 24 апреля упоминается Апокалипсис. Замысел 1973 г. был тесно связан как со Страшным судом, так и с фаустианским мотивом. Более того, в записи встречается упоминание дьявола, обладающего характерными признаками.
За следующий месяц идея практически не изменилась, лишь обросла дополнениями, связанными с более тщательной прорисовкой образов и развитием действия:
«18.05.1973
Гл. 1.
а) Калям — рыба, баба, тел<ефонные> звонки, жара, водка из стола заказов, соблазны, белая ночь.
б) тел<ефонный> звонок от Вайнгартена, сосед — разговоры вокруг да около, все напуганы.
Гл. 2.
а) следователь, несколько раз просит документы, читает и каждый раз забывает, убийство, исчезновение бабы, звонок о сдаче преступника.
б) тел<ефонный> звонок от Вайнгартена, опять вокруг да около, спросил почему-то о Губаре. В конце — звонит Вечеровскому.
Гл. 3.
Беседа с Вечеровским. Отпечатки копыт на подоконнике» [Стругацкие. Материалы к исследованию: 178].
В майский замысел третьей главы все еще входил мотив посещения квартиры главного героя дьяволом. В записях 1974 г. встречаются лишь упоминания пришельцев и Гомеостатического Мироздания. 5 февраля 1975 г. с братьями Стругацкими был заключен договор на издание повести «За миллиард лет до конца света» в журнале «Аврора». Срок предоставления готовой рукописи — не позднее 1 июля. Однако 26 мая Борис пишет брату следующее:
«…зМЛдКС сейчас "читают". Судя по всему, эта вещь их сильно ошарашила, и они полны сомнений. Ясно совершенно, что если повесть и пойдет, то только после основательной чистки. Андрей сказал мне, что решение будет вынесено, скорее всего, на редколлегии в середине июня» [Стругацкие. Материалы к исследованию: 391].
В августе писатели узнали о том, что журнал «Аврора» отказывается публиковать повесть. К 1976 г. текст был изменен и опубликован в пяти номерах журнала «Знание — сила».
Главным героем финальной редакции повести становится Дмитрий Алексеевич Малянов, астрофизик, оказавшийся на пороге научного прорыва. Вместе с тем в жизни ученого начинает происходить череда странных событий, затрудняющих его работу над исследованием. Малянов узнает, что часть его друзей оказалась в похожей ситуации: они находятся перед важным открытием в своей области, но не могут закончить труды. Математик Вечеровский предлагает собственное видение проблемы: ученые столкнулись с Гомеостатическим Мирозданием, законом природы, контролирующим развитие человечества. Получив очередную угрозу, на этот раз связанную с жизнью сына, Малянов сдается и препоручает свое исследование Вечеровскому, утверждающему, что он будет продолжать работу коллег.
Кто же совершает Страшный суд? В рамках повести сами герои неоднократно касаются темы суда и осуждения. Малянов четко видит свою жизнь после прекращения исследования:
«А я останусь по сю сторону черты вместе с Вайнгартеном, с Захаром, с Глуховым — попивать чаек, или пивко, или водочку, закусывая пивком, толковать об интригах и перемещениях, копить деньжата на "Запорожец" и тоскливо и скучно корпеть над чем-то там плановым…» (240)2.
Представленное будущее и есть своего рода интеллектуальный ад героя — прекращение работы над М-полостями, которые могли бы стать великим открытием. Жизнь после отказа от борьбы характеризуется словами с уменьшительными суффиксами -к-, -очк-, -ат-. Однако Малянов осуждает себя не только как ученого — прекращение исследований влияет на него и как на отца:
«…Бобка будет жив-здоров, но он уже никогда не вырастет таким, каким я хотел бы его вырастить. Потому что теперь у меня не будет права хотеть. Потому что он больше никогда не сможет мной гордиться» (240-241).
Выбор отца, по мнению героя, прямым образом влияет на сына: оказавшись в моральном и интеллектуальном аду (эффект усиливается побившим рекорды зноем, о котором говорится с первых строк повести), Малянов не сможет вырастить своего ребенка настоящим человеком.
Сюжет повести тесно связан с тем, что человечество сталкивается с некой силой, способной противодействовать научной мысли. Гомеостатическое Мироздание не желает изменений, ведущих к концу света. Однако в тексте повести приводится важное допущение:
«Имеется в виду, естественно, не конец света вообще, а конец того света, который мы наблюдаем сейчас, который существовал уже миллиард лет назад и которому Малянов и Глухов, сами того не подозревая, угрожают своими микроскопическими попытками преодолеть энтропию…» (180–181).
Конец одного конкретного света не означает невозможность продолжения существования Вселенной. Однако это продолжение будет другим, связанным с иными явлениями. Данная мысль не противоречит Откровению Иоанна Богослова: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр. 21:1). Мотив изменения и обновления мира — не уничтожения, а создания нового «света», не знакомого людям, — связывает повесть с библейским Апокалипсисом.
Заглавие «За миллиард лет до конца света» вызывает, с одной стороны, ощущение неизбежности этого самого конца и, с другой, обозначает расстояние между сегодняшним днем и последним:
«До конца света еще миллиард лет, говорит он. Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать, понимать и не сдаваться» (248).
Таким образом, и в первоначальном замысле, и в опубликованном тексте напрямую встречается упоминание Апокалипсиса. Связано оно с именем Ньютона, толковавшего эту книгу в конце жизни. Малянов предполагает, что великий ученый тоже столкнулся с силой, противостоявшей его исследованиям, но продолжил путь. И толкование Апокалипсиса стало своего рода искушением для Ньютона (как марки, должности и семья для героев повести).
Мотив конца света ярко выражен в оппозиции героев по отношению к происходящим с ними событиям, неизвестной силе, воздействующей на них. С одной стороны находятся пострадавшие ученые, включая Малянова, которые представляют «человеческое», «бытовое» отношение к концу света. Они пытаются осознать происходящее, обращаясь к идеям о внеземной цивилизации, фольклорному сознанию и религиозному контексту. С другой стороны находится Вечеровский с его «идейным», «надбытовым», научным отношением к апокалипсису, не противоречащим, что важно, религиозному пониманию мировой катастрофы: после конца света будет другой свет.
Кризисные эпохи связаны с тревогой как по поводу обозримого будущего отдельной личности и того, что ожидает человека после смерти, так и по поводу будущего всего человечества и мира. Е. Ю. Перова отмечает: «В мировой культуре, особенно христианской, эсхатологический сюжет является одним из самых распространенных» [Перова: 128]. Указывая на тесную связь эсхатологии с концептом страха, исследователь обращается к словам архиепископа Иннокентия: «Вообще, где бывают явления из другого мира, когда наш мир как бы распадается, там непременно нападает на людей страх»3. Распад привычного мира, нарушение существующего порядка не могут не вызывать у людей чувство тревоги и испуга перед неизвестностью. Конкретный страх в ситуации реальной угрозы усиливается появлением неопределенного метафизического страха. В подобном положении оказываются и герои повести «За миллиард лет до конца света».
Малянов и его коллеги сталкиваются с рядом пугающих событий. Они пытаются осознать их на разных уровнях (обращаясь к мифологии, сравнениям, конспирологическим теориям), но ничто не помогает. Ситуация осложняется, когда Вечеровский делится с коллегами своей теорией, согласно которой они столкнулись с природным законом, а не конкретными лицами, враждебно к ним настроенными.
Страх Малянова к концу повести становится «Черным страхом», представляющим собой совокупность конкретного и метафизического страха. Во время принятия решения о приостановлении или продолжении работы над исследованием, герой получает телеграмму с прямой угрозой для жизни его тещи и сына:
«ВЫЛЕТАЕМ С БОБКОЙ ЗАВТРА ВСТРЕЧАЙТЕ РЕЙС 425 БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ЦЕЛУЮ МАМА» (229).
После осознания произошедшего и передачи папки с работой Вечеровскому Малянов, временно окаменевший, чувствует, что ужас, вызванный угрозой жизни сына, несколько отступил, но метафизический страх перед случившимся, остался.
Для главного героя и его коллег конец света тесно связан со страхом. Пытаясь осознать столь сложное явление в полном его воплощении, Малянов обращается к фольклорным сравнениям:
«Это ведь я, это ведь со мной происходит. Не с Иваном-царевичем, не с Иванушкой-дурачком, а со мной» (156).
Приобщение к ключевым образам, сходным с архетипом главного героя сказок, связано с мифологическим сознанием героя. Он пытается сопоставить происходящие события с испытаниями, через которые проходит протагонист русского фольклора.
Однако попытки осознать силу, противодействующую исследованию Малянова, «идентифицировать эту силу» (174), обнаружить воплощение своего страха в каком-либо конкретном образе не ограничиваются обращением к фольклору. Герой рассматривает вероятность существования инопланетной цивилизации, пытающейся саботировать научный прогресс. Один из коллег Малянова утверждает, что столкнулся с Союзом Девяти — организацией из другого измерения. Существование разумной жизни, пусть и враждебно настроенной на продолжение части исследований, кажется Малянову более реалистичным, чем объяснение Вечеровского.
Другая сторона оппозиции, Вечеровский, имеет «идейное», научное объяснение произошедшим событиям. Использование логики и дедукции (в ситуации с Глуховым, отказавшимся от изучения своей темы), возможность смотреть на вещи шире, чем коллеги, позволяют герою обозначить Гомеостатическое Мироздание. Ученый столкнулся с этой силой раньше, чем Малянов, но не прервал свое исследование.
Именно Вечеровский указывает на неспособность коллег оторваться от мифологических, бытовых представлений о мире:
«А думать об этом — гораздо сложнее, чем фантазировать насчет царя Ашоки, потому что отныне каждый из вас — ОДИН» (148); «От бога отказались, но на своих собственных ногах, без опоры, без какого-нибудь мифа-костыля стоять еще не умеем. А придется! Придется учиться. Потому что у вас, в вашем положении, не только друзей нет. Вы до такой степени одиноки, что у вас и врага нет!» (174–175).
Мотив судьбы человечества или Вселенной раскрывается на фоне большой исторической перспективы и широкой географии. По всему тексту повести встречаются упоминания о разных эпохах, цивилизациях, географических объектах, мировых религиях и культурах. При этом местом действия остается относительно малое и в историко-культурном контексте специфическое пространство — типичная советская квартира4.
Так, «всеземной» охват поддерживается отсылками к мировым религиям на уровне образов, ритуалов, внешних атрибутов веры. В эпизоде, когда Малянов решается отнести результаты своего исследования Вечеровскому, жена Малянова, уже имеющая представление о силе, с которой столкнулся муж, понимает, что он не просто отдает свою научную работу, а отказывается от своих амбиций и целей:
«Когда я проходил мимо нее, она сделала слабое движение рукой, то ли пытаясь задержать меня, то ли благословить» (230).
Мотив благословления — одобрения, напутствия — сложно трактовать однозначно, но, как минимум, этот характерный жест (или, скорее, напоминание о нем) присутствует в тексте.
Когда Вайнгартен рассказывает Малянову и Губарю о встрече с рыжим человечком, делится ужасом, который испытал сам, он воскликнул: «Отец, вот те крест, честное пионерское!», при этом «он неумело перекрестился с ярко выраженным католическим акцентом» (109). В момент столкновения с необъяснимым герои повести прибегают к знакам веры. Знаки появляются и в окружающей их обстановке. Так, после сложного разговора между Маляновым и Вечеровским (в квартире последнего) возникает образ минарета, башни, с которой верующих созывают к молитве. В обыкновенном советском урбанистическом пространстве появляется образ, типичный для архитектуры мусульманских городов:
«Небо за окном было розовое с золотом, молодой месяц, словно на минарете, торчал в точности над крышей двенадцатиэтажника» (154).
Заканчивается повесть неточной цитатой из стихотворения «Трусость» Ёсано Акико, японской поэтессы XX в.:
«С тех пор все тянутся передо мной глухие кривые окольные тропы…» (248).
Впервые эти строки произносит Вечеровский после своего ключевого монолога, приводя полную версию текста:
«Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы…» (182).
Малянов просит героя повторить и в конце повести неточно вспоминает эти строки.
Текст в целом насыщен различными географическими примечаниями. В квартире Малянова хранится ваза из Хорезма, герои пьют армянский коньяк «Ахтамар», Вечеровский планирует продолжить исследования на Памире. Погибшему в своей квартире Снеговому была предсказана смерть в Гренландии. Упоминаются географические объекты разных категорий: Антарктида, Куба, Омск. Таким образом география текста значительно расширяется, фактически оставаясь в одной точке — в Ленинграде, в квартире главного героя.
Повесть имеет не только условную широкую географическую протяженность, но и масштабный исторический размах (упоминаются, например, древний правитель царь Ашока, древние государства и поселения — Хорезм и Пенджикент5). Упомянутые знаковые исторические события, местности, персоналии связаны с переломными моментами в истории человечества, когда необходимо было принимать трудные решения, на которые, если исходить из логики героев повести, могло влиять Гомеостатическое Мироздание.
Историческая, географическая, культурная панорамы повести сходятся в образе ученого, прежде всего математика Вечеровского, заметно отличающегося от всех. Подобно Н. Федорову, который в своем учении отводил важную роль науке и ученому, обладающему знанием и возможностью восстановления родства, преодоления смерти (см., напр.: [Федоров: 39–40]), братья Стругацкие создают образ истинного ученого, способного выйти за рамки обыденного, не привязываться к «земному», «человеческому».
Рассказчиком повести является Малянов, с помощью рукописи которого, найденной, как отмечено в эпиграфе, «при странных обстоятельствах», читатель восстанавливает происходящие события. Однако астрофизика нельзя назвать надежным рассказчиком, поскольку в тексте присутствуют лакуны, временами происходит смена субъекта повествования, в том числе в рамках одного предложения:
«Малянов протянул руку красавцу, и он тоже протянул мне руку, но в ней были зажаты осколки» (90).
Сюжет повести выстроен таким образом, что ключевую роль в системе персонажей играет Вечеровский: он является частью группы ученых, подвергшихся влиянию того, что они не в силах объяснить, и одновременно выступает в оппозиции к остальным.
Отношение коллег к Филиппу Вечеровскому показательно в описании Валентина Вайнгартена:
«Из всех своих знакомых больше всего он уважал Вечеровского, потому что Вечеровский был лауреат, а Валька до дрожи мечтал стать лауреатом» (100).
Вечеровский — ученый, отличающийся от своих коллег. Именно он может оторваться от бытовых реалий, в которые погружены его коллеги. Он пытается осмыслить происходящее на более высоком уровне, не используя концепцию внеземного вмешательства или фольклорных мотивов. Ученый не согласен с теорией о Союзе Девяти и не поддерживает идею о влиянии других цивилизаций. Он вводит понятие Гомеостатического Мироздания, осмысляя события с точки зрения науки и законов природы. Речь Вечеровского в момент объяснения теории начинает напоминать библейскую проповедь — появляется заметная симметрия, подобие дистиха, язык изложения событий меняется:
«Просто все процессы происходят так, что энергия сохраняется. Просто все процессы происходят так, чтобы через миллиард лет эти работы Малянова и Глухова, слившись с миллионами и миллионами других работ, не привели бы к концу света. Имеется в виду, естественно, не конец света вообще, а конец того света, который мы наблюдаем сейчас, который существовал уже миллиард лет назад и которому Малянов и Глухов, сами того не подозревая, угрожают своими микроскопическими попытками преодолеть энтропию…» (180–181).
В этом проявляется традиция разговора о том, что выше человека. Выше человека, согласно Вечеровскому, Гомеостатическое Мироздание — сила, противостоящая героям для сохранения человеческой цивилизации на существующем уровне развития. Научные открытия, на пороге которых стоят герои повести (примечательно, что не все из них касаются сугубо технической сферы), способствуют развитию людей, которое может привести к концу света. Однако в рамках сюжета, в рамках понимания главного героя апокалипсис связан с кардинальным переворотом мышления, возможной сменой цивилизации или какой-либо катастрофой.
Малянов, в свою очередь, не может понять Вечеровского. В тексте неоднократно встречаются упоминания о том, насколько Вечеровский отличается от своих коллег. Попытки обозначить его особенность выливаются в сравнения с инопланетянами и потусторонней силой:
«И раздавалось у меня в мозгу его удовлетворенное уханье, словно уханье уэллсовского марсианина» (248).
Малянову, как и другим ученым, решившим сдаться и прекратить свои исследования, проще думать, что Вечеровский связан с чем-то сверхъестественным или внеземным, чем примириться с тем, что человек способен сосредоточиться на предмете своего исследования даже при угрозе собственной жизни. Именно Вечеровский, собрав неоконченные труды коллег, собирается уехать на Памир и продолжить научную работу:
«Вечеровский поставил передо мной чашечку с кофе, а сам уселся напротив и точным изящным движением опрокинул в свой кофе остаток коньяка из бокала.
— Я собираюсь уехать отсюда, — сказал он. — Из института скорее всего уйду. Заберусь куда-нибудь подальше, на Памир. Я знаю, там нужны метеорологи на осенне-зимний период.
— А что ты понимаешь в метеорологии? — спросил я тупо, а сам подумал: от ЭТОГО ты ни на каком Памире не укроешься, тебя и на Памире отыщут» (241).
Таким образом, эсхатологические мотивы повести — мотив Страшного суда, мотив конца света, мотив судьбы Вселенной — оказываются связанными с образом Вечеровского. Как в Судный день люди делятся на праведников и грешников, так в белом июльском зное Ленинграда ученые, стоявшие на пороге важнейших открытий, делятся на тех, кто отступает, и Вечеровского, продолжающего путь. Мотив конца света ярко выражен в оппозиции героев по отношению к происходящим с ними событиям, к неизвестной силе, воздействующей на них. Теорию Гомеостатического Мироздания, препятствующего проведению исследований, способных привести к концу света, формулирует Вечеровский, он же говорит о конце света, который и «не конец света вообще, а конец того света, который мы наблюдаем сейчас, который существовал уже миллиард лет назад…». Он же к финалу повести остается единственным ученым, способным изменить судьбу Вселенной.
1 Язев С. Три беседы с Борисом Стругацким: 28 апреля 1994, Санкт-Петербург // Публицистика АБС [Электронный ресурс]. URL: https://www.rusf.ru/abs//int/inters.htm (12.06.2024).
2 Стругацкий А., Стругацкий Б. За миллиард лет до конца света. М.: Издательство АСТ, 2021. 256 с. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках. Издание 2021 г. используется в связи с тем, что в Полном собрании сочинений братьев Стругацких, изданном в начале 1990-х гг., повесть представлена не полностью.
3 Иннокентий, свт. Сочинения: чтение Евангельских сказаний о земной жизни Иисуса Христа, о Святой Троице, Учение о сотворении мира, о Промысле или Провидении, о Существах высших человека, Иисус Христос — искупитель человеческого рода. М.: Ронда, 2007. С. 34.
4 По мнению И. Хауэлл, реалии советского времени являются скорее фоном, «символическим хранилищем литературных и культурных аллюзий» [Хауэлл: 33].
5 «А под окном, рядом с осколками глиняного кувшина (Хорезм, XI век), сидел Калям с необыкновенно невинным видом» (67); «Один раз, уже ставши биологом, он даже затеял коллекционировать экскременты, потому что Женька Сидорцев привез ему из Антарктиды китовьи, а Саня Житнюк доставил из Пенджикента человеческие, но не простые, а окаменевшие, девятого века» (99).
About the authors
Oksana G. Abramova
Petrozavodsk State University
Author for correspondence.
Email: abramova@petrsu.ru
ORCID iD: 0000-0001-7307-1131
PhD (Philology), Director of the Institute of Philology
Russian Federation, Petrozavodsk, 185910Jolanta V. Suchockaja
Petrozavodsk State University
Email: iolantius@gmail.com
ORCID iD: 0009-0003-7024-6313
master's degree, junior researcher
Russian Federation, Petrozavodsk, 185910References
- Britikov A. F. Russkiy sovetskiy nauchno-fantasticheskiy roman [Russian Soviet Science Fiction Novel]. Leningrad, Nauka Publ., 1975. 448 p. (In Russ.)
- Geller L. Vselennaya za predelom dogmy: razmyshleniya o sovetskoy fantastike [Universe Beyond Dogma: Reflections on Soviet Science Fiction]. London, Overseas Publications Interchange Ltd Publ., 1985. 447 p.(In Russ.)
- Dyrdin A. A. Russian Idea of the 20th Century on the End of the World: Apocalyptic of L. Tikhomirov and Eschatology of L. Leonov. In: Vestnik Ul’yanovskogo gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta [Bulletin of Ulyanovsk State Technical University], 2003, no. 1–2 (21–22), pp. 12–16. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=20744167 (accessed on September 26, 2023). EDN: RLYOJT (In Russ.)
- Zhuravel’ O. D. The Autocratic Myth in the Late Journalism of Valentin Rasputin: “The Russian Idea” in an Eschatological Context. In: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya [Vestnik NSU. Series: History and Philology], 2020, no. 6, pp. 70–87. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/derzhavnyy-mif-v-pozdney-publitsistike-v-rasputina-russkaya-ideya-v-eshatologicheskom-kontekste?ysclid=m0b31hf17v462506594 (accessed on September 16, 2023). doi: 10.25205/1818-7919-2020-19-6-70-87 (In Russ.)
- Zerkalov A. Playing by Your Own Rules. In: Strugatskiy A., Strugatskiy B. Sobranie sochineniy: v 14 tomakh [Strugatsky A., Strugatsky B. Collected Works: in 14 Vols]. Moscow, Text Publ., 1991, vol. 1, pp. 5–18. (In Russ.)
- Zolotukhina O. Yu. Religioznyy poisk V. P. Astaf’eva v kontekste tvorcheskoy evolyutsii pisatelya [Religious Search of V. P. Astafiev in the Context of Creative Evolution of the Writer]. Krasnoyarsk, Krasnoyarsk State Academy of Music and Theater Publ., 2015. 199 p. (In Russ.)
- Kalinina L. V. Diskurs Opening: to Catch the Elusive (on the Material of A. and B. Strugatsky’s Short Novel “A Billion Years Before the End of the World”). In: Semantika. Funktsionirovanie. Tekst: mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov [Semantika. Functioning. Text: Interuniversity Collection of Scientific Works]. Kirov, Raduga-Press Publ., 2021, pp. 36–51. (In Russ.)
- Kuznetsova A. V. Osobennosti yazyka i stilya prozy brat’ev Strugatskikh: avtoref. dis. … kand. filol. nauk [Features of the Language and Style of the Strugatsky Brothers’ Prose. PhD. philol. sci. diss. abstract]. Moscow, 2004. 28 p. (In Russ.)
- Lisovitskaya V. N. Dialogue with the Reader in the Novel “A Billion Years to the End of the World” by the Strugatsky Brothers. In: Sfera kul’tury [Sphere of Culture], 2023, no. 1 (11), pp. 25–32. doi: 10.48164/2713-301X_2023_11_25 (In Russ.)
- Neyolov E. M. “Genre Content” of Science Fiction and “Philosophy of the Common Cause” by N. F. Fedorov. In: Zhanr i kompozitsiya literaturnogo proizvedeniya [Genre and Composition of Literary Work]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Named After O. V. Kuusinen Publ., 1988, pp. 160–171. (In Russ.)
- Neyolov E. M. Christian Tradition in Russian Science Fiction of the 20th and Early 21st Centuries. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2011, vol. 9, pp. 379–388. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/hristianskaya-traditsiya-v-russkoy-fantasticheskoy-literature-xx-nachala-xxi-veka (accessed on April 5, 2023). doi: 10.15393/j9.art.2011.332 (In Russ.)
- Nekrasov S. Cosmism of N. F. Fedorov and Strugatsky’s Works. In: Filosofiya bessmertiya i voskresheniya: po materialam VII Fedorovskikh chteniy. 8—10 dekabrya 1995 [Philosophy of Immortality and Resurrection: Based on the Materials of the 7th Fedorov Readings. December 8—10, 1995]. Мoscow, Nasledie Publ., 1996, issue 2, pp. 162–167. (In Russ.)
- Perova E. Yu. Eschatological Motifs in Russian Culture. In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki [Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities], 2015, no. 13 (724), pp. 126–133. Available at: http://www.vestnik-mslu.ru/Vest/Vest15-724z.pdf (accessed on March 19, 2024). (In Russ.)
- Semenova S. G. Filosof budushchego veka: Nikolay Fedorov [Philosopher of the Future Century: Nikolai Fedorov]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2004. 584 p. (In Russ.)
- Semenova S. G., Gacheva A. G. Philosopher of the Future Century (Personality, Teaching, Fate of Ideas). In: N. F. Fedorov: pro et contra: antologiya: v 2 knigakh [N. F. Fedorov: Pro et Contra: Anthology: in 2 Books]. Moscow, The Russian Christian Humanitarian Institute Publ., 2004, book 1, pp. 5–92 (Ser.: The Russian Way.) (In Russ.)
- Strugatskie. Materialy k issledovaniyu: pis’ma, rabochie dnevniki. 1972–1977 gg. [The Strugatskys. Materials for Research: Letters, Working Diaries. 1972–1977]. Volgograd, PrinTerra-Dizayn Publ., 2012. 760 p. (Ser.: The Unknown Strugatskys.) (In Russ.)
- Telpov R. E. Osobennosti yazyka i stilya prozy brat’ev Strugatskikh: avtoref. dis. … kand. filol. nauk [Features of the Language and Style of the Strugatsky Brothers’ Prose. PhD. philol. sci. diss. abstract]. Moscow, 2008. 18 p. (In Russ.)
- Time G. A. Rossiya i Germaniya: filosofskiy diskurs v russkoy literature XIX—XX vekov [Russia and Germany: Philosophical Discourse in Russian Literature of the 19th—20th Centuries]. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2011. 456 p. (In Russ.)
- Fedorov N. F. Sobranie sochineniy: v 4 tomakh [Collected Works: in 4 Vols]. Moscow, Progress Publ., 1995, vol. 1. 518 p. (In Russ.)
- Frolov A. Science-Fiction Work and Its Readers: A. and B. Strugatsky’s Short Novel “A Billion Years Before the End of the World”. In: Problema zhanra: sbornik statey [Problem of Genre: Collection of Articles]. Dushanbe, Dushanbe Pedagogical Institute Named After T. G. Shevchenko Publ., 1984, pp. 65–74. (In Russ.)
- Howell I. Apokalipticheskiy realizm: nauchnaya fantastika Arkadiya i Borisa Strugatskikh [Apocalyptic Realism: Science Fiction of Arkady and Boris Strugatsky]. Boston, Academic Studies Press Publ., St. Petersburg, BiblioRossika Publ., 2021. 192 p. (In Russ.)
- Tsvetova N. S. Eskhatologicheskaya topika v russkoy traditsionnoy proze vtoroy poloviny XX — nachala XXI vv.: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [Eschatological Topics in Russian Traditional Prose of the Second Half of the 20th — Beginning of the 21st Centuries. PhD. philol. sci. diss. abstract]. Arkhangelsk, 2011. 47 p. (In Russ.)
- Shchukina M. A. Eschatology, Futurology and Science Fiction as Interrelated Forms of Projecting the Future: on the Material of the Works of Brothers A. N. and B. N. Strugatsky. In: XXVII Sretenskie chteniya: materialy Vserossiyskoy (natsional’noy) nauchno-bogoslovskoy konferentsii s Mezhdunarodnym uchastiem (Moskva, 19–20 fevralya 2021 g.). [The 27th Sretensky Readings: Proceedings of the All-Russian (National) Scientific and Theological Conference with International Participation (Moscow, February 19–20, 2021)]. Moscow, St. Philaret’s Christian Orthodox Institute Publ., 2021, pp. 283–288. (In Russ.)
- Howell Y. Apocalyptic Realism: The Science Fiction of Arkady and Boris Strugatsky. New York, Peter Lang Publ., 1994. 170 p. (In Engl.)
Supplementary files