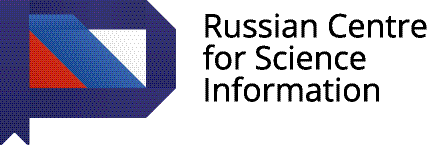Choosing a Path Through the Text: Problematization of the Paratext in P. Austerʼs Novel “The Night of the Oracle” (2003)
- Autores: Shulyatyeva D.V.1
-
Afiliações:
- Higher School of Economics
- Edição: Volume 83, Nº 6 (2024)
- Páginas: 108-117
- Seção: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/1605-7880/article/view/272413
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024060094
- ID: 272413
Texto integral
Resumo
In this article the author examines the reception of J.-L. Borgesʼ concept of “forking paths” in P. Austerʼs contemporary novel “The Night of the Oracle”. The “forking paths” become the main principle by which the readerʼs interaction with the text is modeled in the novel. “Night of the Oracle” problematizes linear reading which is more familiar to the reader and includes elements that stimulate the reader to move through the text non-linearly, disrupting the usual course. Such elements in the novel are footnotes included in its paratext. The paratext in the novel is problematized: it not only switches the readerʼs attention from the main text to its “threshold” (in terms of G. Genette), not only stimulates him to move forward, then back, not only puts an emphasis on choice as a kind of experience offered to the reader. The paratext (in the form of footnotes) turns out to be included in the diegetic world of the novel, it now creates those forks, those “forking paths” along which the reader is invited to walk, discovering variations of the events already presented in the novel. However, the functions of footnotes in the novel are not limited to this: they either vary the events of the novel, or, on the contrary, “throw” the reader out of the diegetic world, preventing him from immersing (in M.L. Ryanʼs terms) in the events presented in the narrative. Footnotes, in addition, include comments on the events already described, are designed to expand the context of what is happening in the novel, are (in some cases) an “optional” addition that is offered to the reader to vary his own “path through the text”. Due to this involvement of paratextual elements in the novel, the reader is always in the process of choosing, in captivity of variations that cover both his own movement through the text, but also the events taking place directly in the novel. The experimental use of paratext in a novel thus problematizes the readerʼs experience, making it more heterogeneous, but also complicates the representation of narrative events.
Palavras-chave
Texto integral
Идея Х.Л. Борхеса о «расходящихся тропках» получила активную рецепцию в литературе и культуре второй половины XX века: разветвление как принцип конструирования повествовательного мира был воспринят многими писателями (среди которых – и Х. Кортасар, и Р. Кувер, и П. Остер) [1] и режиссерами (К. Кесьлевским, например) [2], по-своему осмыслен такими нарративными медиа, как видеоигры, стал одним из ключевых для интерактивной и – шире – цифровой литературы. Разветвление как принцип создания повествовательного мира задействовалось и при создании пути героя (как в «Стеклянном городе» П. Остера, например), и при проблематизации событийности в повествовании (как в новелле «Бебиситтер» Р. Кувера), и при переосмыслении фигуры повествователя (как в новелле «Слюни дьявола» Х. Кортасара). Но принцип «расходящихся тропок» оказался востребован и в тех литературных экспериментах, которые обращались к проблематизации материальности текста – той среды, в которой повествование неизбежно оказывается, но присутствие и значение которой читателем не всегда осознается, а автором – не всегда подчеркивается. В этом аспекте идея разветвления традиционно подхватывалась эргодической литературой (греческий корень hodos в ее имени и обозначает «тропу») и интерактивными аудиовизуальными произведениями (кино и сериалами), которые превращали саму материальную оболочку повествования (книгу / фильм) в пространство, которое предложено читателю для изучения и обживания, в пространство, которое предполагает особое читательское внимание и которое можно освоить, пройдя по нему разными тропами [3]. В этом контексте оказываются и «Игра в классики» Кортасара, и «Бледный огонь» Набокова, и более поздний роман «Дом листьев» Данилевского, но и «Ночь оракула» Остера по-своему вписывается в эту традицию, продолжая размышление о разветвлении на уровне читательского движения по материальной поверхности текста.
Случай П. Остера примечателен тем, что идея о «расходящихся тропках» получает в его творчестве масштабную рецепцию: как в его романах, так и в собственных фильмах, и в иных творческих проектах, в которые он оказывается вовлечен (он сотрудничает с фотографами, его проза адаптируется в кино, по его романам создаются графические новеллы и инсталляции) [4]. С Борхесом Остера сближает и интерес к «превращениям письма», на которых, как подчеркивает Б.В. Дубин, полностью построена новелла «Сад расходящихся тропок» [5, c. 20]. Потому эксперимент с «расходящимися тропками» в его романе «Ночь оракула» – не случайность, а скорее часть последовательного размышления о том, как вымышленные миры могут открывать читателю мир, наполненный вариациями, могут концентрироваться на альтернативных вариантах развития событий, больше размышляя не о «свершившемся» внутри этого мира, но о «несвершившемся» [6] – только о том, что могло бы произойти, но не произошло. Во множестве романов Остер исследует «поиск идентичности, роль случая, совпадений, относительность истин» [7, c. 83] – и этот поиск тоже соотносим с осмыслением альтернативных версий событий, происходящих с героем. Такое направление творческого размышления проявляет себя и в том, как в собственных романах П. Остер все активнее предлагает читателю опыт выбора: выбора той или иной событийной «тропы», выбора той или иной точки зрения на одно и то же событие; наконец – и выбора собственного пути по тексту, по которому, подобно борхесовскому же лабиринту, читатель может двигаться в разных направлениях.
Такая проблематизация читательского взаимодействия с текстом, кажется, «восстает» против привычной линейности чтения: чтение как практика в его конвенциональном воплощении предполагает в самом общем виде, что читатель движется от строки к строке, от страницы к странице, не отступая от намеченного линейностью текста пути. Конечно, читатель может и уклоняться от такой линейности: делать паузы в чтении, возвращаться к уже прочитанному или, наоборот, мчаться по тексту прочь, желая узнать, чем все закончится, забегая тем самым вперед, пропуская на своем пути страницы. Произвольность такой нелинейности чтения предсказать нельзя, зато можно попытаться осмыслить повествовательные элементы, стимулирующие такое читательское движение. К подобным стимулам, конечно, могут относиться и те элементы репрезентации в литературном тексте, которые буквально (не «внутри» повествовательных событий, а за их пределами) направляют читательское движение, приглашая его к уклонению от привычной и линейной формы чтения, нарушая эту привычку и усложняя в результате сам процесс чтения и взаимодействие читателя как с повествованием, так и с его материальным оформлением.
Для постмодернизма в целом характерно и нарушение «внешней связности повествования» [8, c. 156], и игра с границами вымышленных миров. Они нередко размываются, меняя взаимодействие читателя с предложенными в романе событиями: попутно осмысляется и сам процесс письма и отвечающего ему чтения. Этой задаче и служит у Остера усложненная работа с паратекстом. Проза Остера, в соответствии с духом постмодернизма, и метарефлексивна, и интертекстуальна, она же все время «провоцирует» читателя, включая его в игру с текстом, превращая этот текст для него в головоломку. Но что-то изобретает Остер и сам, делая шаг навстречу уже иному состоянию культуры – заглядывая в будущее художественных форм. Потому сноски в его романе моделируют для читателя нелинейное движение по тексту, которое становится благодаря различным функциям сносок вариативным, открывая ему все большее пространство выбора. Проблематика выбора, которая в результате появляется в романе благодаря такому приему, сближает эксперимент автора с феноменами современной ему культуры, наделенными интерактивностью как свойством. Интерактивность как свойство особых типов повествования позволяет читателю совершать непосредственный выбор, оказывающий влияние на развитие сюжета. В романе Остера такая «текучесть», «подвижность», «динамичность» сюжета и текста обеспечивается за счет усложненной работы со сносками (паратекстом).
В романе «Ночь оракула» сноски сопровождают основное повествование (в англоязычном издании романа 2003 г. они расположены после текста, в конце книги; в некоторых переводах – например французском или русском – постранично; мы рассмотрим первый случай). Включение сносок в повествовательный эксперимент – явное переосмысление паратекста. Паратекст, как его описывал Ж. Женетт, обрамляет текст, составляет его «пограничную зону» [9, p. 261]. Паратекст – это «отношение текста к своему заглавию, послесловию, эпиграфу и т.д.» [10, c. 104]. Он не является включенным в диегетический мир, воплощенный непосредственно в повествовании, но включается в мир недиегетический (подобно тому, как в фильме функционирует недиегетический звук: недоступный слуху героя и не включенный в повествовательный мир, он обращен к зрителю и управляет его ожиданиями, переживанием и осмыслением того, что представлено на уровне изображения). Но у Остера сноски функционируют несколько иначе: визуально они отделены от основного текста (оформлены традиционно), но повествовательно связаны с ним, т.к. объединены общей фигурой нарратора (который ведет рассказ и в основном повествовании, но и, как оказывается, за его пределами), и общей событийностью, т.е. фактически могут быть включены в фабулу представленного произведения. Повествователь в романе Остера, таким образом, свободно переступает тот порог, который отделяет текст от паратекста, и властвует повсюду, но одновременно и раздваивается, объединяя в себе в данном случае и функции того, «кто говорит», т.е. ведет рассказ, и того, «кто комментирует», кто традиционно в паратексте «задает <…> программу чтения текста, его код» [11, c. 149], захватывая и диегетический мир, но и мир недиегетический. Можно описать этот прием и иначе: как использование имитации паратекста или ложного паратекста, при котором его графическое воспроизведение сохраняется, а повествовательное (разграничение двух миров) – нарушается. Граница между сносками и основным текстом на уровне повествования в «Ночи оракула», как видно, размыта, но на уровне визуального восприятия читателем она явна сохраняется: он пребывает сразу в двух мирах (если сноски даны на той же странице) или балансирует между ними (если вынужден заглядывать в конец книги) и в двух пространствах, в «вестибюле» (если пользоваться метафорой Борхеса) и в «основной части здания», представляющего собой текст.
Не менее значимо и то, что все имеющиеся в тексте сноски наделяются разными функциями: Остер как будто специально играет с ожиданиями читателя, каждый раз их нарушая. Непривычным для читателя является и само появление сносок, включенных в повествовательный мир произведения, но и последовательное изменение их функций: только привыкнув к одной, снова приходится отвыкать и переключаться на другую. Всего сносок в романе 13, их основные функции можно определить следующим образом: первая перебрасывает читателя в будущее главного героя; вторая и третья – предлагает ему вернуться (вместе с героем) в прошлое, следующие – расширяют историю за счет уточнений, шестая – выступает в качестве необязательной подсказки, намека, своеобразного подмигивания читателю, вводит дополнительную информацию, заостряющую конфликт и рождающую у читателя новые ожидания, с этим конфликтом связанные; седьмая и восьмая – обращают внимание читателя на исторический контекст, управляют его вниманием, позволяют реконструировать еще одно измерение рассказываемой истории; девятая пытается объяснить происходящее с героем в настоящем, десятая связывает вымышленные и реальные миры, одиннадцатая вводит элемент ненадежности и создает сомнение, и, наконец, последняя сноска вновь моделирует у читателя ожидания того, что произойдет в будущем.
Все эти сноски, таким образом, визуально предлагают дополнительные «тропки», по которым можно пройти, двигаясь по тексту; они не всегда меняют движение по сюжету, но меняют читательское взаимодействие с текстом (материальной оболочкой повествования), выступая в роли комментария, уточнения, дополнительного контекста и пр.; некоторые из них, однако, меняют и движение читателя по сюжету романа, то перебрасывая его вперед, то оттягивая назад. Этот тип сносок как источник повествовательного разветвления в романе «Ночь оракула» будет рассмотрен далее.
Переосмысление идей Борхеса в прозе Остера не раз подчеркивалось [12]; как заметно и внимание к тому, как эти идеи были осмыслены у Кортасара, а затем были восприняты и самим Остером. «Игра в классики» превращает пространство текста в пространство выбора для читателя, а само читательское движение по нему – в квест. Кажется, в этом романе Кортасар отвечает на свой же вопрос, заданный им в «Слюнях дьявола»: «поди знай, как это рассказать…», но одновременно и перебрасывает этот вопрос читателю, давая ему возможность самостоятельно выстроить нужный ему порядок событий в повествовании. «Игра в классики» заставляет читателя кружить по книге не воображаемо, а вполне реально: превращает книгу в конструктор, в «модель для сборки», требует от читателя буквальных физических усилий и движений, но переосмысляет и само повествование: как открытое к пересборке и перепрохождению (подобно видеоигре), требующее от читателя внимания к самому процессу чтения и взаимодействия с книгой как с пространством.
Неудивительно поэтому, что канцелярский магазин, в котором начинается действие романа Остера, называется «Бумажный дворец» – таким «дворцом» становится сам роман, все время требующий от читателя «челночного бега» по бумаге: физического движения по страницам, от начала к концу, затем обратно и снова вперед. Устройство материальной оболочки текста, стимулирующее подобный читательский опыт, конечно, в чем-то отражает его же работу воображения при взаимодействии с самим повествованием и временем, в нем создаваемом: редко какая литературная история обходится без отступлений от хронологии, чаще в ней читателю предлагается (хоть и при линейном чтении) мысленно возвращаться в прошлое героя или заглядывать в его будущее. Нарушенная линейность чтения теперь – в таком эргодическом эксперименте – буквализирует и делает физически проживаемым то, что прежде случалось только в читательском воображении.
Нелинейная форма чтения, предлагаемая в тексте романа читателю, сталкивается с линейным ходом событий в самом повествовании: всё вроде бы «идет своим чередом», как вдруг в тексте возникает сноска, а в ней – ссылка на другой фрагмент текста, в который читатель может нырнуть, как в кроличью нору, и оказаться и в другой части текста (пространственно), но и в другом времени. Подобные сноски в романе – как воплощение «машины времени», в которую усаживается читатель при этом вполне добровольно, без особого (со стороны текста) принуждения: он может следовать за указанной ссылкой, а может – нет, и на вопрос «что будет, если?» отвечает по-прежнему самостоятельно, собственным выбором. При этом такая работа с организацией материальной оболочки повествования по-своему проблематизирует и то измерение повествования, которое связано с моделированием читательских эмоций, среди которых универсальными нарратологами признаны «любопытство, удивление и напряжение (саспенс)» [13]. Обычно эти эмоции моделируются внутри повествования: за счет структур репрезентаций событий, героев, их опыта, переживаний и пр. В эргодическом романе «Ночь оракула» любопытство как читательская эмоция моделируется материальностью текста: он может и не «нырять» в предложенную ему в тексте сноску, но в любом случае будет осознавать, что эта повествовательная развилка осталась для него в «слепой» зоне, осталась упущенной и не освоенной. В случае, если читатель все-таки поддается соблазну и проходит по указанной ссылке, его движение по тексту прогрессирует стремительно: он как будто бы оказывается игроком в настольной игре, которому дали возможность обогнать противников на много ходов вперед, дали возможность стремительно приблизиться к финалу. Такое движение по тексту и вправду как будто бы имитирует гонку или бег и явно отсылает нас (как читателей) к тому типу чтения, который Барт описывал в «Удовольствии от текста». Только теперь дело не в специфике предложенной интриги, ключевой лакуны или «жанрового вопроса», стимулирующих читателя поскорее продвинуться вперед и узнать же (наконец-то!) разгадку, ответ или «чем все закончилось». Теперь это скачкообразное читательское движение задано материальностью текста, превращающей читателя и в играющего, и в бегущего по страницам текста.
Бег как своеобразный опыт читателя, моделируемый таким устройством текста, предполагает высокую скорость движения: в прозе Остера и прежде отмечалось внимание к этому измерению повествования и читательского опыта, при этом прежде (высокая) скорость чтения задавалась на уровне вербальной репрезентации (синтаксически, пунктуационно). Здесь эта скорость тоже формируется (и потому может быть воплощена в метафоре бега), но уже не на уровне репрезентации событий, но на уровне предлагаемого освоения текста как пространства. Любопытно и то, что такая скорость (в отличие от «прежней») читателем как будто бы вообще плохо осознается: он скорее не несется по представленным событиям вперед, а проносится над ними так, что они «сжимаются» в читательском времени в несколько секунд (пока он проходит по этой ссылке из сноски, пока листает страницы). Что таким образом происходит? Читательское время сжимается и сокращается подобно тому, как оно могло бы быть редуцировано на уровне репрезентации событий: такой классический прием Женетт называл «эллипсисом» («прошло много лет») [14], и вот теперь он воплощен не в самом повествовании, но на уровне материальности текста. Повествовательный «эллипсис» представляет собой лакуну – непредставленную информацию, имеющую отношение к рассказываемой истории. В повествовании она может быть заполнена (позднее), а может остаться элементом, указывающим читателю на скрытое, упущенное, ему неизвестное, тем самым вовлекая читательское воображение в процесс взаимодействия с рассказанной историей. В эргодическом романе Остера всё иначе: да, на уровне читательского восприятия происходит разрыв во времени («эллипсис»), возникает лакуна, но эту лакуну всегда можно заполнить, вернувшись назад и пройдя свой читательский путь в традиционном линейном режиме. Наверное, поэтому дополнительные линии (сноски) нередко начинаются указанием на этот «эллипсис» («через 20 лет…», «тогда, в 1979 году…»), как будто сопоставляя традиционный повествовательный эллипсис и тот, который возникает в читательском опыте в романе Остера. «Эллипсис» на читательском уровне у Остера производит не столько эффект пропущенного времени, вырванного из повествования, сколько наоборот подчеркивает, что для читателя «все пути открыты», а вместе с этими линиями открыт и путь к разному опыту: линейному и последовательному, развивающемуся плавно, и (наоборот) скачкообразному, напоминающему бег.
Разветвление (за счет организации структуры текста) в романе Остера устроено таким образом, что, забежав вперед (заглянув в сноску), неизбежно вернешься обратно (текст в сноске конечен и предполагает такое возвращение): в этом смысле читательский «бег» по его роману поистине «челночный». Но интересно и то, что текстуальное продвижение вперед не всегда у него обозначает возможность заглянуть в будущее героев (продвинуться вперед по фабульному времени): встречаются и сноски, которые фабульно отсылают читателя в прошлое героев, таким образом делая возможным расширение истории в разных направлениях. Но подобное использование «дополнительных тропок» в структуре текста – не только расширение фабулы и не только возможность физически пройти по тексту заново («разветвив» его повествовательную структуру).
Продвижение по тексту вперед для читателя у него всегда становится иллюзорным: и потому что текстуально он вынужденно возвращается назад, и потому что фабульно нередко тоже не прогрессирует во времени, а оборачивается вспять. На этой иллюзии в романе, наверное, и строится еще один прием, отчасти связанный с идеей разветвления и (позднее) разветвленного повествования в целом. Ветвящаяся структура текста дает читателю ощущение, что ему доступно если не всё (в повествовательном мире), то очень многое: не только основное повествование, но и дополнительное, не только магистральный путь, но и дороги, к нему примыкающие. Линии, представленные в сносках, создают и иллюзию заполнения лакуны (по контрасту с линейной структурой текста, которая такой возможности читателю не предоставляет). Однако в действительности оказывается, что при всем созданном эффекте бега, и даже гонки, и в чем-то соревнования, – всякое прогрессирование оборачивается возвращением вспять, читателя, как буксиром, оттаскивает назад, превращая иллюзию всесилия в источник временной воронки, петли, из которой нельзя выбраться.
Этот эффект, в чем-то парадоксально возникающий в связи с разветвлением, сочетается и с тем, как устроено само повествование (не только его текстуальное оформление). Оно привычно зеркально и лабиринтообразно (такое встречалось у Остера и прежде нередко): главный герой раздваивается, и сам признает это раздвоение, он «и там, и здесь», он «не там и не здесь», он живет в мире вымысла (книги), порожденного им самим, и в мире реальном; и тот, и другой уклоняются от его контроля. Оно рекурсивно: главный герой – писатель, по сюжету он пишет роман, а в нем есть героиня – тоже писательница, которая тоже пишет роман, он называется «Ночь оракула», который – уже в свою очередь – в чем-то дублирует историю, рассказанную Д. Хэмметом в «Мальтийском соколе», которая – в другую очередь – была по-своему адаптирована в кино Дж. Хьюстом – всё это создает «круги на воде» Оно размывает границы между разными частями этого лабиринта: вымысел в нем влияет на реальность, реальность – на вымысел, и всё, кажется, переплетено. Оно полно сюжетных линий, которые только намечаются и намеренно обрываются, дойдя до, казалось бы, кульминационной точки, после которой должно наступить «разрешение» и объяснение всего произошедшего, они резко тормозят, оставляя читателя «над пропастью»: вроде бы он и на «пике» конкретной сюжетной линии, и одновременно – над пустотой, над обрывом, и ключевое событие (завершение сюжетной линии) отдано только его воображению, но никак не эксплицировано. В результате такое повествование всячески направляет свои усилия на дезориентацию читателя и на создание эффекта «ловушки» (запертого, закрытого, герметичного пространства, «отсюда не выбраться») – иными словами, эффекта, аналогичного временной петле, но теперь реализованного на пространственном уровне.
«Временная петля» и пространственная «ловушка», которые как эффекты моделируются при помощи паратекста для читателя, появляются и в самом повествовании: Остер подкладывает читателю зеркало, и проживаемый им читательский опыт «здесь и сейчас» он обнаруживает, взглянув на героя. Главному герою предлагают работу над сценарием для ремейка «Машины времени» Г. Уэллса. Ремейк как жанр сам обозначает повторение и возвращение к уже созданному, но и идея машины времени не далека от семантики временной петли. К тому же герой отмечает: путешествие в будущее (как было у Уэллса) его не интересует, зато он крайне заинтригован возможностью попасть в прошлое, а ведь именно на невозможности выбраться из прошлого, как правило, и строятся сюжеты с такой темпоральной моделью. В пространственной «ловушке», в которую попадает читатель, оказывается и один из героев романа: но не писатель, а другой, возникающий уже в его собственном вымышленном мире. По стечению обстоятельств он заперт в бункере, не может из него выбраться и оказывается, к тому же, окружен множеством артефактов прошлого – тысячей телефонных справочников, привезенных изо всех уголков мира, которые вкупе представляют собой этого мира копию: странную, каталогообразную, призрачную и одновременно материальную, застывшую (во времени) и навсегда остающуюся в прошлом.
Уже в предшествующих романах Остера читателю нередко встречались герои, которые нуждались в восстановлении: душевном ли, физическом ли. Таким предстает и герой «Ночи оракула» писатель Сидни уже на первой странице романа: он тяжело болен, еле вернулся к жизни и теперь пытается эту жизнь (личную, но и писательскую) восстановить. То же было и с Дэвидом Зиммером («Книга иллюзий»), спасавшимся от депрессии при помощи кинематографа, написания книги, съемок фильма. Так было и у других остеровских героев. В «Ночи оракула», однако, восстановлению «подлежат» не только герои, но и сам текст: и теперь этим восстановлением, своеобразной реконструкцией, должны заняться читатели. И в этом отношении опыт героя тоже транслируется читателю, отражая его собственный, моделируемый посредством паратекста.
Но является ли движение по этим паратекстуальным «тропкам» для читателя обязательным? И что будет, если их и вовсе опустить?
Сноски как элемент паратекста производят эффект дополнительного, необязательного чтения, бремя выбора которого всегда ложится на читателя. Сноски (обычно) предполагают, что их можно пропустить, не потеряв основную линию повествования и не утратив его основной смысл, не затерявшись в повествовательном мире. Какое же взаимодействие с точки зрения их обязательности сноски предлагают читателю в романе Остера? Они не ограничиваются только созданием дополнительных тропок, по которым – по своей воле – может пройти читатель, расширив собственное представление о происходящем. Пропуск (вынужденный или сознательный) некоторых из этих линий способен привести читателя к дезориентации в повествовательном пространстве, к существенному упущению элементов рассказываемой истории. В этом смысле сноски у Остера тоже отклоняются от конвенционального использования паратекста, визуально сохраняя эффект необязательности и дополнительности, а повествовательно требуя к себе внимания.
В первой сноске читателя не только перебрасывают в будущее героя (об этом речь у нас уже шла прежде), но и в «будущее» текста – предоставляют ему ту информацию, которая в основном тексте появится существенно позже. В этой сноске раскрывается происхождение фамилии главного героя: его фамилия – Орр, но в действительности, говорит он, это сокращенная версия фамилии Орловский, той самой, которую он обнаружит в польском телефонном справочнике 1937 года сюжетно позже. Так, повествовательная линия в сноске опережает «основное» повествование, но и уводит читательское взаимодействие с историей в другую сторону, высвечивая польско-еврейский (исторический) контекст, который в основной части повествования в целом (вплоть до финала) будет только намечен, но не получит объемного развития.
Вторая (а затем и четвертая, и пятая) сноска – тоже письмо из будущего – переключает внимание читателя на любовную линию романа. Впрочем, в будущем (в этих сносках) находится только повествователь, а вспоминает он о прошлом: так событие дискурсивное и событие фабульное явно противоречат друг другу. Читатель только успел познакомиться с Джоном Траузе, еще ничего не знает о нем, но сноска не только расширяет объем сведений о герое, знакомит с ним, но и высвечивает те конфликты, которые в основной части появятся позже: возможный роман Джона с женой главного героя, его конфликт с собственным сыном – указания на эти сюжетные линии появляются уже здесь («рано») и вновь оказываются для читателя «направляющими», берущими в фокус то развитие истории, которое (без этой сноски) могло бы остаться если не вовсе не замеченным, то не ключевым.
В третьей сноске повествователь отправляет нас не в будущее, а в прошлое – заполняя ту сюжетную лакуну, которая описывает его знакомство с будущей женой и героиней романа Грейс. Но дело не только во временном движении, в расширении фабулы (без этой сноски читатель ничего не знал бы об этом эпизоде из жизни героя), в заполнении напрашивающейся лакуны и в восстановлении полноценной линии их отношений (а о них в основной части повествования говорится немало). Эта сноска – как будто бы являясь и впрямь дополнительной, т.е. не меняя представление читателя о всех событиях, которые произойдут в основной части текста позже, переключает его на другой режим взаимодействия с героем и с повествовательным миром в целом. В основной части повествования, хоть оно и ведется от его лица, герой нередко ускользает от читателя: отражается в собственном друге (тоже писателе Джоне, в фамилии которого обыгрывается фамилия Остера), перекликается с героем собственного романа, выступает то в роли писателя, то в роли сценариста, то в роли обманутого мужа… – масок слишком много, и они скорее по-своему отдаляют читателя от героя, чем позволяют ему традиционно и последовательно сопереживать, делая это сопереживание «прерывистым», дискретным, все время смещая акцент на появление все новых и новых инкарнаций героя, на его переход из одного мира в другой, из одной конвенции в другую. Третья сноска явным образом меняет предлагаемое взаимодействие с героем: да, она тоже полна романтических и мелодраматических клише (куда же Остеру без них, усмешка всегда где-то рядом), но все-таки целиком и полностью она концентрирует внимание читателя на переживании героя, личном и чувственном, приближает к нему и погружает в аффективное взаимодействие с ним – так, как будто бы нет никакой многослойной конструкции, предъявленной в основной части текста, нет лабиринтообразного героя и его мира, в котором не трудно и потеряться (и тут уже не до сопереживания), есть только последовательное и плавное простраивание нарративной эмпатии – в ее концентрированной форме, вынесенной к тому же в отдельное текстовое (сноска) пространство.
Линию Грейс в романе продолжает и шестая сноска – только теперь аффективный акцент скорее приглушается, если не снимается; хоть в представленных событиях речь идет о прошлом (фабульно), знакомство с ними читателю явно дает сюжетную фору и формирует у него ожидания, связанные с романом Грейс и Джона. Герой (в основной части) об этом еще не догадывается, а читатель уже обгоняет его, зная как будто больше, имея над ним преимущество, ощущая собственное превосходство – впрочем, тоже временное и иллюзорное, поскольку с окончанием сноски он вынужденно (и тут уж у него нет выбора) возвращается в основное повествование, в котором герой еще ничего не подозревает, а расширение читательского знания (с окончанием сноски) тоже прерывается.
Седьмая, восьмая и двенадцатая сноски высвечивают исторический контекст происходящих событий и явно направлены на производство эффекта достоверности, усиленного и упоминанием отдельных документов, и перечисляемыми датами и фактуальными подробностями. То же и с девятой сноской: только тут правдоподобие создается (и поддерживается) обоснованием происходящего в основной части повествования, выстраиванием причинно-следственных связей (в основной части герой рьяно берется за написание сценария, в сноске во всех подробностях объясняется, почему он реагирует именно так). Неудивительно, впрочем, что одиннадцатая сноска производит прямо противоположный эффект: она не укрепляет правдоподобие и иллюзию реальности всего произошедшего, а расшатывает их, предлагая читателю альтернативную версию изложенного (в основной части повествования) события, создавая, как было и в предшествующих случаях, не только расширение, дополнение истории, но и эффект «двойного переживания», при котором переживание, созданное в основной части, вступает в противоречие с тем, что создается паратекстуально.
Можно ли читателю обойтись без этих тропок, оставив их в «слепой зоне», посчитав конвенционально дополнительными, т.е. вовсе необязательными? Подобная «слепота» явно лишит читателя того балансирования (как опыта), которое задается при помощи этих линий, причем разнообразного: балансирования между разными временами, разными сюжетными линиями романа, между вымышленным и фактуальным, сконструированным (условным) и правдоподобным (переживаемым аффективно), надежным и ненадежным, между, наконец, эффектом длящейся и продолжающейся истории, ветвящейся, обрывающейся, недорассказанной, и эффектом завершенности и конечности – и текста, и повествовательного мира; лишит, в конце концов, того противоречия, которое и рождает эстетический эффект.
Разветвление на паратекстуальном уровне, созданное в «Ночи оракула», формирует у читателя особое взаимодействие с повествовательным миром, делает этот опыт более разнородным. Но все-таки этот читательский опыт – не только «бег», как мы видели, но и гонка, т.е. содержит элемент соревновательности (что предполагает и всякая игра, например). Но с кем соревнуется читатель в данном случае? Кого он спешит обогнать, над кем одержать победу? Он то обгоняет героя (повествователя), но все равно вынужденно пятится назад; то соревнуется со временем, проскакивая множество событий; то борется с самой фабулой, перестраивая ее за счет альтернативной информации, предлагаемой паратекстуально; то ведет бой с подчеркнутой условностью повествовательного мира, начиная вживаться в него и сопереживать его героям; и, главное, наверное, пытается преодолеть ту незавершаемость множества сюжетных линий, которые в романе только намечаются, пытается, проходя по всем возможным дополнительным тропам, эту незавершаемость побороть, а лакуны (чем всё закончилось?) – заполнить. И, конечно, при всем переживаемом ощущении преимущества и превосходства, все равно проигрывает, оставаясь в неопределенности, в балансировании между завершенностью текста и незавершаемостью рассказанной в нем истории.
Sobre autores
D. Shulyatyeva
Higher School of Economics
Autor responsável pela correspondência
Email: dshulyatyeva@hse.ru
Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor
Rússia, MoscowBibliografia
- Alvarez, M. Paul Austerʼs Ghosts. The Echoes of European and American Tradition. Lexington Books, 2018.
- Diffrient, D. Alternate Futures, Contradictory Pasts: Forking Paths and Cubist Narratives in Contemporary Film. Screening the Past, 2006.
- Ensslin, A., Bell, A. Digital Fiction and the Unnatural: Transmedial Narrative Theory, Method, and Analysis. Columbus: Ohio State University Press, 2021.
- Bökös, B. Palimpsestuous Intermediality: Paul Austerʼs “City of Glass” (1985) and “City of Glass: The Graphic Novel” (1994). Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS). 2014, No. 20 (2), pp. 101–119.
- Dubin, B.V. Literaturnye okrainy i tajnopis celogo [Literary Outskirts and the Secret Writing of the Whole]. Borges, H.L. Stihotvoreniya. Novelly. Esse [Poems. Short Stories. Essay]. Moscow: AST Publ., 2003, pp. 5–37. (In Russ.)
- Prince, G. The Disnarrated. Style, 1988, Vol. 22, pp. 1–8.
- Panova, O.Y. Postmodernizm. SShA [Postmodernism. USA]. Slovar techenij literatury XX veka. Rossiya, Evropa, Amerika. Vdvuh knigah. Kniga vtoraya: P–YA. Ukazateli. Otv. red. A.F. Kofman; redkollegiya: E.D. Galcova, Yu.N. Girin, V.B. Zuseva-Ozkan, T.V. Kudryavceva, O.Yu. Panova, O.I. Polovinkina, I.A. Ebanoidze [Dictionary of Literary Trends of the 20th Century. Russia, Europe, America. In Two Books. Book Two: P–Ya. Indexes. Ed. by A.F. Kofman; editorial board: E.D. Galtsova, Yu.N. Girin, V.B. Zuseva-Ozkan, T.V. Kudryavtseva, O.Yu. Panova, O.I. Polovinkina, I.A. Ebanoidze]. Moscow: IMLI RAS, “River of Times” Publ., 2023. pp. 80–84. (In Russ.)
- Ilyin, I.P. Postmodernizm ot istokov do konca stoletiya: evolyuciya nauchnogo mifa [Postmodernism from the Origins to the End of the Century: The Evolution of Scientific Myth]. Moscow: Intrada Publ., 1998. (In Russ.)
- Genette, G. Introduction to the Paratext. New Literary History, 22 (2). 1991, pp. 261–272.
- Ilyin, I.P. Postmodernizm. Slovar terminov [Postmodernism. Dictionary of Terms]. Moscow: INION RAS – Intrada Publ., 2001. (In Russ.)
- Zenkin, S.N. Teoriya literatury: problemy i rezultaty [Theory of Literature: Problems and Results]. Moscow: New Literary Review Publ., 2018. (In Russ.)
- Bernstein, S. The Question Is the Story Itself: Postmodernism and Intertextuality in Austerʼs New York Trilogy. P. Merivale & S. E. Sweeney (Eds.), Detecting Texts: The Metaphysical Detective Story from Poe to Postmodernism. University of Pennsylvania Press, 1999, pp. 134–154.
- Sternberg, M. Universals of Narrative and Their Cognitivist Fortunes (II). Poetics Today, Vol. 24, No. 3, 2003, pp. 517–638.
- Genette, G. Figury: Raboty po poetike: V 2 t. [Figures: Works on Poetics: In 2 Volumes]. Moscow, 1998. (In Russ.)