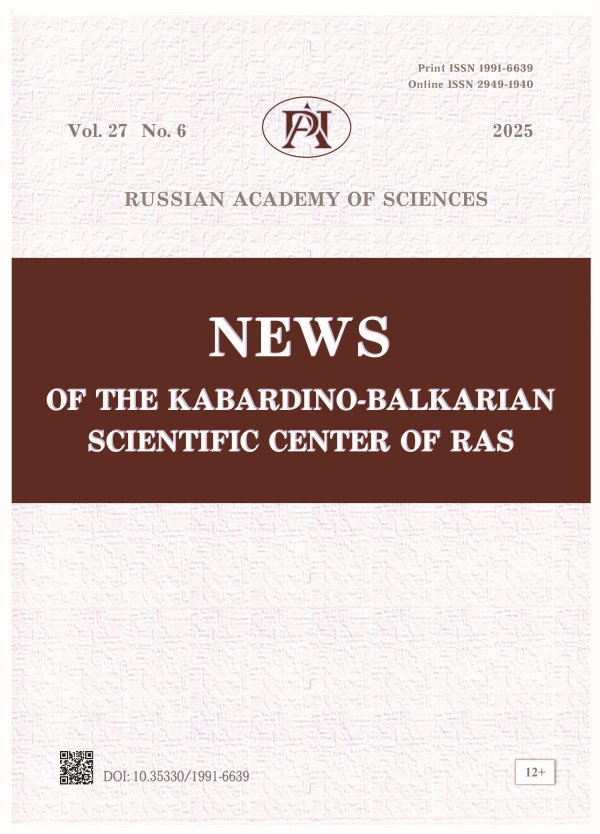The problem of ethnogenesis and the political history of the Kaskians
- Authors: Kagazezhev Z.V.1
-
Affiliations:
- Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 26, No 4 (2024)
- Pages: 145-163
- Section: Historical Sciences
- Submitted: 07.10.2024
- Accepted: 07.10.2024
- Published: 07.10.2024
- URL: https://journal-vniispk.ru/1991-6639/article/view/265578
- DOI: https://doi.org/10.35330/1991-6639-2024-26-4-145-163
- EDN: https://elibrary.ru/XYLRGV
- ID: 265578
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines an important part of the history of the Ancient Near East, covering the stages of ethnogenesis and the political history of the indigenous population of Anatolia – the Kaskians. There are no analytical works on the history of Kaskians in Russian historiography. They appear sporadically in the research, in the context of the confrontation with the Hittite Empire. Ethnogenetic data show that the Kaskians were part of a larger Hatti people and occupied the southeastern regions of the Black Sea region. The analysis of sources, many of which are being introduced into scientific circulation in Russian historiography for the first time, allows us to state important events that influenced the history of the Middle East and neighboring regions. During the XVII – XII centuries BC, there was a gradual expansion of the territory of the settlement of the Kaskians and their political influence. The Hittite Empire proved powerless against the offensive of the Kaskians, as a result of which it loses access to the Black Sea. The Kaskians captured Hattussa, the capital of the Hittite Empire, and other cities several times, threatening the very existence of the state. In the XIII century BC. The Kaskians are beginning to actively interfere in the internal political processes in the Hittite state. Contrary to the main version of the role of the "peoples of the sea" in the defeat of the Hittite Empire, the analysis of written sources and archaeological data allows us to conclude that its fall as a result of the offensive of the Kaskians by the end of the XIII century BC. Further advance of the Kaskians to the southeast led to a clash with Assyria. Historical data on the possible succession of Paphlagonians and Cappadocians to the Kaskians are updated. The theory of the expansion of the Kaskians to the west, known to the Greeks as the Kavkons, who settled the Peloponnese and Attica after the Trojan War and left a noticeable mark on the political life of the region. The conclusion is made about the significant role of Kaskians in changing the ethnopolitical map of the Middle East and the early stage of the history of Ancient Greece, the ethnogenesis of the Adygs in the North Caucasus.
Full Text
РАННИЙ ЭТНОГЕНЕЗ КАСКОВ
Как показывают палеогенетические данные, этногенез населения Европы, в т. ч. Кавказа, эпохи неолита напрямую связан с миграциями VIII–VI тыс. д. н. э. из Ближнего Востока [1, 2]. Указанные демографические и этногенетические процессы происходили через территорию Анатолии. Она стала демографическим базисом для освоения неолитическими фермерами Европы, в т. ч. Западного и Центрального Кавказа [3, с. 196]. Древнейшее автохтонное население Анатолии известно в историографии под названием хатти. По итогам исследований И. М. Дьяконова [4, с. 172–176], С. А. Старостина [5, с. 84], З. В. Анчабадзе [6, с. 19] и др., адыги и абхазы имеют прямое родство с древнейшим населением Малой Азии – хатти. Этногенетическое родство адыгов и абхазов с хаттами доказывается в сравнениях генезиса нартского эпоса с хаттскими мифами, проведенных В. Г. Ардзинба [7, с. 161]. Современные палеогенетические исследования [8] подтверждают генетическое родство хатти с адыго-абхазскими народами. По мнению Дж. Чиноглу, материальная культура хатти и касков эпохи бронзы схожа с Майкопом, они имеют лингвистическое родство с автохтонным населением Северо-Западного Кавказа, демонстрирующего высокую частоту встречаемости гаплогруппы G-M201 [9, c. 134].
Известно, что хатти занимали значительные территории в Центральной и Восточной Анатолии. Ядром страны Хатти являлась долина р. Галис, где была сосредоточена значительная часть хаттских городов. Во второй половине III тыс. д. н. э. в аккадских источниках известно царство (страна) Хатти со столицей в Бурушхатуме (Пурусханда). С высоком уровнем развития темпов экономического роста усилились могущество хаттских городов, приведшие к соперничеству между ними и ослаблению страны Хатти. Данные процессы, способствовавшие ослаблению Хатти, совпали с нашествием индоевропейских племен неситов, появившихся в Малой Азии в конце III тыс. д. н. э. Значительная часть территории хаттов была объединена с неситами в единую империю, столицей которой стал г. Хаттуса (Хатушаш). От хатти неситы заимствовали: название страны – Хатти, правила выплавки железа, элементы системы государственного управления, названия высших должностных лиц страны и царской атрибутики, религиозные обряды, имена хаттских богов и т. д. Образовавшийся в результате симбиоза хатти с неситами народ вошел в историю под названием хеттов. По мнению Г. А. Меликишвили, Хеттская империя возникла в условиях полной гегемонии не неситов, а хатти [10, с. 8, 9]. Турецкий археолог Э. Акургал считает, что «хатти все еще составляли значительную часть населения в хеттский период» [11]. Таким образом, хатти сыграли основопологающую роль в образовании во II тыс. д. н. э. могущественного Хеттского государства, формировании его политической системы и развитии высокой культуры. К середине XVII в. д. н. э. хаттский язык был вытеснен индоевропейским – неситским (хеттским) языком. Вполне вероятно, что процесс доминирования неситского языка над хаттским произошел в результате неситизации элиты Хеттской державы, которая усилилась ко второй половине II тыс. д. н. э.
К рассматриваемому периоду на политической сцене Анатолии появляется могучая страна – Каску, преградившая продвижение Хеттской империи на север. Жители Каску сохранили свой автохтонный язык и независимость от хеттского влияния. Название кaška / кашка в хеттских источниках обыкновенно встречается с окончанием хеттского (неситского) именительного падежа в разном написании: ga-aš-ga – (aš), ka-aš-ga – (aš), kaš-ga – (aš) и т. д. В египетских источниках рассматриваемый этноним приобретает написание kškš. В ассирийских источниках он встречается в форме кaška [12, с. 74]. Согласно Г. Г. Гиоргадзе, данный этноним восходит к хаттскому названию каску, что означает «луна», «бог луны» [5, с. 199]. Он допускает, что употребляемое в хеттских источниках название каска означает «почитающий луну народ». Здесь нужно подчеркнуть, что у родственных народов хаттов и хурритов пантеон богов был схожим. Ими почиталось лунное божество, известное у хатти под именем «Kaшку» (у хатти названий бога Луны было несколько), а у хурритов – как «Ку(ш/с)ух». По мнению Х.-С. Шустера, название Kašku в переводе с хаттского означает «(обожествленная) надвратная конструкция», которая когда-то была связана лунным богом Кушу [13, c. 416–418].
В качестве гипотезы Ш. Д. Инал-ипа констатирует, что этноним «каски», по мнению ряда авторов мог стать прототипом наименования «Кавказ», который затем перешел как обозначение страны к другим народам древности [14, с. 149, 150]. Так, Н. Я. Марр подчеркивает, что имена, содержащие этноним кас/касп, объединяют Каспийский бассейн с Понтийским, что в целом это может свидетельствовать о широком древнем расселении на этом пространстве племен под таким названием [15, с. 336]. По данным Страбона, ссылающегося на Эратосфена, местные жители называли Кавказ Каспием, который может происходить от племени каспиев [16, с. 472]. Как считает И. И. Мещанинов, племя kas/кош дал свое имя «целой стране и морю (Кавказ и Каспий)» [17, с. 401]. С касками отождествляется автохтонный народ Северной Анатолии, известный в древнегреческих источниках под названием Καύκωνες (рус. Кауконес / Кавконес) [Кавказ – Caucones; Caucones]. Британский лингвист Адриан Роум утверждает, что слово «kau» в переводе с пеласгийского языка означает «гора» [18, c. 49]. Одной из основных версий генезиса пеласгов является их доиндоевропейское происхождение. В 1896 г. Пауль Кречмер в своей монографии пришел к выводу, что грекам на Балканах предшествовала связанная с Анатолией доиндоевропейская средиземноморская культура, оставившая обширные лингвистические следы [19]. По мнению Р. Бикеса, попытки исследователей найти индоевропейское происхождение у пеласгов являлись несостоятельными. Допуская связи языка пеласгов с баскским и кавказскими языками, Р. Бикес признает свою некомпетентность в данном вопросе, обходя в своем труде их исследование. Он подчеркивает наличие на Балканах других регионов Европы и Анатолии, реликтов доиндоевропейской лексики [20, c. 1–3]. Анатолийское происхождение признают и за минойским языком на юге Балкан [21, c. 81–105]. Теория анатолийского происхождении минойского языка является основной, как и этногенеза самих минойцев, являющихся потомками неолитических переселенцев. Дж. Бенгсон и К. Лешбер сопоставили минойские слова с реконструируемыми для кавказских языков [22, c. 71–98]. Минойский язык линейного письма А, бытовавший на Крите в III тыс. д. н. э., имеет определенное структурное сходство с адыго-абхазскими языками, древнейший представитель которых – хаттский – хронологически сопоставим с минойским [23, с. 98]. Теория Пауля Кречмера о родине пеласгов подтвердилась результатами археологических раскопок. Исследования в Чатал-Хююке, проведенные Джеймсом Меллартом и Фрицем Шахермейром, привели их к выводу, что пеласги мигрировали из Малой Азии в бассейн Эгейского моря в IV т. д. н. э. [24], т. е. входили в группу автохтонных анатолийских народов. Учитывая приведенные и другие данные исследователей, можно сделать вывод об этническом родстве хаттов и пеласгов. Следует отметить, что в адыгском языке, за которым признают родство с языками неолитического населения Анатолии и части Европы, термин «ку – шха» (адыг. къу – щхьэ) означает вершина горы, где первая часть слова ку / къу по звучанию и значению тождественна пеласгийскому – «kau». Термин ку – шха (адыг. къу – щхьэ, къущхьэ) адыгами раньше часто употреблялся по отношению к жителям гор. Исходя из указанных лингвистических данных термин Кауконес / Кавконес представляет собой лексему, состоящую из двух слов: «кау» – горы и «кас» – название народа, вместе образуя этноним «горные касы». Фонология названия «Кауконес» была взята в качестве доказательства его связи или же происхождения с Кавказа. Наиболее вероятно, что указанный народ, фиксируемый в древнегреческих сказаниях, относимых к историческим событиям XIII – XII в. д. н. э., дал название в VI–V вв. д. н. э. горам и региону их заселения, вошедшим в историю благодаря древнегреческим авторам как Кавказ.
Большинство исследователей делают вывод, что каски близкородственны или же являлись частью древнейшего хаттского населения Анатолии. Н. Я. Марр выявил аналогии терминологии хатти с топонимикой расселения касков в Анатолии и далее на территории северо-востока, вдоль побережья Черного моря. Г. А. Меликишвили, Г. Г. Гиоргадзе и И. М. Дьяконов, проанализировав слова, связанные с географическим и этническим пластом касков, пришли к выводу о родстве их языка с языком хатти [12, с. 77; 4; 3, с. 172–176]. И. Зингер, основываясь на сходстве языков и совпадении пантеонов богов, делает заключение, что каски и хатти – разные ветви одного и того же народа [25]. В результате указанных исследований сложилось мнение, что каски являются частью племен хатти, а их язык – диалект хаттского языка. По мнению И. М. Дунаевской, каски входили в союз родственных племен хатти. Возможно, они входили и в древнее государство Хатти.
Согласно палеогенетическим исследованиям на территории древнего проживания касков, в частности в Икизтепе Самсуне и на юге Черноморского побережья, обнаружены носители субкладов гаплогруппы G2a, датируемых 3500 г. д. н. э. Указанные данные в сочетании с древними образцами субкладов G2a из Чамлибель Тарласы (близ Хатуссы), а также образцом G2a из Арслантепе того же периода времени показывают картину автохтонного населения Центральной Анатолии. Гаплотипы касков и хатти практически не имеют серьезных различий. Оба жили в прошлом в одних и тех же регионах, и их территориальное распределение свидетельствует о прямых связях хатти и касков, имеющих одно происхождение [8]. Таким образом, современные палеогенетические исследования подтверждают ранее сделанные выводы исследователей древней истории Ближнего Востока о непосредственном родстве хатти и касков.
ТЕРРИТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ КАСКОВ
Каски играли важную роль в политической истории Ближнего Востока XV–VIII в. д. н. э. Во II тыс. д. н. э. им удалось создать мощный союз Каску, состоявший из 12 политических объединений. В состав Каску входило и племя абешла/абшилк – ассоциируемое с апсилами/абсилами I – VIII в., имевшее важное значение в образовании абхазского народа. К началу II тыс. д. н. э. у касков фиксируются города, поселения и крепости, они занимались земледелием и отгонным скотоводством. Каску занимал территорию Северо-Восточной Анатолии и Южного Причерноморья (Понт) от р. Галиса (Кызылырмак) до верховьев р. Евфрат, включая долины р. Ирис (Ешильырмак) и Лик (Келькит). Некоторые исследователи считают возможным расселение касков наряду с северными и северо-восточными районами Анатолии, также западнее р. Галиса. А. Гетце и ряд исследователей локализовывали касков западнее течения р. Галис «на огромной территории между р. Галис и Эгейским морем, по направлению к Трое и Нинфи» [26, c. 104]. По их мнению, на места позднейшего расселения каски продвинулись только в середине II тыс. д. н. э. Здесь надо обратить особое внимание, что отождествляемый с касками автохтонный народ Черноморского побережья Анатолии – кавконы – фиксируется недалеко от г. Трои, к западу от него. Древние греки описывают кавконов как приморский народ, а их родина упоминается в направлении «к морю». По данным Гомера (IX–VIII вв. д. н. э.), кавконы прибыли в Трою как союзники троянцев [16, с. 327; 27; 28]. Как утверждает Страбон (64/63 гг. д. н. э. – ок. 23/24 гг. н. э.), они прибыли из Пафлагонии, где находилось племя, называемое кавкониатами, на границе с областью мариандинов, живших у Гелеспонта [16, с. 327]. Некоторые древние авторы считали мариандинов частью кавконов [16, с. 508]. О возможной идентификации мариандинов как касков делает заключение и И. М. Дьяконов [29, с. 148]. Кавконы фиксируются на территории южного побережья Черного моря от Гераклеи Понтийской до мыса Карамабис в Тейоне на р. Парфениос [16, с. 509]. Вблизи указанных мест, к западу от р. Парфениос, кавконы владели г. Дядя/Тьео/Тиос [16, с. 509]. По сведениям Геродота (около 484 – около 425 гг. д. н. э.), часть западных кавконов вошла в состав вифинийцев, которые мигрировали из Фракии в начале VII в. д. н. э.
Северо-восточные границы проживания касков в историографии также остаются дискуссионными. В данном вопросе обращают на себя внимание древняя топонимика и гидронимия Северо-Восточной Анатолии и Западного Кавказа. Наличие устоявшихся адыгских названий с корнем «псы», т.е. вода/река – Синопэ, Арипса, Акампсис, Апсара, Апсареа, Ахепс, Аапс, Дуабзу, Псахопсис, Фазис, Супса, Лагумпса, Лашипс и т. д. – на восточном побережье Черного моря свидетельствует о долгом пребывании древнего адыгского населения на данной территории [6, с. 20; 30, с. 105–109].
Приведенные данные свидетельствуют о распространении древнего адыго-абхазского населения, в частности касков, на территории бассейна Восточного Причерноморья.
Восточные и юго-восточные границы касков, согласно хеттским и ассирийским источникам, распространялись до верховьев р. Тигр и Евфрат, Северной Сирии. В хеттских источниках каски упоминаются также в связи со страной Ишува, под которой подразумевается территория, лежащая к востоку от современного г. Малатия, на левом берегу р. Евфрат, в районе впадения в нее р. Арцаниа (совр. Мурад-чай). Нахождение касков в восточных районах Малой Азии и Северной Сирии находит отражение в ассирийских источниках поздней эпохи (XII–VIII в. д. н. э.), где каски выступают в районе верховьев
р. Евфрат и Тигр и на восточной окраине Малой Азии.
Изучение древних исторических источников, археологических и палеогенетических данных позволяет сделать вывод о автохтонном проживании касков на территории Юго-Восточного Причерноморья, этнически связанного с более широким ареалом проживания древних адыго-абхазов и родственных им племен. Территория страны Каску на западе, юге и юго-востоке динамично возрастала в XVII–XII в. д. н. э., что напрямую связано с успешной военной экспансией касков.
ВОЙНА КАСКУ С ХЕТТСКОЙ ИМПЕРИЕЙ
Согласно хеттским, ассирийским и египетским источникам, в XVII–XII в. д. н .э. Каску вела войну с Хеттской державой, подвергшейся неситизации и стремившейся к доминированию на землях автохтонного населения Анатолии, частью которых являлись сами каски. Первые сведения о касках на севере Анатолии относят к периоду правления хеттского царя Лабарны II / Хаттусили I (ок. 1650–1620 гг. д. н. э.). Во время его царствования хеттам удалось остановить начавшееся наступление касков у р. Кумешмаха [32, с. 19]. Лабарна II отстроил г. Хаттусу, разрушенный хеттским царем Анитой и перенес туда столицу государства, в честь которого принял новое имя Хаттусили I. Восстановление древней столицы Хатти имело и символическое значение. Таким образом Хаттусили I хотел укрепить власть хеттского царя, подчеркнув его преемственность и легитимность в заселенных хаттами районах. Хаттусили I взял и священный город хаттов Нарак/Нерик. Он сохранил статус священного города и при хеттах. Хаттусили I предпринял последнее успешное наступление хеттов к побережью Черного моря. Он прорвался к Цальпе и в результате двухгодичной осады взял ее. В период хеттского царя Хантили I (ок. 1594–1560 гг. д. н. э.) каски начинают крупномасштабные наступательные действия и занимают города, находящиеся на севере Анатолии: Тавиния, Цальпа, Тухпия и Турхумит. Каски появляются в хеттских молитвенных надписях, относимых к периоду правления Хантили, где хетты взывают о помощи к своим богам против воинственных соседей. Крупным военным успехом касков являлось взятие г. Тилиура и Нерик [31, c. 23]. Хантили I вынужден был построить против касков оборонительные укрепления и с трудом отбивался от их походов. Во время правления хеттского царя Тутхалии II (ок. 1460–1440 гг. д. н. э.) каски полностью заняли земли, примыкавшие к южному побережью Черного моря, находившиеся под влиянием Хеттской империи. Развивая успех, каски продолжили наступление западнее р. Галис. Они обрушились на союзницу Хеттской державы, находившуюся к северо-западу от нее, – страну Палу, которая была разгромлена. В XV в. д. н. э. Пала, как и другие области севера Анатолии, вошли в состав Каску [31, c. 23–30]. С указанного периода Хеттская империя навсегда теряет выход к Черному морю. Успех продвижения касков на северные территории Хеттской империи, скорее всего, был обусловлен поддержкой родственных им хаттов, недовольных неситизацией государства. Видимо, поэтому в хеттских источниках северные территории, отошедшие к Каску в результате наступления касков, называют «мятежными» [31, c. 23–30].
Наследник Тутхалии II – Арнуванда I (ок. 1440–1420 до н. э.) организовал несколько безуспешных походов против касков. В знаменитой молитве Арнуванды I и его супруги-царицы «богине солнца» описываются огромная напряженность сил, страх и некоторое бессилие, которую испытывала Хеттская держава в войне с Каску [31, c. 30]. Вторжения касков были внезапны и стремительны. Хеттские храмы были разгромлены, статуи богов свергнуты и даже переплавлены для использования в виде ценных металлов. Пострадали хеттские священнослужители, которые как официальные проводники хеттской идеологии подвергались угону в рабство [31, c. 30].
При Тутхалии III (ок. 1400–1380 до н. э.) каски заняли горный район Тарикариму в земле Зихаррия. Оттуда они пошли на г. Хаттусу и взяли ее штурмом [31, c. 34]. Разгром центра Хеттской империи в долине р. Галис был внушительным. Каски взяли и временную хеттскую столицу – Сапинуву [31, c. 34]. Турецкий археолог Огуз Сойсал пишет: «Археологи Ортакея (Сапинувы) полагают, что этот город был второй столицей хеттов в течение определенного периода, а именно во времена Средне-Хеттского царства, примерно в конце XV в. д. н. э.» [32]. Разгрому касками Сапинувы приписываются обнаруженные остатки пожаров, в результате которых часть строительных материалов превратилась в уголь. В XIV в. д. н. э. Тутхалия III не сумел организовать эффективную оборону своих владений. Каски продвинулись далеко за юг р. Галис и «сделали Ненассу своей границей» [31, c. 34]. Против хеттов активно действовало союзное войско 12 каскских политических объединений.
В указанный период египетский фараон Аменхотеп III (ок. 1388–1351 гг. д. н. э.) в письмах из Амарны писал царю Арззавы Тархунте-Раду (ок. 1370 д. н. э.), что «страна Хаттусы» (Хеттское государство) уничтожена и просит послать ему несколько людей из племени касков, о которых он слышал» [31, c. 36]. Каски стали известны как первоклассные воины, остановившие и нанесшие поражение одной из сильнейших держав Ближнего Востока – Хеттской империи. Скорее всего, Аменхотеп III в своем письме Тархунте-Раду хотел привлечь касков на военную службу в Египте или же заключить с ними союз как с мощной военной силой, победившей Хеттскую державу и резко ворвавшейся на политическую сцену Ближнего Востока.
Усиление Каску полностью изменило геополитическую ситуацию в Анатолии. Хеттская империя вынуждена была сама уступить военно-политическому союзу Каску территории на севере Анатолии, в частности, лежащие у выхода к Черному морю. Поражения от Каску спровоцировали восстания и сопротивление стран Анатолии, которые раньше входили или находились в зависимости от Хеттской державы.
Ситуация в Хеттском государстве стала несколько выправляться благодаря сыну Тутхалия III Суппилулиуму, являвшемуся талантливым полководцем и государственным деятелем. Став царем, Суппилулиума I (ок. 1380–1334 гг. д. н. э.) перешел в наступление и взял г. Хаттусу, вернув туда столицу Хеттской империи. Укрепив Хеттское государство, бросил успешный вызов за господство в Сирии Новому царству Древнего Египта, являвшемуся гегемоном в регионе. Хеттский царь Суппилулиума I укрепил внутреннее и внешнее положение государства. Одним из главных внешнеполитических проблем Суппилулиума I оставалась борьба за северные земли с Каску. Стремясь избежать полной утраты северных владений, он продолжил политику Хантили, основанную на строительстве укреплений и крепостей. Суппилулиума начал применять политику оттеснения касков и захват их земель с помощью постройки укрепленных линий [31, c. 35, 36]. В результате похода на западных касков Суппилулиума I завоевал всю провинцию Туманна и Истахару в 1340–1339 гг. д. н. э [31, c. 40]. Когда Суппилулиума I вторгся в страну Дариттара, расположенную недалеко от р. Галиса, военачальник касков Питтаджатали двинулся на него [31, с. 42]. Питтаджатали разгромил военную базу Суппилулиума I в Дариттаре, имея 7000 воинов, которым хетты не смогли противостоять [31, с. 43]. Суппилулиума I отступил, покинув Дариттару [31, c. 42] и не встретившись для решающей битвы с Питтаджатали. Каскский военачальник в результате сражений отвоевал Туманну [31, c. 43]. Оттуда каски развернули наступление на хеттов, сосредоточившихся в Пале (юго-восточная часть одноименной страны), и прогнали их.
Крупный период хетто-каскских войн относится ко времени правления Мурсили II (ок. 1333–1306 д. н. э.). Несмотря на угрозы Египта в Сирии, хеттский царь Мурсили II вынужден был воевать с каскским царем Тибии/Типии - Пиххуниашем [31, c. 43, 46]. Восточные каски под предводительством Пиххуниаша из страны Тибия продолжили наступление на северо-восточную часть Хеттской империи. В хеттских аналлах зафиксировано, что Пиххуниаш в отличие от своих предшественников установил единую власть и правил как царь. Он занял область Иститину вплоть до г. Зарисса, создавая угрозу крупному хеттскому г. Канеш (Несса), бывшей столице неситов. В ответ на действия Пиххуниаша Мурсили II подготовил крупное контрнаступление. Он послал к нему посла с требованием возвратить захваченных им хеттских подданных. В своем письменном ответе Пиххуниаш отказался выполнить требование Мурсили II, угрожая дальнейшими нападениями: «Я тебе ничего не верну. И если ты хочешь войны, я не буду сражаться с тобой на моей территории. Скорее, я буду сражаться с тобой на вашей территории!» [31, c. 46]. Указанные источники содержат важные сведения, свидетельствующие о появлении у касков властителя, начавшего править «как царь» [31, c. 44, 71], т. е. имевшего большую власть и другие «царские» атрибуты, в отличие от других каскских владетелей. В связи с этим в анналах Мурсили II говорится, что он (Пиххуниаш) правил не по-каскски, а по-царски (под «правлением не по-каскски» подразумевается, что у касков единоличное правление не было в традиции) [31, c. 71]. Указанные факты, по мнению Г. А. Меликишвили, свидетельствуют о наличии у касков военной демократии и протекании процессов превращения племенного вождя в суверенного правителя, что подразумевает также углубление социально-экономической дифференциации общества [12, с. 81]. По хеттским источникам, оказавшегося в безвыходной ситуации Пиххуниаша хетты взяли в плен [31, c. 50]. Весной Мурсили II отправился в поход против Туманны. Ему противостояли войска касков под командованием военачальников Питтаджатали и Питтапара [31, c. 48]. Питтаджатали расположился в горах Эллюрии в качестве арьергарда, готовый преградить дальнейшее продвижение хеттов. Мурсили II с помощью военной хитрости удалось застигнуть врасплох армию Питтаджатали и нанести ей существенный урон на полях Сапиддувы. Однако Питтаджатали удалось отбиться и перебраться через горы к р. Дахара [31, c. 48].
Мурсили II, судя по хеттским анналам, неоднократно пытался пробиться к Нерику. Несмотря на организованные многочисленные походы, хетты, встречая ожесточенное сопротивление касков, вынуждены были отступить из района Нерика. Война Мурсили II с каскскими военачальниками продолжалась весь период его царствования. Под напором могущественного врага каски начинают объединятся и действовать крупными силами. Не в силах более отправлять большие воинские контингенты против касков, Мурсили II перешел к оборонной стратегии предшественников, укрепив и построив цепь новых приграничных укреплений. Правители касков не ограничивались военными действиями против хеттских царей. Каски покровительствовали и оказывали помощь восставшим владетелям покоренных хеттскими царями областей Малой Азии. Они часто находили убежище у касков, спасаясь от преследования хеттских царей [12, с. 79].
Как подчеркнул Э. Шуллер, Хеттская империя в период правления Мурсили II на Ближнем Востоке являлась гегемоном и не имела военных соперников [31, c. 52]. Ассирия и Египет после неудач, понесенных от хеттов, вынужденно смирились с потерей влияния в Митании и Сирии. Мурсили II мог сосредоточить основные военные силы Хеттской империи против Каску, не имея других серьезных внешних противников на протяжении десятилетий. Ожесточенное сопротивление касков и достаточно эффективные действия их полководцев, переходивших нередко в наступление, свели многолетние усилия Мурсили II к незначительным результатам, главным составляющим которых являлось сдерживание касков от дальнейшего продвижения на юг.
Преемником хеттского царя Мурсили II стал его старший сын Муваталли II (ок. 1306–1282 гг. д. н. э.). Во время похода Муваталли II в «Нижнюю страну», т.е. в южном направлении Анатолии, собралась «вся страна касков» и в союзе с восставшими правителями хеттских районов они заняли ряд хеттских областей. Каски вновь взяли г. Хаттусу. Муваталли II бежал и вынужденно перенес столицу в г. Тархунтассу/Даттасу (вероятно, в горной Киликии) [31, c. 54]. Хеттские претенденты на царский престол старались привлечь на свою сторону касков как военную силу и использовать их в борьбе со своими противниками, в т. ч. внешними. Так, каски участвовали на стороне хеттского царя против египтян в битве при Кадеше в 1274 г. д. н. э., что отражается в хеттских и египетских источниках. Особо следует отметить, что, когда Хаттусили III (ок. 1275–1239 гг. д. н. э.) восстал против своего царствующего племянника Урхи-Тешуба, каски помогли ему овладеть царским троном [31, c. 58]. Хаттусили III снова сделал г. Хаттусу столицей Хеттского государства. Хеттский царь, смог овладеть г. Нерик, принадлежащим каскам центральной группы. Как заметил Э. Шуллер, нам остается неясным, в результате каких военных действий или необходимых дипломатических шагов г. Нерик, который был на протяжении столетий каскским, был возвращен в состав Хеттской империи [30, c. 57]. По его мнению, правление Хаттусили III было в первую очередь периодом относительного мира между касками и хеттами, который был основан, скорее, на соглашениях, возможно, даже на уступках со стороны Хеттской империи, чем на страхе перед хеттским оружием. Последним хеттским царем считается Суппилулиума II (1205–1178 гг. д. н. э). В начале его правления во внешней политике Хеттского царства наблюдается некоторое оживление. Суппилулиума II предпринял походы на Аласию (о. Кипр) и Верхнюю Месопотамию, где отвоевал у Ассирии медные рудники Ишувы. В начале XII в. д. н. э. г. Хаттуса как столица Хеттского царства уже не функционировала. Согласно надписи на погребальном храме фараона Рамсеса III, известном под современным названием «Мединет-Абу», на восьмом году правления Рамсеса III «северные чужеземцы» разгромили Хатти, Коде, Каркемиш, Арцаву и Аласию (Кипр) [33, с. 705]. По мнению немецкого археолога Ю. Зееэра, проводившего раскопки в г. Хаттусе, она не подверглась разовому крупному нашествию, в результате которого была разгромлена [34, c. 633]. Согласно теории Ю. Зееэра, в конце своего правления хеттский царь Суппилулиума II (1205–1178 гг. д. н. э) эвакуировал из г. Хаттусы двор, армию и ремесленников вместе со всем имуществом. Вскоре Хаттуса вновь была заселена, ее жители производили керамику, сходную с хеттской, но более грубую [35, c. 472–473, 24, 170]. Вполне вероятно, что это было хаттско-каскское население, продвинувшееся с севера. Как замечает А. А. Немировский, «если египтяне и правильно отметили, что Хатти погибло от рук северян, то это вовсе не значило бы, что они обязательно должны были войти в тот самый конгломерат племен «народов моря» [33, с. 703]. Они вполне могли относиться к любому другому этническому массиву, оперировавшему, например, в северной части Малой Азии. Одной из основных теорий гибели Хеттской державы является его разрушение в результате крупного наступления касков [36, c. 46–47, 37, 12]. По мнению Дж. Якара, падение Хаттусы произошло в третьей или четвертой четверти XIII в. д. н. э. еще до нашествия «народов моря» [37, c. 15], соответственно, его могли занять только каски, являвшиеся основным военным соперником хеттов в регионе. Крупное наступление на г. Хатуссу в третьей или четвертой четверти XIII в. д. н. э. закончилось его включением в состав Каску и потерей хеттами долины р. Галис навсегда. Указанные выводы подтверждаются результатами сложившейся этнополитической карты Ближнего Востока XIII–XII в. д. н. э., по которой большая часть Хеттской империи, включая центр страны в долине р. Галис, являвшийся ядром первоначальной хаттской государственности, перешла под контроль союзной державы Каску. Таким образом, каски отвоевали территорию страны хаттов, захваченной в результате прихода неситов и палайцев в Анатолию. Впоследствии, в период многочисленных вторжений «народов моря», р. Галис оставалась неизменным пределом их продвижения на северо-восток и границей с Каску.
ЭКСПАНСИЯ КАСКОВ
Разгром Хеттской державы высвободил в XII в. д. н. э. значительные военные силы Каску, продолжившего экспансию на запад и юго-восток. По всей вероятности, каски, известные в древнегреческих источниках как кавконы, продвинулись на запад до Эгейского моря и оказали военную помощь Трое против ахейских племен. В «Илиаде», описывающей Троянскую войну (1194–1184 гг. д. н. э.), каски/кавконы наряду с карийцами, пеласгами, лелегами и пеонийцами сражались как союзники Трои [16 с. 327, 27, 28]. В древнегреческих преданиях кавконы занимают вполне значимое, уважительное место. В XX песне «Илиады» троянский герой Эней был спасен от гибели из рук Ахиллеса, оказавшись в войске кавконов, готовившихся к битве против ахейцев, к которым его зашвырнул Посейдон [27, 28]. В древнеримских преданиях Эней с частью спасшихся троянцев переселился на запад и стал легендарным патриархом основателей Рима. В «Одиссее» Афина обращается к царю г. Пилоса Нестору со словами, что отправится с зарею к народу «отважных кавконов» для получения священной жертвы – вола [16, с. 328].
Как сообщает Страбон, кавконы после Троянской войны переселились в древние районы Пелопонеса, занимавшие его западные и центральные части: Аркадию, Пилос, Трифилию и Элис. Область Элида от Месснении до Димы ранее носила название Кавкония
[16, с. 328]. В древнегреческих сведениях кавконы рассматриваются как почетные жители в царстве потомков Нелея – г. Пилосе на юго-западе Пелопонеса. Они также упоминают, что кавконы из Аркадии мигрировали в Ликию [16, с. 314]. По сведениям Геродота, часть кавконов из Пилоса мигрировала в Ионию. Они расселились в крупных городах – Афинах и ионийском Милете. Милетские кавконы, согласно Геродоту, произошли от легендарного царя Афин Пилиана Кодра (1089–1068 гг. д. н. э.) – сына Меланфа (1126–1089 д. н. э.), правившего ранее в г. Пилосе [16, с. 373]. Кодр, являвшийся последним царем Афин, был образцом патриотизма и путем самопожертвования отразил нашествие дорийцев в 1068 г. д. н. э. По высокой оценке, известного древнегреческого философа и эрудита Аристотеля (384–322 гг. д. н. э.), Кодр умер ради «свободы и отечества» [38, с. 773]. По мнению Страбона, имя Кодр варварское [16, с. 293], т. е. не греческое и, скорее всего, кавконское. От него пошла династия Кодридов. Сын Кодра Андрокл возглавил ионийское переселение в Малую Азию в XI в., в результате которого образовался союз 12 городов [16, с. 293].
Совокупность вышеприведенных фактов о тождественности части населения Северной Анатолии (Каску) и Древней Греции свидетельствует о мощной миграционной (вероятно, сопровождавшейся военными действиями) экспансии касков/кавконов на запад. Перемещение касков/кавконов в Юго-Восточную Европу, скорее всего, обусловлено последствиями Троянской войны и могло проходить по маршруту Северная Анатолия – юг Балкан в сторону Пелопоннеса.
Каски продолжили экспансию и на юго-восток. В результате их продвижения образовалась южная группа касков, правивших в царствах Катак и Табал, занимавших доминирующее положение в регионе Северо-Западной Сирии [31, c. 68]. В первой половине
XII в. д. н. э. каски распространили свое влияние на новохеттское царство Мелид-Камману, игравшее важную роль в регионе. Мелид-Камману входил в Новохеттский союз государств. Он официально назывался «Великой страной хеттов», следовательно, претендовал на продолжение традиций Хеттского царства. Мелид, или «Царство Хатти», был одним из важнейших культурных и политических центров Ближнего Востока.
В ХII в. д. н. э. Каску достиг апогея своего могущества. Он являлся одним из крупнейших стран Ближнего Востока, заняв значительную часть земель бывшей Хеттской империи в долине р. Галис и продвинувшись на юго-востоке до верховьев р. Евфрат. На западе Каску принадлежала часть Северной Анатолии, приблизительно до земель недалеко от Гелеспонта. Как указанно выше, по мнению ряда исследователей, территория Каску примыкала к Эгейскому морю. Ареал проживания касков был значительно значительно шире, чем территория страны Каску, и включал земли юга Балкан, представлявших самостоятельные этнополитические единицы и общности, зафиксированные в древних источниках под разными названиями.
В конце XII в. д. н. э. каски одновременно с восточными мушками организвали ряд наступательных походов против Ассирийской державы. В анналах Тиглатпаласара I (1115–1076) указанного периода времени написано о походе касков и захвате ими ассирийских владений: «4000 кашкайцев и урумейцев, непокорных людей хеттской страны, которые силой своей захватили поселения страны Шубарту» [31, c. 66]. Шубарту находился на северных границах политического центра Ассирии, и каски создавали прямую угрозу столице Ассирийского государства. В данных сведениях не сообщается о крупных военных столкновениях касков и урумейцев, участвовавших в походе с войском Тиглатпаласара I; «они были приняты с 120 колесницами, к людям Ассирии» [31, c. 66]. В других надписях, описывающих указанные события, ассирийское войско столкнулось с войском абешла и урумейцев. По мнению И. М. Дьяконова, урумейцы, пришедшие вместе с касками-абешлайцами и происходящие из «страны хеттов», могут быть каскским либо родственным им племенем [29, с. 160]. Как полагает Г. А. Меликишвили, «каскайцы и абешлайцы» в анналах Тиглатпаласара I равнозначны [12, с. 76]. По мнению К. С. Шакрыл, «названия абешла и каски в те отдаленные времена не были синонимами одного итого же понятия, поэтому касков нельзя считать непосредственными предками абхазского народа…». Скорее всего, в анналах Тиглатпаласара I речь идет о войске касков, частью которого были и абешла, являвшиеся к этому периоду самостоятельной этнической общностью. Как известно, абешла входили в состав страны Каску.
В середине VIII в. д. н. э царь хеттского г. Арпад и государства Бит-Агуси, находившегося на северо-западе Сирии, от лица североссирийского союза государств обратился к правителю каскской страны Катак – царю Баргаадже за военной помощью против царя Урарту Сардури II [31, c. 67]. В последующем все они вынуждены были объединиться против ассирийского царя Тиглатпласара III. В 743 г. д. н. э. Тиглатпаласар III во время похода и разгрома царя Урарту Сардури II и его союзников наряду с другими сирийскими владетелями, от которых получил откупные, называет царя южных касков Дадилу (адыг. дадэ – патриарх). По мнению Э. Шуллера, данные сведения не следует понимать как подчинение Дадилу Ассирии [31, c. 68]. Сопротивление южных касков экспансии Ассирии продолжалось. В период своего правления ассирийский царь Саргон II предпринял ряд походов в область гор Тавра с целью обеспечить свой фланг и овладеть «железным путем», т.е железными рудниками в горах. После походов Саргона II заканчивается господство касков в районах Северо-Западной Сирии. Она превратилась в ассирийскую провинцию. Продвижение ассирийцев замедлилось в областях, лежащих к северу от Сирии, в Юго-Восточной Анатолии. Согласно ассирийским источникам, Саргон II был убит во время похода в Табал в 705 г. д. н. э. Нет сведений, что ассирийцам удалось достичь Каску севернее р. Галис, которая стала естественной границей между двумя странами.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КАСКОВ
В соответствии с имеющимися у нас в доступе источниками с VIII в. д. н. э. название страны Каску больше не встречается на Ближнем Востоке. К вероятным потомкам касков И. М. Дьяконов относит пафлагонцев, живших в начале I тыс. д. н. э. в юго-восточной части Черноморского побережья Анатолии, в районе г. Синопа [29, с. 148]. Страбон отождествляет кавконитов/кавконов с пафлагонцами [16, с. 327]. По гипотезе Э. Рюкерта, греческое название Παφλαγόνες происходит от παφλάξειν – «непонятно говорить». Полагают, оно дано греческими мореплавателями населению Пафлагонии, говорившему на непонятном для них языке. Необходимо заметить, что древние греки в результате торговых операций общались со многими народами Восточного Средиземноморья и могли определять их языковую принадлежность. Сложным при произношении и малопонятным для них языком мог быть каскский, т. е. западнокавказский, разительно отличавшийся от известных на тот период индоевропейских, семитских и родственных им языков. Пафлагонцы известны как отважные воины и превосходные наездниками. В периоды лидийского и персидского господства в Анатолии, в Пафлагонии правила местная династия, которая около 400 г. д. н. э. контролировала северную часть Каппадокии, столицей которой был г. Гангра. Во II в. д. н. э. местные князья, правившие к западу от нижнего течения р. Галис, создали Понтийское царство. Первое упоминание Каппадокии относят к концу VI в. д. н. э. в надписях Ахеменидских царей Дария I и Ксеркса I в качестве одной из областей Персидской империи под названием Хаспадуйя (Haspaduya). По мнению некоторых исследователей, произошло от древнеиранского Huw-aspa-dahyu – «страна прекрасных лошадей» [39, с. 399]. Страбон и Василий Кесарийский утверждали, что каппадокийцы говорили на языке, который был непонятен для греков [40]. По данным Страбона, у пафлагонцев и каппадокийцев был общий язык, что позволяет говорить об их родстве. Язык капподокийцев был вытеснен древнегреческим – койне, однако считается, что мог сохранятся до VI в. н. э. [41, c. 14]. В сведениях Страбона указывается и на наличие в Каппадокии в долине р. Галис пафлагонской топонимики: Багас, Биасас, Айаниатес, Ратотес, Зардокес, Тибиос, Гасис, Олигасис и Манес [16, с. 519]. Вполне вероятно, что в окончаниях указанных местностей лежит адыгское название реки – «псы», которое, как указанно выше, встречается в Юго-Восточной Анатолии и на Западном Кавказе. Приведенные сведения позволяют предположить об этнической преемственности пафлагонцев и основной части каппадокийцев каскам, которые, возможно, были окончательно ассимилированы и подверглись элинизации в эпоху Раннего Средневековья.
Примечательно, что следующий этап упоминания этнонима каски/кашки, служившего для обозначения адыгского населения Северного Кавказа, относится к Средневековью. Он часто встречается в раннесредневековых источниках: в армянских – гашк', грузинских – кашаг/кашаки, византийских – касах, арабских – кешек, русских – касог [12, с. 75]. В переписке хазарского царя Иосифа (930-е – 960-е гг.) Страна Каса находилась к западу от алан [42, с. 101]. С касогами связывается происхождение клана Касау у башкир. Генетический анализ представителей клана Касау обнаружил у них наличие мажорной адыгской гапплогруппы G2a3b. По мнению Б. А. Муратова, происхождение касожского кластера у башкир восходит ко времени Дешт-и-Кипчака (XI–XIII вв.), когда касоги активно взаимодействовали с аланами, ясами и кипчаками [43]. В период монгольских нашествий XIII в. касоги вместе с ясами и кипчаками могли переселится на Урал, где смешались с башкирами [43]. Б. А. Муратов также упоминает о существовании гипотезы происхождения касожско-ясского субклада в более отдаленные исторические времена – от сарматского племени языгов [43]. В начале XV в. мамлюкский историк Ибн Тагриберди о происхождении основателя Черкесского султаната Баркука ал-Черкаси (1382–1389, 1390–1399 гг.) писал, что он выходец из «страны черкесов и его род называется Каса» [44, с. 25]. В Позднее Средневековье за адыгами прочно закрепляется экзоэтноним черкесы / черкасы, иранской версией значения которого является «четыре племени Каса» [45, c. 81, 82]. К указанным сведениям можно добавить антропоним Кес/Кас, носителем которого являлся прадед основателя позднесредневековой правящей династии черкесских князей Инала [46, с. 56].
Удивительным является сохранение за адыгами/протоадыгами экзонима «каски/кашки» на протяжении тысячелетий. И в наши дни адыгов осетины называют – кæсæг, кæсгон, картвелоязычные сваны и мегрелы – кашаг, лезгины – касогар. Данный факт указывает на неизменность территории проживания (части, которая находится на Северном Кавказе), основные ассоциативные признаки этноса и его восприятие окружающими народами, охватывающие длительный хронологический период.
ВЫВОДЫ
Вышеуказанные сведения позволяют придерживаться обоснованного вывода о родстве касков с хаттами, автохтонами и создателями высокой материальной культуры на территории Анатолии. Прослеживается материальная, лингвистическая и генетическая взаимосвязь хаттско-каскского населения Анатолии с Кавказом и неолитическим населением Европы. Выделившись в самостоятельную этнополитическую общность, каски сыграли важную роль в истории Ближнего Востока, Балкан и Кавказа. Оказав ожесточенное сопротивление Хеттской империи, каски сохранили этническую и политическую преемственность автохтонного населения Анатолии и внесли весомый вклад в этногенез и идентификацию адыгов. Военная организация касков имела решающее значение в остановке продвижения хеттов в Южное Причерноморье. Сыграв значительную роль в разгроме Хеттской империи, они в корне изменили геополитическую ситуацию в Анатолии. Экспансия касков на юго-восток привела к образованию новых каскских государственных образований, влиявших на политическую обстановку в Северной Сирии. Движение кавконов на юг Балкан, в Пелопоннес и далее в Аттику оставило заметный след в политическом и духовном развитии раннего этапа истории Древней Греции. В силу бурно меняющейся этнополитической ситуации на Ближнем Востоке и Балканах политические объединения касков/кавконов исчезли, а сами они были ассимилированы. Исключением стал Северный Кавказ, где потомки касков под эндоэтнонимом «адыги» известны и в настоящее время.
Карта Хеттской империи и Страны касков в Анатолии (XIII в. д. н. э.). Фото из свободных источников
Финансирование. Исследование проведено без спонсорской поддержки.
Funding. The study was performed without external funding.
About the authors
Zhiraslan V. Kagazezhev
Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: jiraslan@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0508-3493
SPIN-code: 2606-0979
Candidate of Historical Sciences, Leading Researcher, Head of Natural Scientific Methods in Archaeology, Anthropology and Archaeography Science and Innovation Center
Russian Federation, NalchikReferences
- Szécsényi-Nagy A., Brandt G., Haak W. et al. Tracing the genetic origin of Europe's first farmers reveals Sciences. 2015 insights into their social organization. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2015. doi: 10.1098/rspb.2015.0339
- Lipson M., Szécsényi-Nagy A., Mallick S. et al. Parallel ancient genomic transects reveal complexpopulation history of early European farmers. Nature. 2017. Vol. 551. No. 7680. Pp. 368–372. doi: 10.1038/nature24476
- Kasyan A.S. Klinopisnye yazyki Anatolii (hattskij, hurrito-urartskie, anatolijskie): problemy etimologii i grammatiki [Cuneiform languages of Anatolia (Hattian, Hurrito-Urartian, Anatolian): problems of etymology and grammar]: diss. dokt. filol. nauk. Moscow. 2015. (In Russian)
- Dyakonov I.M. Yazyki drevney Peredney Azii [Languages of ancient Western Asia]. Moscow: Nauka, 1967. 492 p.
- Giorgadze G.G. K voprosu o lokalizacii i yazykovoy strukture kaskskih etnicheskih i geograficheskih nazvaniy [On the issue of localization and linguistics of Kask ethnic and geographical names]. Peredneaziatskiy sbornik. Vyp. 1. Voprosy hettologii i huritologii [Western Asian collection. Vol. 1. Issues of Hittology and Huritology]. Moscow: Nauka, 1961. Pp. 161–210. (In Russian)
- Anchabadze Z.V. Ocherk etnicheskoy istorii abhazskogo naroda [Essay on the ethnic history of the Abkhaz people]. Sukhumi: Alashara, 1976. 167 p. (In Russian)
- Ardzinba V.G. Sobranie trudov v 3 tomah. T. III. Kavkazskie mify, yazyki, etnosy [Collected works in 3 volumes. Vol. III. Caucasian myths, languages, ethnic groups]. Moscow–Suhum, 2015. 319 p. (In Russian)
- G-Y2724 Haplogroup – Hattian / Kaška / Hittite Culture. URL: https://www.yfull.com/tree/ G-Y134757*/ (data obrashcheniya: 08.12.2020).
- Cinnioğlu C. Excavating Y-chromosome haplotype strata in Anatolia. URL:https://www. researchgate.net/publication/9033094_Excavating_YChromosome_Haplotype_Strata_in_Anatolia (data obrashcheniya: 07.09.2021).
- Melikishvili G.A. Vozniknovenie i razvitie hettskogo carstva i problema drevnejshego naseleniya Zakavkaz'ya i Maloj Azii. Vestnik drevney istorii [Herald of Ancient History]. 1965. No. 1. Pp. 8–9. (In Russian)
- Akurgal E. The Hattian and Hittite Civilizations; Publications of the Republic of Turkey; Ministry of Culture, 2001. 300 p.
- Melikishvili G.A. Drevnevostochnye materialy po istorii narodov Zakavkaz'ya [Ancient Eastern materials on the history of the peoples of Transcaucasia]. CH. 1. Nairi-Urartu. Tbilisi: Izd-vo Akad. nauk Gruz. SSR, 1954. 447 p. (In Russian)
- Schuster H.-S. Die Hattisch-Hethitischen Bilinguen. Vol. 2. Leiden: Brill, 2002.
- Inala-ipa SH.D. Voprosy etnokul'turnoy istorii abhazov [Questions of the ethnocultural history of the Abkhazians]. T. III. Suhum: Dom pechati, 2011. 681 p. (In Russian)
- Marr N.Ya. Kappadokiycy i ih dvoyniki [Cappadocians and their doubles]. Izvestiya Rossiyskoy Akademii istorii material'noy kul'tury [News of the Russian Academy of History of Material Culture]. Peterburg: Rossiyskaya Gosudarstvennaya Akademicheskaya tipografiya, 1922. Vol. II. Pp. 332–336. (In Russian)
- Strabon. Geografiya [Georraphy] / per. s dr.-grech. G.A. Stratanovskogo, pod red. O.O. Kryugera, obshch. red. S.L. Utchenko. Moscow: Ladomir, 1994. 940 p.
- Meshchaninov I.I. Kamennye statui ryb – vishapy na Kavkaze i v Severnoj Mongolii [Stone statues of fish – vishaps in the Caucasus and Northern Mongolia]. Zapiski kollegii vostokovedov pri Aziatskom muzee [Notes of the College of Orientalists at the Asian Museum]. L.: RAN, GLAVNAUKA, GOSIZDAT, 1925. Vol. I. 401 p. (In Russian)
- Room A. Placenames of the world: origins and meanings of the names for over 5000 natural features, countries, capitals, territories, cities, and historic sites. Jefferson: McFarland & Company, Inc., 1997. 441 p.
- Kretschmer P. Enleiting in die Geschihte der griechichen Sprache. Gottingen, 1896.
- Beekes R. Pre-Greek: Phonology, Morphology, Lexicon. Leiden: Brill, 2014.
- Finkelberg M. The Language of Linear A: Greek, Semitic, or Anatolian? Journal of Indo-European Studies. Monograph Series 38 (Washington 2001). 81–105.
- Bengtson J.D., Leschber C. Notes on some Pre-Greek words in relation to Euskaro-Caucasian (North Caucasian + Basque). Journal of Language Relationship, 2021.Vol. 19. No. 1–2. Pp. 71–98.
- Istoriya Evropy [History of Europe]. Moscow: Nauka, 1988. 742 p. (In Russian)
- Schachermeyr 1976; Mellaart 1965–1966; Mellaart 1975. «Southeastern Europe: The Aegean and the Southern Balkans».
- Singer I. Who were the Kaska? Phasis. Greek and Roman Studies. Vol. 10. No. I. Tbilisi State University, 2007. Pp. 166–181.
- Cavaignas E. L’extension de la zone des Gasgas a l’Ouest. RHA. Vol. I. No. 4, 1931.
- Kavkaz – Caucones [Caucasus – Caucones]. URL: https://ru.wikibrief.org/wiki/ Caucones. (data obrashcheniya: 10.08.2023). (In Russian)
- Caucones. URL:https://en.turkcewiki.org/wiki/Caucones. (data obrashcheniya: 18.08.2023).
- Dyakonov I.M. Predystoriya armyanskogo naroda: Istoriya Arm. nagor'ya s 1500 po 500 g. do n. e. Hurrity, luviycy, protoarmyane [Prehistory of the Armenian people: History of Armenia. highlands from 1500 to 500 BC. e. Hurrians, Luwians, Proto-Armenians]. AN Arm. SSR. In-t istorii. Erevan: Izd-vo AN Arm. SSR, 1968. 264 p. (In Russian)
- Dzhanashiya S.N. Cherkesskie dnevniki [Circassian Diaries]. Tbilisi: Kavkazskiy dom, 2007. 265 p.
- Schuler E. Die Kaškäer: Ein Beitrag zur Ethnographie des alten Kleinasien – Berlin: Walter de Gruyter, 1965. (In German)
- Soysal O. On behalf of the Ortaköy-Sapinuwa Epigraphical Research project, summarizes the contents that the documents include as "letters, lists of persons, tablet-catalogs, oracular texts, prayers, rituals and festival descriptions". Description of the Ortaköy-Sapinuwa Epigraphical Research project Archived August 20, 2006, at the Wayback Machine.
- Nemirovskiy A.A., Safronov A.V. Kto pogubil Hattussu? [Who destroyed Hattussa?]. Indoevropejskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya [Indo-European linguistics and classical philology]. Vol. XIX. 2015. Pp. 699–713. (In Russian)
- Seeher J. Abschied von Gewusstem. Die Ausgrabungen in Hattuša am Beginn des 21. Jahrhunderts. Hattuša-Boğazköy. Das Hethiterreich im Spannungsfeld des Alten Orients / Wilhelm G. Hrsg. Wiesbaden, 2008. (In German)
- Genz H. “No land could stand before their arms, from Hatti … on …”? New light on the end of the Hittite empire and the Early Iron age in Central Anatolia. The Philistines and other «Sea Peoples» in text and archaeology / eds. Killebrew A., Lehmann G. Atlanta, 2013.
- Bittel K. Die archäologische Situation in Kleiasien um 1200 v. Chr. und während der nachfolgenden vier Jahrhunderte. Griechenland, die Ägäis und die Levante während der «Dark Ages». Vol. 12. No. 9. Jh. v. Chr. Akten des Symposions von Stifft Zwettl, 11–14. Oktober 1980. Wien, 1983.
- Yakar J. Dating the Sequence of the Final Destruction/Abandonment of LBA Settlements: Towards a Better Understanding of Events that led to the Collapse of the Hittite Kingdom. Mielke, Schoop, Seeher (ed.), Structuring and Dating in Hittite Archaeology. BYZAS 5, 2006. 19 p.
- Aristotel'. Sochineniya [Essays]. Vol. 4. Moscow: Mysl', 1983. 613 p. (In Russian)
- Schmitt R. Kappadoker. Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Berlin: Walter de Gruyter, 1980. Bd. 5. p. 399. (In German)
- Mark Janse. The Resurrection of Cappadocian (Asia Minor Greek). ΑΩ International full tex. 2009.; As referenced in Arnold Hugh Martin Jones. The Cities of the Eastern Roman Provinces, 1937. p. 430.
- Cooper J.E., Decker M.J. Life and Society in Byzantine Cappadocia. Springer, 2012.
- Kokovcev P.K. Evreysko-hazarskaya perepiska v X veke [Jewish-Khazar correspondence in the 10th century]. L.: Izd-vo AN SSSR, 1932. 132 p. (In Russian)
- Kasozhsko-yasskaya podvetv' G2a3b1a1b1 [Kasozhsko-Yasskaya sub-branch G2a3b1a1b1]. URL: http://suyun.info/?p=06082013. (data obrashcheniya: 8.08.2023). (In Russian)
- Ilyushina M.Yu. Sultan Barkuk i ego vremya (1382-1399) [Sultan Barkuk and his time]. Vestnik SPbGU [Vestnik of St. Petersburg State University]. 2013. Vol. 13. No. 4. Pp. 23–36. (In Russian)
- Justi F. Iranisches Namenbuch. Marburg: N.G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, 1895.
- Kagazezhev Zh.V. Cherkesiya v epohu knyazya Inala i ego blizhayshih potomkov: XIV pervaya polovina XVI v. [Circassia in the era of Prince Inal and his immediate descendants: XIV – first half of the XVI century.]. Nal'chik: Tetragraf, 2013. 162 p. (In Russian)
Supplementary files