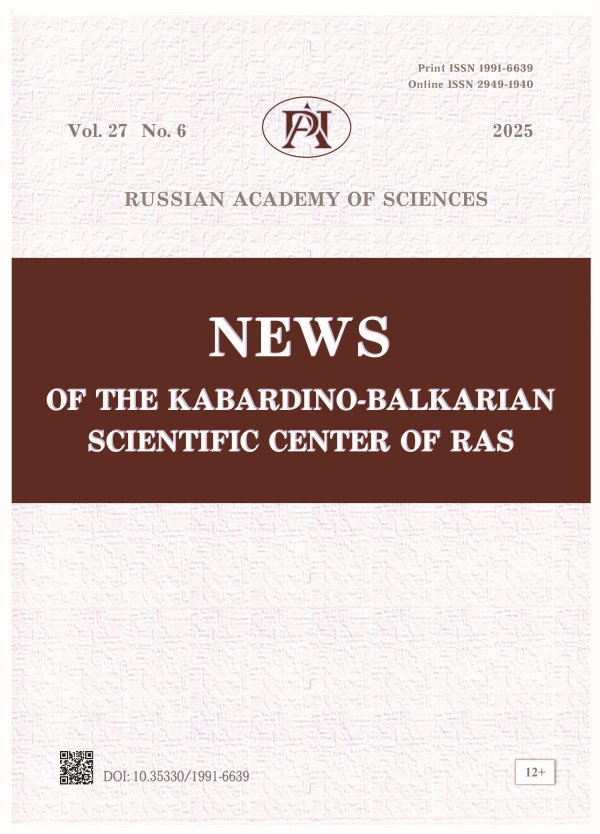On the interpretation of the inscriptions of vessel No. 1 from the Oshad mound of the Maikop culture
- Authors: Vorokov A.K.1
-
Affiliations:
- Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 26, No 5 (2024)
- Pages: 230-250
- Section: Historical Sciences
- Submitted: 24.12.2024
- Accepted: 24.12.2024
- Published: 17.11.2024
- URL: https://journal-vniispk.ru/1991-6639/article/view/274290
- DOI: https://doi.org/10.35330/1991-6639-2024-26-5-230-250
- EDN: https://elibrary.ru/SIZXMZ
- ID: 274290
Cite item
Full Text
Abstract
This work is devoted to the next deciphering of the inscriptions of the silver vessel No. 1 from the Oshad mound of the Maikop culture (IV BC). Linguistic analysis of pictograms at all three levels of the vessel reveals the semantics and etymology of inscriptions, in which the Khatto-Adyghe-Abkhazian speech fits seamlessly in word forms and syntactic structure of phrases and sentences consistent with the Adyghe grammar. Typologically, inscriptions represent a complex system of the final stage of pictorial writing, which precedes the formation of subsequent types of writing. Here, individual, composite elements of images that were provided by the ancient author, but were not reflected in modern drawings, are taken into account and considered in detail. The methodological approaches of the research are based on the principle of historicism, using the comparative historical method, linguistic and glottochronological retrognostics, in comparison with scientific historical data and facts. Derivative information is extracted on the basic, linguistic basis of semantically interrelated characteristics and descriptions of pictographic images, in visual and contextual aspects that complement each other. The same concepts of the ancient author can be derived in different ways, which confirms the validity of the interpretations with additional argumentation. In some cases, relevant, word-forming lexical and sound elements (words, morphemes, syllables, phonemes) are highlighted in bold italics or presented in Cyrillic transcription for clarity.
Full Text
Введение
Плеяда ученых, в числе которых Н. Я. Марр, Е. И. Крупнов, С. Н. Кореневский, В. В. Иванов, Б. Х. Бгажноков, Е. С. Шакрыл, Р. М. Мунчаев, Н. Г. Ловпаче, Р. Ж. Бетрозов, А. С. Касьян, Л. С. Клейн, В. А. Фоменко, А. В. Сивер, А. Ж. Бакиев, А. С. Куек, Р. З. Куаджэ и многие другие, считают установленным фактом, что создателями майкопской культуры являются автохтоны Северного Кавказа в лице адыго-абхазов, родственных древним хаттам. Об этом свидетельствует и ряд антропонимов на «хат», едва ли не самые распространенные в адыго-абхазском социуме [1, с. 68]. Исторический экскурс в эпоху майкопской культуры и кургана Ошад, где обнаружены сосуды с надписями, их особенности и лингвистические характеристики подробно освещены в предыдущей статье «Исследование надписей сосуда № 1 из кургана Ошад майкопской культуры» [1]. В советский период дешифровками этих надписей занимался Г. Ф. Турчанинов [2]. Однако несмотря на то, что ученый не уделил должного внимания адыгскому языку, в его трудах намечены важные отправные начала для дальнейшей исследовательской деятельности.
Сложные синтаксические конструкции алфавитного письма состоят из двух и более грамматических основ, где в качестве дополнений и определений выступают второстепенные члены предложения. В исследуемых пиктографических надписях они выражаются омонимами, синонимами, полисемичными (многозначными), диалектными словами и фонологическими единицами (слогами, фонемами) при повторных (альтернативных) прочтениях одних и тех же образов (пиктограмм, их фрагментов и сочетаний), изображенных на сосуде. Например, побег/отросток с тополиными признаками – адыг.: къыхэкIа щиху (побег тополя), исходящий из изображения правого русла реки на сосуде, может рассматриваться и как побег (къыхэкIа), и как тополь (щиху), из которых, соответственно, выводятся уместные полный и неполный омонимы – «происхождение» и, по контексту, «почтенный, «святой»; или лаконичное кIэ (хвост) может озвучиваться омонимами (конец; край), а также послелогом в функции предлога, например, в составной словоформе лъэныкъуитIкIэ (по обе стороны, с обеих сторон). Использование созвучных и разнодиалектных слов существенно повышает информативность надписей. Благодаря лингвистическим особенностям и возможностям языка, переданным в пиктографических образах с филигранным подходом уникальной методикой искусного автора, создаются семантически взаимосвязанные варианты прочтений с новыми сведениями, которые наслаиваются, объединяются и в совокупности воссоздают подробные, развернутые нарративы.
Надписи читаются по направлению «шествия» животных. Общий смысл сохраняется, если их считывать с произвольно выбранной пиктограммы, прибегая к инверсии, перестановке слов. Фрагментарные трактовки пиктограмм тоже содержат конкретные сведения в части контекста, хотя и отрывочные.
В первых силлабариях (наборах слоговых знаков) II тыс. до н.э. еще даются названия (первоначальные значения), из которых вычленялись префиксы-слоги, с соответствующими символами, которые закрепились таковыми в протосинайском, библском или ханаанейском (по Б. Коллессу) и других аналогичных системах слогового письма. Более того, в последующих алфавитах (финикийский, др.-греческий и др.) известны слова, из которых извлекались первые буквы с соответствующими обозначениями. Например, финик. и др.-греч. буква алфавита «к» вычленена из названий, соотв., kaph и kappa (каппа), заимствованных из силлабариев – библ.: kаppu, протосин.: kaph в значении «рука» (ср. убых.: капа – «рука»; адыг.: капхон – «хватать»). В пиктограммах сосуда подобные исходные слова заложены непосредственно в названиях образов и их фрагментов, из которых выделяются и вычленяются (отсечением) первые слоги и фонемы (буквы), отражающие зачаточное состояние слогового и алфавитного письма. Например, по контексту слог мы выводится из слова мышэ (медведь), а буква (фонема) е – из ешх (ест) или егъу (глодает), которые в соединении с цельным словом къопс (отросток) образуют арх. топоним Мыекъопс (Майкоп).
Основная часть
До начала дешифровок целесообразно указать на исторические причины фонетико-лексических изменений отдельных адыгских слов. При этом отметим, что буква «э» в адыгской орфографии передает краткий звук «а»; буква «ы» в словах фактически не произносится, но она обозначает неясный звук, который в некоторых отношениях был исторически преобразован (по Г. Ф. Турчанинову) из звука «а» [2, с. 72, 74]. Поэтому с учетом трансформации слов и «поправок на древность» в плане исторической ономастики слово/слог псы – «вода, река» (Псыжь – р. Кубань) следует озвучивать в иных случаях арх. произношениями как пса/пша/псе/псо [3, с. 13]. Эти лексические формы находят отражение в адыго-абхазских гидронимах, в том числе засвидетельствованных в Нартском эпосе [4, c. 45, 48]: Псахо, Псебэ, Псоу, Хыпста, Пседах, Псенафа, Афипс, Туапсе, Псакупс и в других ранних: Псат, Псахапсия, Арипса, Апсара, Лагумпса, Супса. Корень пса в значении «вода» сохранился в некоторых адыгских словах, например, псашъо/псафэ/псафап1э (водопой); къуэпсапс (моросит). Наряду с этим передался и хатто-адыго-абхазский пласт в названиях рек на рša – пша (вода) [5, с. 54], пш (вода, река): Пшада, Пшиз, Пшиш, Пше, Пшеха, Пшьшьэжь; абх. Юпшара, Гагрипш, Пшап (абх. – «устье реки»); груз. пша: «родник, вода, бьющая ключом» [6, с. 253] и др. Поскольку конечный формант жь может означать и «течение» – ижь/жэ, древние диалектные названия р. Кубань Пшажь/Пшыжъ/Псыжь возможно трактовать, как «бегущая/текущая вода», а р. Терек – Пшауор/Пшыуэр/Псыуэр – «вода бурная, волнистая». Хаттское рša – пша (вода) усматривается в однородных адыгских словах пшагъуэ (туман), пшэ/пщэ (туча, облака) [7, с. 430; 8, с. 263]. В этой связи архаизм пша (вода) может отражать некий синкретизм мышления раннего человечества, когда такие взаимосвязанные явления природы, как вода и туча в силу своих аморфных (бесформенно-расплывчатых [9, с. 23]), текучих свойств и состояний (адыг.: пша – «раздутый»; пшан – «расползаться» и т.п.) могли выражаться однокоренными словами. В иной проекции коренная основа пс, по-видимому, ассоциировалась и увязывалась в представлениях древних с жизненно важными субстанциями, какими являются «вода» (псы), «солнечный свет» (дыгъапс), «душа» (псэ), «жизнь» (псэун), «слово» (псалъ), «добро» (псапэ) [1, с. 62] и т.п. Подобное когнитивное восприятие окружающей действительности свидетельствует о том, что уже в архаичный период истории имело место некое осмысленное упорядочивание и систематизация знаний, отразившиеся в лексике. Примечательно, что в др.-греческой мифологии форма трезубца повелителя всех земных вод Посейдона, ударом которого он выбивал воду из земной тверди, явилась прообразом буквы греч. алфавита с адыг. названием «пси» (вода).
На примере твердого вещества подобные смысловые преобразования усматриваются в адыгском архаизме ша, который в каменном веке означал и камень, и заряд, и нож (камень с острыми краями) до его семантического расчленения в связи с переходом в век металла. Адыг. архаизм шадз и слав. праща в значении «метатель камня» образуются из двух слов, порядок, которых согласуется с синтаксическими нормами этих языков: в адыг. – «камень бросающий»; в слав. – «бросающий камень». Очевидно, что эти слова этимологически и семантически восходят к одному арх. корню – ша/ща (камень), который в иных случаях развился в са. В свою очередь лингвистическую эволюцию форманта са в со обосновал М. А. Кумахов на примере одного из ярких персонажей нартского эпоса – Сосруко (сына камня) [10, с. 500, 501], когда форма Сосруко в диалектах восточных черкесов (кабардинцев, черкесов) предстает производной от арх. Сауэсыруко, к которой максимально приближена форма Саусырыко в западно-черкесском (собир. – адыгейском) наречии.
В условиях ограниченного словарного запаса древних были насущны многозначные, универсальные слова, смысл которых определялся конкретной ситуацией или распознавался в контексте, что практикуется и в наши дни. Однако с течением времени в связи с востребованностью дифференцированного, избирательного подхода в определении тех или иных явлений природы и развивающегося социума лексика древних обогащалась разнообразием новых слов с видоизменением или утратой отдельных старых. Например, в языке западных адыгов (усл. адыгейцев) слово къо означает и «сын», и «свинья», и (уст.) «долина» [8, с. 169], тогда как у восточных (каб.-черк.) понятие «свинья» уже выделено отдельным словом: кхъуэ (кхъо) [7, с. 648]. Кроме того, в ряде слов восточных адыгов преобладают твердые согласные по сравнению с западными диалектами, например, каб.: дыгъэ (солнце), дыжын (серебро) и соотв. адыг.: тыгъэ, тыжьын. При этом у восточных адыгов сохранилось слово дзэпкъ в значении «клык» и гуу – «бык», а у западных преобладает цу, быгъу в значении «бык».
Свидетельством того, что адыгские диалекты имели место по меньшей мере в IV–III тыс. до н.э., являются лексические соответствия в кабардинском, шумерском, эламо-касситском языках и санскрите: адда – «отец», ана – «мать», нэху – «свет» и др., с одной стороны, и те же понятия в (собир.) адыгейском, хаттском, бактрийском и др.-египетском языках: та/ты/тат – «отец», нана/ ны/нан – «мать», нэфы – «светлый» и др. – с другой. Древний автор вовлекает в письмо широко распространенные в ту пору разнодиалектные арх. хатто-адыг. названия, в т.ч. воды/реки – пша/пса/псы, которые озвучиваются силлабемами, в прямом смысле или уместными по контексту другими значениями. Аналогично этому и арх. слово ша/са долгое время употреблялось как в значении «камень», так и в значении «нож», поскольку в эпоху бронзы вплоть до железного века наряду с введенными в обиход металлическими предметами и оружием еще продолжительное время повсеместно изготовляли и использовали их каменные первообразы [11, с. 234–235]. Сегодня в адыгском языке архаичные и современные слова и понятия перемежаются: шъажъый и са – «нож» (уже металл.); шамаджыжь (устар. тесак); ша – «снаряд», «боеприпас», «пуля», «патрон» и др.; м(ы)вэ или м(ы)жъо – «камень»; аша/аща – «оружие» и др.
По некоторым сведениям, и в алфавитной системе письма этимология букв «щ» и «с» восходит к букве «ш», и в силу их созвучности в произношении иных слов они сливаются, ассимилируются: счастье («щастье»), сшила («шшила»), расширить («рашширить») и т.п. Взаимозаменяемость букв (фонем) «ш», «щ» и «с» усматривается в адыгских разнодиалектных словах: шабзэ/щабзэ – «лук» (оружие), шыд/щыды (осел), шъыхьэ/щыхь (олень), шъажъый/са (нож) и др. Важно отметить, что в условиях этнической пестроты Малой Азии хаттская лексика стала существенно преображаться еще за много столетий до вытеснения хаттского языка индоевропейской речью и в частности неситской.
В ходе исследования выдаются созвучные и взаимозаменяемые хаттские (ранние) и адыго-абхазские исходные слова: Тха/Та (бог), рšа/пса/псы (вода, река), гъэнэхун/гъэнэфын (освещать), hа/шъхьэ/щхьэ (голова и др.), ре/пэ (передний; нос), тхьап/тхьэмпэ (лист), ти/мы (яблоня; дикая яблоня), shapu/шъхьапэ/щхьэкIэ (крона, верхушка), щIагъ/чIэгъ (под), щIы/чIы (земля), щыгу/щхьэгу (макушка), остыгъай/уэздыгъей (сосна; пихта), щэин/шэщIын (протягивать, вытягивать), ti/ты/тIы (баран), мыщэ/мышъэ (медведь), гуу/цу/ацə/быгъу (бык), жэм/ажə (корова) и др. По оценке В. А. Истрина, пиктографические надписи – это «сложные изобразительные композиции повествовательного характера или же серии последовательно связанных друг с другом рисунков, как бы "рассказы в картинках"», которые разгадываются «с трудом, как современные ребусы» [12, с. 47].
Надпись на горловине сосуда № 1 (рис. 1)
Рис. 1. Фрагмент и прорисовка пиктограмм горловины сосуда № 1 с основными адыгскими названиями образов и действий
Fig. 1. Fragment and drawing of pictograms of the neck of the vessel No. 1 with the main accessories. names of images and actions
Заголовок (шапка) текстов образуется соединением слогов и омонимов, озвученных из адыг. названий высотного и нижнего ландшафтных поясов горной системы Кавказского хребта (рис. 1): тхы (гребень, хребет, горная цепь, позвоночник [8, с. 319]; пиши); лъапсэ (подножие; земля предков), лъапэ (подножие; неполный омоним – священный, святой); гъэпсыкIэ (рельеф, система); тхын (написание), тхыныр (писание). Соединением лаконичного слова тхы (хребет) и слога гъэ, выделенного из слова гъэпсыкIэ (рельеф, система), складывается понятие тхыгъэ – «послание», «надпись», «графические знаки». Исходя из этого, в упрощенных вариантах заголовок гласит: Тхыгъэ лъапсэ – «Послание земли предков»; Тхылъ͜ лъапсэ лъапIэ – «Священная книга/сборник земли предков», где формант лъ дублируется в слове лъапсэ (подножие; родина).
Отдельным контекстом в свете сакральной (культовой) характеристики надпись гласит: «Нартей (Натий) ТхъащIагъ абарагъуэ Мыекъопс ТхалъэIупIэ лъапIащэу, щIэблэу/шIэту шъхьа шыгу» – «Нартеи, под богом Тха огромная Майкопса, священного места проведения сходов, жертвоприношений и молений богу Тха, сияющая головная вершина». Этот текст выводится соединением выделенных лексических единиц (рис. 1) из очевидного описания изображений: «Нартей тхьапэ щIагъу, абара гъуэ мыщэ ещхъ (екъу, елъеф) къуэпс тхьапэр, лъэIусу упам лъэпащэу (лъапIащэу). ЩIэблэу/шIэту шъхьапэ шыгу» – «Под листвой тиса (Нартеи), прикладывая лапу и глодая, мыщэ (медведь) ест (дергая, тянет) лист (от)ветвления (или отросток листа), прикасаясь/дотрагиваясь губы протянутой лапой (крупной лапой)». Описание во втором предложении (в прямом и переносном смысле) гласит: «Светящаяся вершина кроны» и т.п.
Прикосновение/дотрагивание лапой к губам – одно из самых очевидных действий медведя. Фрагмент «…мыщэ ещхъ копс тхьапэр, лъэIусу упам лъэпащэу (лъапIащэу) – «…медведь (мыщэ) ест лист ветви, прикасаясь, дотрагиваясь губы вытянутой лапой (крупной лапой)» может быть заменен альтернативным словосочетанием «…мыщэ ещхъ копс тхьапэр, лъапэ тхьэмпэкIэ лъэIусу упам» – «…медведь (мыщэ) ест лист ветви (или отросток листа), кистью передней конечности прикасаясь/дотрагиваясь губы», которое озвучивает производное, схожее изречение: «…Мыекопс Тха лъапIэ ТхалъэIупIа» – «…Майкопса бога Тха дорогого места проведения сходов, жертвоприношений и молений».
Однако более подробное и связное описание сюжета пиктографических образов гласит: «Нартей тхьапэ щIагъу, амбр игъуэ мыщэ ещхъ (елъэф) копс тхампэр, лъэIусу упам лъэпэщэу (лъапIащэу), и щIыбагъу, гъагъэу тыгъэ щIэнэ гъэнэхуныгъэ щIэблэу/шIэту пынауэ остыгъэу шъхьапэ шыгу» – «Под листвой Нартеи (тиса), глодая побег, мыщэ (медведь) ест/тянет ветви лист, прикасаясь к губам вытянутой лапой (крупной лапой), а позади него цветущая, словно в освещении вспыхнувшего/загоревшегося солнца, светится/сияет зажженным светочем вершина кроны». Соединением выделенных лексических элементов исходного текста актуализируется производный, иносказательный нарратив сакрального и светского характера: «Нартей ТхьэщIагъ, амбрыгъуэ Мыекопс ТхалъэIупIэ лъапIащэу и щIы багъу, гъагъэу ты гъэщIэ гъэунэхуныгъэу, (зы)щIэблэу/шIэту пынауэ остыгъэу шъхьа шыгу» – «Нартеи, под богом Тха огромная Майкопса, священного места проведения сходов, жертвоприношений и молений богу Тха, его земли обильной, приумножающейся, расцветающей нашим жизненным опытом, сияющая зажженным (вспыхнувшим) светочем головная вершина». Нартей – тис; название страны. ТхьэщIагъ/ ТхъачIэгъ – «под богом», «земля, покровительствуемая богом»; это священные рощи, деревья, на которые вешали оружие, шкуру животного, принесенного в жертву, сакральные места, где проводились моления и торжественные мероприятия – ТхалъэIу, с главным атрибутом традиционной религии адыгов – Т-образным крестом или Тау-символом, освещающим место религиозного культа [6, с. 267; 13, c. 245; 14, с. 50–82, 280 –284; 15, с. 36, 37]. Теофорный термин ТхьэщIагъ образуется соединением первого слога от тхьап/тхьэмпэ (лист) или тхьапэхэ (листва) и щIагъ (нижний; под). Составляющие самого слово ТхьэщIагъ (бог – нижний; под), соответствующая ему структура Т-образного символа (горизонталь-вертикаль) и дерева (связь кроны (неба) и корня (земли) посредством ствола) передают гармонию и единение небесно-божественного и земного начала. Дж. Н. Коков указывает на множество объектов с названием ТхьэчIэгъ, в числе которых «ТхьэчIэгъыжь (-жъ «старый») – п.б. Макопсе» [6, с. 267].
Любопытно, что спустя тысячелетия последующие меото-аланские погребения традиционно устраивались в Т-образных катакомбах.
Абарагъуэ/амбрыгъуэ/абрагъуэ – «огромный, могучий» – медведь изображен крупным; кроме того, слово абарагъуэ озвучивают понятия абара (протягивая лапу) и гъуэ (глодая); вариант амбрыгъуэ озвучивают Iэмбр (амбр) – «побег; плод» и гъуэ – «глодая, грызя»; (абрэмывэ – «огромный, тяжелый» камень; в мифологии нарты использовали его в игрищах [16, с. 8]). Мыекъопс (Майкоп) складывается из слога Мы, вычленяемого от слова мыщэ/мышъэ (медведь); фонемы е – от ешх (ест) или екъу, елъеф (тянет, дергает); къопс/къуэпс (отросток; побег; стебель; ответвление; речная долина; проток реки; светит (о солнце); родственные племена и др.). ТхьэлъэIупIэ лъапIащэу (святое место схода, жертвоприношений; алтарь) выводится из сочетания «…тхампэр, лъэIусу упам лъэпащэу/лъапIащэу» (…лист, прикасаясь к губам вытянутой лапой/крупной лапой); кроме того, лъапашэ означает «косолапый». Понятие и щIыбагъуэ (позади него; за его спиной) озвучивает полным омонимом выражение и щIы багъуэ – «его/ее земли/страны обильной, приумножающейся». Слово гъагъэу (расцветающей) согласуется с предыдущими определениями, а также ассоциируется со светящейся верхушкой дерева. Понятие ты гъэщIэ (нашей жизни) образуется из сочетания тыгъэ щIэнэу (словно солнца горящего); гъэунэхуныгъу (опытом) выводится из созвучного гъэнэхуныгъэу (освещением); щIэблэу означает «проникающий» (о свете); шIэту – «сияет», «блестит», «сверкает»; хатто-адыг. п(ы)науэ означает «зажженным», «загоревшимся». Поскольку омоним слова щIэблэу (светящая) означает «поколениями», возможна интерпретация второй части предложения: «…его земли обильной, приумножающейся, расцветающей нашим жизненным опытом поколений, сияющая подобно зажженной светочи – головная вершина»; остыгъэу (светочем; подобно светочи) выводится из очевидного уэздыгъэ/остыгъэ (источник света, свеча, факел, лампа) или из остыгъай/уэздыгъей (пихта; сосна), если называть второе дерево пихтой/сосной (возможно, из хвойных пород с вертикальными ярко-красными шишками), где составное тыгъэ/дыгъэ означает «солнце». Понятие шъхьа шыгу (головная вершина/макушка) выводится из сочетания шъхьапэ шыгу (верхушка кроны), альтернативным вариантом которого может стать одно слово: шъхьап – «вершина».
Макушка бычьих голов золотых фигурок из кургана Ошад декорирована орнаментальным изображением солнца. Эта традиция преломилась в др.-египетском искусстве, где в антропоморфных и зооморфных образах предстают божества в головных уборах с увенчанным, в обрамлении двух рогов, солнечным диском. В ряду подобных экспонатов, в частности, предстает статуя богини Исиды в Египте (музей в Луксоре), а также богини Хатхор и скульптура священного быка Аписа (музей в Каире) и в других мировых музейных экспозициях. При этом курган Ошад на порядок старше египетских пирамид. Останки захоронения посыпаны красной краской, которая могла олицетворять багровое солнце на рассвете/закате, огонь или кровь, символизирующую возрождение или продолжение жизни в ином мире, в оккультных представлениях древних. Религиозная символика отражается и в Т-образной перегородке в центре погребальной ямы кольцеобразного кромлеха, которая исполнена в форме жертвенной шкуры животного. Верхняя перекладина перегородки ориентирована на юго-запад, возможно, имитируя сезонную траекторию восходящего на небосводе солнца, как воплощения небесного божества – Тха/Та или светила – Тыгъэ/Дыгъэ (рис. 2). Примечательно, что на юго-запад ориентированы и навершия Т-образных колонн храмового комплекса Гёбекли-Тепе (X–VIII тыс. до н.э.) [М. И. Зильберман. О сакральном символизме Гёбекли Тепе. 2017].
Рис. 2. Погребальная яма кургана Ошад с Т-образной перегородкой (по Ю. Ю. Пиотровскому), символизирующей бога Тха
Fig. 2. The burial pit of the Oshad mound with a T-shaped partition (according to Yu.Yu. Piotrovsky), symbolizing the god Tha
Древние аллографы (варианты) креста, в ряду которых и Т-образный крест, или Тау-символ (адыг.: Тапши/Тхьэпщ) [15, с. 35–38], олицетворяли главную сакральную сущность в верованиях адыгов. Лексические корни Та/Тау/Тӏа составляют основу ряда адыгских антропонимов [14, с. 294]: Тау, Тапщ, Таубэч, Таубикъ, Таушъэ, Тауз, Таукъу, Таучэ, Таучэл, Таучэш, Танэ, Таз, Табыхъу, Табыщ, Танащ, Тамаз, Тӏау, Тӏауш, Тэӏэщ, Тӏэрэш, Тэжэр, Тэбий и многих других. Тамги некоторых из названных родов: Таучэш, Танащ и др. имеют очертания Т-образного символа.
Надпись на средней части сосуда № 1 (рис. 3)
Рис. 3. Вверху – сосуд №1 («с пейзажем»). Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург; внизу – прорисовка пиктограмм тулова сосуда (по Б. В. Фармаковскому) с адыг. названиями образов
Fig. 3. Above is vessel No. 1 ("with landscape") of the State Hermitage Museum. Saint-Petersburg: at the bottom there is a drawing of pictograms of the body of the vessel (according to B.V. Farmakovsky) with adyg. names of images
На рис. 3 приводятся базовые, исходные хатто-адыг. названия пиктограмм и их фрагментов: щиху (тополь), уэр/ор (волна; бурный), ха (арх. орел), тыха (арх. лев), дзэ (зуб), шы (лошадь), псы уэр/псыор (поток; речная волна), гу зэгупэ (бык перед быком). Из них в той же последовательности озвучивается предложение: «ЩIыхь Уэр-Хаты ха дзэ щыпсэуа(р) гузэгу пэ» – «Передовой центр, где проживал почтенный, глава войска Уар-Хатти». Слово щIыхь (или щихъ) – «святой», «почтенный» и др. выводится из созвучного щиху (тополь). Влаголюбивый тополь олицетворяет побег с тополиными признаками (почки, узлы, семена с пухом и др.), исходящий из правого русла реки, потока, изображенного на сосуде [1, с. 64]. Слово уэр/ор (волна; бурный; могучий) может вычленяться вторым слогом из очевидной пиктограммы правого русла реки – пс(ы) уэр (поток), т.к. префиксальный слог этого понятия озвучивает слово псае – «пихта/ель» (куда восходит исток реки), которая изображена вне пределов средней части сосуда – на его горловине (рис. 4); адыг. уарш означает «плеск» [8, с. 334].
Рис. 4. Пиктограмма, изображающая образ ели/пихты на горловине сосуда
Fig. 4. Pictogram depicting the image of spruce/fir on the neck of the vessel
Вторая часть имени – Хаты выводится соединением арх. ха в значении «орел» [2, с. 46] (хетт.: хараш – «орел») и префиксального слога ты от арх. тыха – «лев» (Н. Г. Ловпаче. Майкопская культура (очерки). 2018 г.). Понятие ха дзэ – букв. «глава войска» образуется последовательным соединением ха (второй слог от тыха) и омонима дзэ – «зуб» (оскаленный львом) в значении «войско», где хатто-адыго-абх. ха/ha – «глава», «царь» [5, с. 55], абаз.: хадэ – «старейшина», «глава». Глагольная приставка места щы (где) озвучивается названием лошади – шы (щыды – «осел»). Понятие псэуа(р) – «жил» озвучивается словосочетанием псы уэр – «поток» (второй реки), который очевиден и дублируется соединением префиксальной псы (вода, река), вычлененной из названия водяной птицы псы бзу или утки/нырка псычэт/Iал с уа(р)/уэр (бурный) – показателем прошедшего времени. Пиктограмма этой птицы расположена на участке русла с крутым скатом (рис. 3), что возможно толковать как: «вода/река хлынула» – псы уа; «птица повалилась» – псы бзу уэ, из которых альтернативным способом выводится омоним псэуэ – «жил». Кроме того, выражение псэуар(ы)пIэ – букв. «место, где жил» (фонема «ы» – соединительная) может выводиться из характеризующего этот скат омонимичного понятия – «быстрина», «стремнина» – адыг. псы уарыпIэ; стрелки (шевроны) потоков указывают направление течения рек, а места их разломов – на стремительный и бурный характер. Понятие гузэгу пэ (передовой центр) выводится полным омонимом из очевидного изображения – гу зэгупэ – «бык перед быком».
Очередной вариант интерпретации надписи озвучивается с использованием арх. хатто-адыго-абх. синонима воды/реки – рša – пша (стр. 232) с привлечением иных омонимов, идеограмм и характеристик при повторном прочтении некоторых образов и фрагментов. Арх. слог пша может извлекаться из адыгского названия водяной птицы пшахъоджэд – «кулик», очертания которой также соответствуют образу перевернутой птицы (рис. 5) и обитающей на р. Терек.
Рис. 5. Фрагмент сосуда. Оперение водоплавающей птицы и поверхность русла реки автор выразил одинаковой штриховкой (в «елочку»)
Fig. 5. The fragment of a vessel. The plumage of a waterfowl and the surface of the riverbed were expressed by the author with the same hatching (in a "herringbone")
Надпись может считываться с пиктограммы, изображающей лошадь, с которой начинается «шествие». Повторное прочтение в таком порядке, сливаясь с предыдущим вариантом интерпретации, образует новую фразу: «Щыпщэ уэр цIэлъэпIкъыжь къыхэкIа, щIыхъ Уэр-Хаты хабэдзаса лъэпкъыжь дзэпащха, щыпща, щыпсауа(р) гузэгу пэ» – «Передовой центр, где княжил/правил и жил почтенный/святой предводитель передового войска древнего племени хабадзаса – Уар-Хатти, происходящий из могучего, воинственного, прославленного рода Щыпща/Шыпш». Род/фамилия Щыпща/Шыпш озвучивается соединением шы (конь) и рša – пша (вода/река). Слово уар – уэр/ор (волна/бурный) в переносном смысле означает «могучий, многочисленный, воинственный». Расположенные друг напротив друга однорогие животные в идеографическом плане олицетворяют род, племя, народ, т.е. – лъэпкъ (рис. 6); к этому слову присоединяются в одном ряду форманты цIэ и жь, производные соотв. от цу (бык) и жэм (корова), образуя понятие цIэлъэпкъыжь (прославленный, древний род), где буква «ы» – соединительная.
Рис. 6. Идеографический образ рогатого скота в значениях – «род», «племя», «народ», «порода» и т.п.
Fig. 6. Ideographic image of cattle in the meanings – "genus", "tribe", "people", "breed", etc.
По Г.Ф. Турчанинову форма цу исторически производна от цƏ и «очень рано звук Ə перешел в звук у» [2, с. 75]. Ученый трактует эти пиктограммы аналогичным образом: «мощный (могущественный) род» – цə жə [2, с. 76].
Полный омоним слова къыхэкIа – «побег» (тополя) в тексте означает «происходящий». Сочетание ЩIыхь Уэр-Хаты (святой/почтенный Уар Хатти) выводится ранее упомянутым способом (стр. 238). Фольклорная форма Хату (клинописная – Hatti/Хатти) может выводиться, если арх. название льва рассматривать как tuh (тух), что означало в хатт. языке «бог», «царь», «жертвоприношение». С хаттским tuh (тух) сопоставимо каб. тых, означающее «жертвоприношение», что предполагает и тождественность понятий туха и тыха, в т.ч. и в арх. значении «лев». Заметим, что хатто-адыг. сакральное тыха означает букв. «отец-голова»; «отец зверей». Вероятностный арх. этноним хабадзаса озвучивается соединением лексических единиц – префиксальной ха как продолжение второго слога от тыха (лев) с ба дзэса – букв. «массивный зуб-нож». Примечательно, что ареал крупнейшего в прошлом адыгского субэтноса абадзэ (абадзехов) исторически приходился на сердцевину майкопской культуры, где более всего сконцентрированы ее памятники, согласно карте археологических раскопок (рис. 7). Понятие лъэпкъыжь (древнего племени/народа/породы) озвучивается арх. омонимом «коготастый» (лев), где арх. слово лъэпкъ – «коготь», состоящее из лъэ – «нога», пкъ – «костяк», восстанавливается морфологически по аналогии с каб. словом дзэпкъ (клык), где дзэ – зуб, пкъ – «костяк», которое в свою очередь тоже оказалось утраченным в других адыгских диалектах; конечная жь означает «старый», «древний» и др.
Рис. 7. Памятники майкопской культуры (по Р. М. Мунчаеву)
Fig. 7. Monuments of the Maikop culture (according to R. M. Munchaev)
Автор явно демонстрирует большие, загнутые когти взрослого льва, которые предназначены для захвата, хотя в обычном состоянии и в том, в каком хищник показан на рисунке, они всегда втянуты. (Гепард – единственный вид семейства кошачьих, у которого невтяжные когти). Понятие дзэпащха (военачальник; предводитель авангарда, войска) фонетизируется очевидными фрагментами – дзэ – «зуб» льва (омоним – «войско»), па (передний), щха (голова; верхний); здесь уместны альтернативные понятия: дзэпкъыщха (глава воинского костяка/ касты), выводимое из дзэпкъ (клык; костяк войск) и щха (верхний, глава); дзэпэрыт (предводитель войска), выводимое омонимом из слов: дзэ (зуб; войско) и его местоположения у льва – пэрыт (передний; вожак); дзэпащыт (стоящий впереди войск) выводится из дзэ (зуб; войско), па (передний), щыт (рас-положен, стоит); дзэпхъэбгъу (оскал зубов; широко/далеко распростирающимся войском); дзэпкъышхуэ (клыкастый; великий войсковой костяк/корпус). (В адыгском языке существительное дзэ имеет два омонимичных значения – «зуб» и «войско», что перекликается с сюжетом др.-греческой мифологии об аргонавтах (упоминаемой в исследованиях Г. Ф. Турчанинова), где в царстве Колхиды из зубов дракона, брошенных на распаханную землю, вырастает войско). Понятие щыпща́ (где княжил, властвовал, правил), с ударением на конечную гласную, считывается повторно соединением кратких адыго-хатт. слов – шы (лошадь) и пша (вода/река; правил/княжил); словосочетание щыпсауа́(р) гузэгу пэ (передовой центр, где проживал) выводится ранее изложенным способом (стр. 238). Дополнительное привлечение гидронима Пшыжъ (р. Кубань) в его омонимичном значении – «истинный, великий князь/правитель» – дополняет характеристику вождя по контексту: «…щIыхъ пшыжь Уэр-Хаты…» – «…святой, великий/истинный князь/правитель Уар-Хатти…».
Полисинтетические и агглютинативные особенности абхазо-черкесских языков предполагают соединение взаимосвязанных понятий предложения или словосочетания, соотв., полной или частичной инкорпорацией, в одно объемное слово. Этому способствует и гибкость адыгских слов, исключающих необходимость употребления предлогов. На фрагменте рис. 3 из названий неразделенных компонентов пиктограмм и их связи посредством львиного хвоста может озвучиваться производное словосочетание, также скрепленное интонациями в одно сложное, цельное слово:
«… ЩIыхъУэрХатыхабэдзсалъэпкъыжьдзэпащха …» Перевод (в порядке адыг. слов) – «…Святой Уар-Хаты хабадзаса древнего племени войск предводитель…». Другие примеры сложных слов и инкорпораций: адыг. дзэхозэжэ (мы снова встретились); шызэрыгъэжэгъуэгу (беговая дорожка для лошади); абаз. марагIатшкIарыцIырта (восток; букв. – место, где восходит солнце) и т.п.
Таким образом, упоминаемый в надписи древний царь, которого Г. Ф. Турчанинов трактует, как «Лев Ачбовых» [2, с. 76], в адыгской версии предстает, как Уэр-Хаты из рода Шыпш/Щыпщэ. По имеющимся источникам (данным клинописных текстов с хронологическим пересчетом древнеассирийского царя XXIII в. до н.э. Нарам-Сина), царь хаттского племени Фар Хатти (Var/Уар Hatti – царь Хатти) или Уар-Хату (по адыг. преданиям) организовал поход в Малую Азию, который завершился в 3750 г. до н.э. на Евфрате созданием царства [17, с. 24]. Какими судьбами с этой датой связано почти синхронное появление на Северном Кавказе майкопской культуры с ее многочисленными артефактами, в т.ч. кургана Ошад, схожими с аналогичными памятниками материальной культуры Месопотамии и даже др.-инд. г. Мохенджо-Даро [11, с. 234, 235], следует уточнить. Если эти хронологии находятся в определенной корреляции, то возникают резонные вопросы, связанные с идентификацией неординарной личности вождя, погребенного со столь высокими почестями и беспрецедентной роскошью в кургане с мировым именем. Царь Уар-Хатти мог быть похоронен (или перезахоронен) на земле предков как император, предводитель передового войска, возможно, первой империи доиндоевропейской цивилизации. Культуры Малой Азии и Месопотамии были звеньями одной цепи, связанными с Кавказом и Балкано-Карпатским регионом. Древний Майкоп мог явиться резиденцией Уар-Хатти, ставкой, одновременно, будучи центром Циркумпонтийской металлургической общности и метрополией [18, с. 10] обширной, централизованной империи, включающей и прикаспийские территории. Б. Х. Бгажноков отмечает: «Майкопская культура стала, по словам Е. Н. Черных, «прародительницей» и центром Циркумпонтийской металлургической провинции IV–III тысячелетий до н.э., охватывавшей громадное, населенное множеством племен, пространство вокруг Черного моря» [19, с. 15]. Вместе с тем влияние майкопской культуры распространялось на земли, прилегающие к акватории Каспийского моря, и Среднюю Азию [11, с. 245, 459; 20, с. 59].
В ряду разнообразных монархических, царских регалий предстает великолепная булава, жезл (рис. 8) – «символ власти военачальника» [9, с. 63]. М. В. Горелик считает, что булава «являлась одной из основных инсигний власти, символизируя неразрывность гражданской, военной и сакрально-магической сущностей», и именно «парадные» из них изготавливались из камня – «ритуального материала» [20, c. 57]. Усматривая в булаве маркер социального статуса, исследователь в то же время резюмирует: «Социально-репрезентативный фактор обусловил длительное широкое распространение булавы в обществах с очень высоким уровнем производства металлического оружия, но с низким уровнем социальной стратификации, каковыми были общества Кавказа и Западного Ирана, абсолютное большинство населения которых состояло, видимо, из свободных общинников» [20, с. 60]. Найденные в погребении булава (адыг. прич. форма уар – «ударяющий, бьющий»), большое число оружейных изделий и культовых предметов, а также ряд артефактов, обнаруживающих аналоги в Малой Азии и Месопотамии (возможно, частью привозных, трофейных), могут говорить о том, что в кургане захоронен не рядовой правитель, а вернувшийся на родину верховный представитель воинской касты и жречества, который обрел славу эпохального лидера, исторической личности и народного героя.
Рис. 8. Навершие булавы из драгоценного камня в золотой оправе. IV тыс. Курган Ошад. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
Fig. 8. The pommel of the mace is made of a precious stone in a gold frame. IV. The Oshad mound. The State Hermitage Museum. Saint-Petersburg
Ж. В. Кагазежев замечает: «Само имя полководца, скорее всего, правителя, – Уар-Хату имеет смысловое значение. Слово «уэ» с адыгского означает «удар/ударить». От него происходят и слова, связанные с военной терминологией адыгов: зауэ – война, зауэн – воевать, еуэн – ударить и т.д. Уар или уэр и сейчас используется в значении «множественная/громадная», «тотальная», связанная с энергичным движением большого количества людей либо природной силы. Этимология адыгского «уэр» и праиндоевропейских слов «war» / «wers» – «война» / «конфликт», скорее всего, родственна, и происходят они из одного корня. Исходя из вышесказанного, этимологию антропонима «Уар-Хату» можно трактовать как «военачальник страны Хату/Хатти» [21, с. 176]. Эти выводы согласуются с взглядами и мнением С. Н. Кореневского, которые разделяет и Б. Х. Бгажноков, констатируя, что «по насыщенности предметами охоты и войны майкопские погребения не имеют себе равных на Кавказе. В распоряжении местных племен были типы оружия по эффективности, не уступающие даже оружию воинов государственного периода древнего Египта и Шумера (копья с бронзовыми наконечниками, бронзовые топоры, кинжалы)» [18, с. 19].
По некоторым сведениям, лошади майкопской культуры выводились и использовались, главным образом, уже для верховой езды «выделившейся знати» (Р. М. Мунчаев. 1973, В. Б. Ковалевская. 1977). Это немаловажное обстоятельство свидетельствует о том, что, будучи у истоков доместикации животных, население предмайкопской и особенно майкопской культурной общности продвинулось далеко вперед в развитии отрасли коневодства. В этой связи показательны лексические сопоставления Б. Х. Бгажнокова: «К черкесскому обозначению колесничего – шырыт, букв. «стоящий на коне (на/в колеснице)» восходит, по всей вероятности, название колесницы – chariot, распространенное в десятках современных языков, в том числе индоевропейских. Слово chariot означает «колесница» в английском, французском (char), ирландском, шотландском, голландском, норвежском, грузинском, армянском, азербайджанском, словацком, сунданском, сербском (цхариот), литовском и других языках. Но термин chariot в перечисленных языках не имеет внутренней формы, позволяющей представить, каким образом сформировалось его значение. Между тем состав слова шырыт в черкесском языке вполне очевиден: шы – лошадь, ры – сема (морфема), которая, появляясь в сложном слове между двумя корнями, придает ему орудное значение, и, наконец, т/ты (хаттск. ti) – стоять, находиться. В дополнение к сказанному заметим, что, по всей видимости, касситами и эламитами было воспринято черкесское слово шу – «всадник» [22, с. 20, 21].
Следовательно, хатто-адыг.: шы (конь) и рša – пша (река; княжил), а также образованная ими древняя и современная адыг. фамилия/род Щыпщэ или Шыпш (в возможной интерпретации – князь-коневод, владыка/покровитель лошадей) засвидетельствованы и бытовали за несколько тысячелетий до н.э.
Называя курган и его находки замечательными, академическая наука отмечает, что в целом Северный Кавказ в эпоху бронзы «по темпам развития, безусловно, далеко обогнал другие области материковой Европы» [11, с. 235, 238], что, несомненно, обусловило резкий экономический подъем и развитие территорий, распространявшихся далеко за пределами самого Кавказа [11, с. 245, 246].
Данные о возрасте кургана Ошад предварительны и ориентировочны, поскольку современные методы датирования могут допускать определенные погрешности и отклонения в сотни лет, как и древние летоисчисления.
Надпись на придонной части сосуда № 1 (рис. 9)
Рис. 9. Фрагмент. Прорисовка днища сосуда № 1 (по Е. С. Матвееву) с адыг. названиями образов
Fig. 9. The fragment. Drawing the bottom of vessel No. 1 (according to E.S. Matveev) from adyg. names of images
Надпись на днище сосуда (рис. 9) считывается по ходу «шествия», которое начинается с пиктограммы козла и заканчивается на изображении русла второй реки. Визуальное описание здесь преломляется в контексте, который в части сакрального нарратива гласит: А жэ(р) быгъулъэныкъуиткIэ, тIуащIэ къопс оркIэ, Псытха бза/бзыкIэ, лъапIэщэ ты псалъэуэ, хытI хъуреягъу, псыжапIэ-хэлъэдапIу – «(А) этими текущими по обе стороны быков /по двум боковым сторонам двойным волновым ответвлением/рукавом рек Псытха, нашего святейшего слова, гравирована вокруг двух морей, руслами-устьями рек». Понятие А жэ(р) – «(А) этими текущими/бегущими» озвучивается полным омонимом из слова ажэ (р), где ажэ – «козел; тур» (частица р – показатель причастия и определенного существительного). Понятие быгъулъэныкъуиткIэ – «по обе стороны быков» формируется соединением названий образов: быгъу – «бык», лъэ – «нога» быка, которая упирается в ныкъуиткIэ – «две половины хвоста» (кабана) и может озвучиваться как б(ы)гъулъэныкъуиткIэ – «по двум боковым сторонам». Однако смысл не изменится, если исключить это составное слово, трактуемое с привлечением сочлененной пиктограммы быка из среднего яруса, поскольку оно может заменяться очевидным понятием кIэ тIуащIэ – «двойной хвост» или кIэ тIэу – «двумя хвостами/концами» (кабана). Словосочетание тIуащIэ къопс(ы) оркIэ – «двойным волновым ответвлением, рукавом (рек)» образуется из понятий: тIуащIэ – «двойной, раздвоенный» (хвост кабана); сочленения слога къо, озвученного словом «кабан» и псыор – «речная волна; поток» (уголки в виде волн, указывают направление потока), куда приходится голова кабана, образуя понятия къопс(ы)ор – «волновое ответвление, рукав реки, проток», где ор/уэр – «волна», «бурный» и кIэ – «хвост» львицы, в который упирается пасть кабана, образуя грамматическую форму оркIэ – «волновыми». Альтернативные прочтения – тIуащIэ къо псыоркIэ – «двумя волновыми речными долинами» и кIэ тIэу къуэжкIэ – «двойными концами рукавов рек», где формант ж производен от ижь/жэ – «течение». Выражение Псытха бза/бз(ы)кIэ – «Псытха гравирована», где Псытха – теоним в значении Богиня вод/рек, – образуется сочетанием слов: псы – «вода/река», куда ступает львица – арх. т(ы)хабз, где т(ы)ха – «божество», бз(ы) – «самка» (омоним – «вырезанная»), а в сочленении с кIэ (хвост) – бз(ы)кIэ (гравированная) [7, с. 189]; хвост барана изображен куцым, словно вырезан – бза [8, с. 28]), отхвачен – (бз(ы)кIэ) раскрытой пастью львицы, подобно ножницам. Сочетание лъэпащэ – «распрямленная передняя лапа» (львицы) или лъапIэщэ – «крупная нога» озвучивают понятие лъапIэщэ – «очень дорогим, почитаемым, святым». Сочетание ты/тIы «баран» (хатт.: ti [5, с. 54]), псы (река), лъэ (нога) уа/иуа (впала, провалилась) озвучивает понятие ты псалъэуа – «нашим словом» (очень почитаемым). Поскольку на дне сосуда изображен абстрактный водоем, куда впадают и Кубань, и Терек и вокруг которого разворачивается «процессия», то в равной мере он может расцениваться и как Черное море, и как Каспийское. Соответственно, образуется понятие хытI хъуреягъу – «вокруг двух морей», где безударная, грамматическая форма тI(ы) выводится из омонима тIы (баран), означая в конце слов число два (тI). Очевидно, что животные, и в т.ч. львица, расположены вокруг водоема. Слово псыжапIэ означает «русло», букв. «место, где течет река» – пиктограммы русел рек очевидны. Синонимы псы хэлъэдапIэ (букв. «место, куда вливается, впадает вода/река»), псыпэ (букв. «нос/перед реки) или псы хэхуап1э (букв. «место, куда упала, впала, загнана вода/река»), где хэхуа – «впал; упал; загнан», пIэ – «место», означают «устье, место впадения реки». Баран ногой «угодил в реку» – псым хэлъэда или «загнан» в воду (львицей), «угодив в воду» – псым хэхуа, в месте – пIэ, на которое приходится и указывает копыто передней ноги животного в устье реки. Понятие псыжапIэ-хэлъэдапIу означает в контексте «устьями-руслами рек».
Следует отметить, что если даже водоем рассматривать только как Черное море (по Г. Ф. Турчанинову), тогда адыгские интерпретации могут ограничиваться описаниями пределов Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП).
Религиозная идея красной нитью пролегает в повествовании. При этом солярные мотивы отражаются главным образом на горловине сосуда, а культу Богини вод/рек посвящена преимущественно надпись на днище, что соответствует местоположению этих природных явлений в макромире. Данные дешифровки вместе с ранее изложенными в научной статье «Исследование надписей сосуда № 1 из кургана Ошад майкопской культуры» [1, с. 56–77] являют собой только составную часть полной версии интерпретаций, где просматриваются и анимистические воззрения древних. Резонно замечает М. Г. Куек: «Изображения, представленные на данных сосудах, являются символами, а их содержательная программа обладает многозначностью» [23, с. 287]. В однозначных же трактовках пиктографических образов выстраиваются упрощенные, лаконичные формы, которые легко выводятся даже языковыми средствами одного диалекта. Например, подобные варианты отдельных интерпретаций надписей сосуда гласят: а) на горловине: Мыекъопс ТхъачIэгъ/ТхьэщIагъ абрагъу мыщIэ и хъу и гъукьэ, къыхэкIа лъэпкъыгъу(э), зыщIэблэу шъхьап – «Под богом Тха Майкопса огромная ювелирно-кузнечной (металлургической) выделившейся отрасли, сияющая вершина» [1, с. 74]; б) на тулове: Щыпщэ уэр лъэпкъ къыхэкIа Уэр-Хаты ха – «Царь Уар Хатти происходит из могучего рода Щыпща/Шыпш», где ха (ha) – хатт. «царь»; в поэтическом исполнении: ЩIыхьу Уэр-Хаты ха – Щыпщэ уэр цIэлъэпIкъыжь – «Щыпщэ рода мощного – Уар Хатти святейший царь» или ЩIыхь уэр хатыха щыпсэуа(р) гузэгу пэ – «Передовой центр, где проживали почтенные, могучие/многочисленные хатты» [1, с. 63]; в) на днище: Ажэкъо КIэтIау урыбзыкIэты – «Ажако Кятау отгравировал» [1, с. 69]. Можно было бы ограничиться этими однозначными трактовками. Однако одни и те же образы и выводимые из них слова и понятия могут считываться на равных началах и по-разному, что обусловило разнообразие семантически взаимосвязанных интерпретаций. Так, например, словосочетание уэр хаты ха может переводиться как «Уар-Хатти царь» (стр. 238), так и «Могучие хатты» [1, с. 63]; уэр/уа(р) означает «бурный», «обильный» или озвучивает хатто-адыг. суффикс [24, с. 111] – показатель глаголов прошедшего времени (стр. 238); обособленное взаиморасположение быков может расцениваться в идеографическом плане как род/племя (лъэпкъ) или озвучивать понятие «передовой центр» (гузэгу пэ) и др.; омонимами передается слово тхыцIэ: «спина», «хребет», «писаное имя» и др. [1, с. 75]; синонимы воды пша/пса/псы (стр. 232, 238) в сочетаниях также образуют различные слова и понятия и т.п.
Очевидно, что для передачи объемной информации древний автор прибегает к разным приемам. Иные сообщения прочитываются, если детально вникать в искусственно привнесенные им иррациональные образы и элементы. Для этого изображены не только кабан с раздвоенным хвостом, лев с выпущенными когтями (вне атаки) и птица в перевернутом положении, но и показан медведь с огромной головой как у осла/лошади, мордой собаки, задней частью и хвостом как у онагра/осла; в нижнюю боковую почку побега сегментом вписан нож, типичный для майкопской культуры [1, с. 64], и т.п. Из них выводятся, комбинируются и считываются новые слова, образующие очередные сведения.
Возможности и умение столь оригинальными для своей эпохи способами передать весьма содержательную и разветвленную информацию, на первый взгляд, предстают загадочными, а манера письма – сумбурной, так же, как древние могли воспринимать головоломкой современное алфавитное письмо.
Глоттохронологический анализ основных адыгских слов и их корней в данном исследовании обнаруживает параллели в ряде утраченных языков древности, которые восходят по крайней мере к IV–II тыс. до н.э.: тха (бог), псы/пша (вода), нэху/нэфы (свет), пина/пына (загорелся), на (глаз), уар (обильный, мощный и др.), бэ (масса и др.), щха/ха (голова), гуу/быгъу (бык), па (нос; передний), шы (лошадь), ажэ (козел, тур), ты/тIы (баран) и др. Подобные лексические соответствия возводят кавказские языки к глубокой древности и подтверждают выводы ученых о том, что «основной фонд» адыго-абхазских языков (за редкими архаизмами) не изменился с эпохи бронзы [25, с. 196].
Выводы
- В изготовлении и оформлении сосудов кургана Ошад и их надписей принимали участие первоклассные мастера и высокопрофессиональные специалисты майкопской культуры. Формируя сообщения на основе пиктографии, они привлекали разнодиалектную лексику мегаполиса Мыекъопс (вероятно, наидревнейшего из известных топонимов), куда разными волнами стекались со всех сторон этнические группы, сосуществуя и консолидируясь с родственным местным населением. Отдельные разнодиалектные хатто-адыг. слова соседствуют и в хеттском лексиконе, например, аnna (мать), соответствующая восточно-адыг. и аtta, tat (отец) – западно-адыг. диалектам. При этом очевидно, что древние авторы стремились привлекать общеупотребительные, диалектные слова, воздерживаясь от использования эндемической лексики, свойственной только той или иной географической местности.
- Исследуемое письмо носит сложный, нерасчлененный характер; пребывая в синкретической форме, оно не является ни чисто пиктографическим, когда рисунки означают только то, что на них изображено, ни чисто слоговым и алфавитным, где слоги и буквы уже выделены и состоялись в качестве словообразующих элементов. Функционируя на ранних стадиях эволюции письменности, оно приходится, с другой стороны, на позднюю стадию пиктографии и являет собой, очевидно, промежуточное, переходное письмо с фонетическими зачатками и предпосылками в роли предтечи идеографического (включая иероглифику с фигурными знаками), слогового и алфавитного письма, рассматриваемых (в современной классификации) как последовательно сменяющиеся этапы.
- Развернутые, полные тексты в надписях сосуда образуются соединением или фузией (слиянием) альтернативных, семантически и логически взаимосвязанных вариантов прочтений, дополняющих друг друга.
- В религиозном мировоззрении представителей майкопской культуры усматриваются признаки монолатрического политеизма, основанного на почитании различных божеств, при главенствующем одном. В разные эпохи или в одну, но в разных частях Ойкумены его олицетворяло приоритетное божество – двуединое, матриархальное или небесное, в апофеозе которого на этапе солнцепоклонничества в рассматриваемую эпоху предстает солнечное светило.
- Согласно дешифровкам надписи сосуда № 1 в кургане Ошад, с богатым арсеналом погребального инвентаря и с символами монархической и жреческой власти, был захоронен святой Уар-Хатти/Хату из рода Шыпш/Щыпщэ – первый и, возможно, единственный император-солнцепоклонник доиндоевропейской цивилизации, на периферии которой формировались подвластные ей ранние индоевропейские, семитские и др. племена. Был ли это царь, которого называют вышеупомянутые клинописные тексты и народные предания, или его последователь с таким же именем, прояснят точные и окончательные датировки. При этом надо отметить, что древние титулы и имена монархов часто наследовались преемниками: Саргон I, Саргон II; Хетти I, Хети II, Хети III и др.; Хаттусили I, Хаттусили II, Хаттусили III; Рамсес I, Рамсес II и т.п.
В современном адыгском обществе весьма распространены фамилии на «уар» и «шы»: Уарэзей, Уардэщауэ, Уардокъуэ, Уардым, Уарзэлы, Уаршыкъуэ, Уаркъ, Уаршэкудыгъу, Уарсей, Уартэн, Уарыш, Уарщо и др.; Шыгъэлыгъуэ, Шыгун, Шыгъуэстэн, Шыгъур, Шыгъус, Шыгъушэ, Шыгъушх, Шыд, Шыдакъ, Шыдыгъу, Шыкуэ, Шыпш/Щыпщэ, Шымэзокъуэ, Шыкӏэбахъуэ, Шытӏу, Шыу и др.
Сокровища кургана Ошад и содержание надписей его сосудов, сопровождающие вождя-гегемона и его приближенных, отражают основной жизнеутверждающий и созидательный концепт бытия хатто-хурритского сообщества. На фоне этих реалий приходит осознание той истины, что приверженцы архаичных верований не только способствовали сохранению человечества как ветви в условиях агрессивной среды обитания прошлого, но и заложили фундаментальные основы для его материального и духовного развития в будущем.
About the authors
Anzor K. Vorokov
Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: legatto777@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0001-9087-5665
SPIN-code: 5021-3219
Junior Researcher of the laboratory "Digital paleography" of the scientific and innovative center "Natural scientific methods in archeology, anthropology and archeography"
Russian Federation, 360010, Nalchik, 2 Balkarov streetReferences
- Vorokov A.K. The study of inscriptions in vessel No. 1 from the Oshad mound of the Maikop culture. Symbol of science: international scientific journal. Vol. 2. No. 12-1, 2023. Pp. 56–77. EDN: JHXZHC. (In Russian)
- Turchaninov G.F. Otkrytie i deshifrovka drevneishey pis'mennosti Kavkaza [The discovery and deciphering of the oldest written language of the Caucasus]. Moscow, 1999. 263 p. (In Russian)
- Bubenok O.B. The ancient Caucasian (Adyghe) substrate in the northern Black Sea region. Arheologiya i etnologiya Severnogo Kavkaza [Archeology and Ethnology of the North Caucasus]. No. 7. Nalchik: KBGIGI, 2017. Pp. 7–33. (In Russian)
- Dzuganova R.Kh. Toponymic terms in the Adyghe Nart epic. Vestnik Kabardino-Balkarskogo instituta gumanitarnyh issledovaniy [Bulletin of the Kabardino-Balkarian Institute for Humanitarian Research]. 2019. No. 1(40). Pp. 44–51. doi: 10.31007/2306-5826-2019-1-40-44-51. (In Russian)
- Tikhonova A.P. A multidimensional study of Khatt texts. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie [Bulletin of Adygea State University. Series 2: philology and art history]. 2021. No. 4(287). Pp. 50–57. doi: 10.53598/2410-3489-2021-4-287-50-57. (In Russian)
- Kokov Dzh.N. Adygskaya (cherkesskaya) toponimiya [Adyghe (Circassian) toponymy]. Nalchik: Elbrus, 1974. 316 p. (In Russian)
- Bol'shoy russko-kabardino-cherkesskiy slovar' [The Great Russian-Kabardino-Circassian dictionary]. B.Ch. Bizhoev, Kh.Ch. Zheletezhev, D.M. Kumykova, Kh.T. Timizhev. Nalchik. The frigate. 2021. 792 p. (In Russian)
- Shaov J.A., Meretukov K.Kh., Vodozhdokov Kh.D. et al. Adygeisko-russkiy slovar' [The Adyghe-Russian dictionary]. Adygeisk Research Institute. Maykop. 1975. 440 р. (In Russian)
- Ozhegov S.I., Shvedova N.Y. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moscow: ed. The ABC book. 1997. 944 p. (In Russian)
- Kumakhov M.A. To the etymology of the name of the main hero of thе Adyghe and Abkhazian epos. Skazaniya o nartah – epos narodov Kavkaza [Tales of narts – the epic of the peoples of thе Caucasus]. Moscow: Nauka, 1969. 551 p. (In Russian)
- Vsemirnaya istoriya [World history]. Moscow: Gospolitizdat, 1955. Vol. 1. 746 p. (In Russian)
- Istrin V.A. Razvitie pis'ma [The development of writing]. Moscow: Publishing House of thе Academy of Sciences, USSR, 1961. 395 p. (In Russian)
- Meretukov K.Kh. Adygeiskiy toponimicheskiy slovar' [The Adyghe toponymic dictionary]. Maikop: Quality, 2003. 424 p. (In Russian)
- Vorokov A.K. Fenomen Tha [The phenomenon Of Tha]. Nalchik: Print Center, 2020. 388 p. (In Russian)
- Kagazezhev Zh.V. Tau-symbol in the Adyghe traditional religion. Vestnik Vladikavkazskogo nauchnogo centra [Bulletin of the Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. Vol. 22. No. 1. 2022. Pp. 35–38. doi: 10.46698/VNC.2022.88.53.001. (In Russian)
- Bishio B.C. Adygabzem and psalegenahue. Nalshik: Elbrus, 2015. 376 р. (In Kabardin)
- Lovpache N.G. Mirovozzrenie drevnih atyhov, hattov. Mir kul'tury adygov [The worldview of the ancient Athykhs, Hutts. The world of culture of the Adygs]. Compiled and edited by R.A. Hanakhu. Maykop: Adygea, 2002. Pp. 23–34. (In Russian)
- Bgazhnokov B.Kh. Key issues of the ancient history of the Adygs. V kn.: Ocherki drevney i srednevekovoy istorii adygov [In book: Essays on the ancient and medieval history of the Adygs]. Nalchik: KBIGI, 2016. Pp. 7–19. (In Russian)
- Bgazhnokov B.Kh. On the question of the achievements of the Maikop culture. Sbornik nauchnyh trudov «Arheologiya i etnologiya Severnogo Kavkaza» [Collection of scientific papers “Archeology and Ethnology of the North Caucasus”]. Nalchik: Editorial and Publishing Department of KBIGI, 2019. Pp. 7–24. (In Russian)
- Gorelik M.V. Oruzhie drevnego Vostoka (IV tysyacheletie – IV v. do n.e.) [Weapons of the ancient East (IV millennium – IV centurу BC)]. Moscow: Oriental Literature, 1993. 352 p. (In Russian)
- Kagazezhev Zh.V. The problem of the origin of the endoethnonym "adyge". News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of RAS. 2021. No. 6(104). Pp. 174–184. DOI: 10.35330/ 1991-6639-2021-6-104-174-184. (In Russian)
- Bgazhnokov B.Kh. Kassito-hatto-kaskeyskie historic-cultural and lexical connections and parallels. Vestnik Kabardino-Balkarskogo instituta gumanitarnyh issledovaniy [Bulletin of the Kabardino-Balkarian Institute for Humanitarian Research]. Nalchik. 2019. No. 3(42). Pp. 15–22. doi: 10.31007/2306-5826-2019-3-42-15-22. (In Russian)
- Kuek M.G. The artistic metal of the Maikop culture from the Oshad mound. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie [Bulletin of Adygea State University. Series 2: philology and art history]. 2014. Pp. 284–289. EDN: SZZTEN. (In Russian)
- Tikhonova A.P. Tenses and moods in the Khatt and Abkhaz-Adyghe languages. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie [Bulletin of Adygea State University. Series 2: philology and art history]. 2017. No. 1(192). Pp. 108–114. EDN: YPCHCJ. (In Russian)
- Lavrov L.I. On the origin of the peoples of the North-Western Caucasus. Collection of articles on the history of Kabarda. Nalchik: Kabpoligraphizdat, 1954. No. III. Pp. 193–207. (In Russian)
Supplementary files