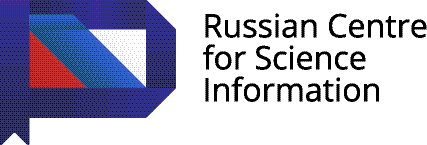Literary ‘Daguerreotypes’ of the Maikov family: the story ‘Evil Illness’ by Ivan Goncharov and a friendly caricature ‘So they rented a dacha!’ by Vladimir Solonitsyn
- Authors: Pavlovich K.K.1
-
Affiliations:
- Tomsk State University
- Issue: Vol 16, No 2 (2024)
- Pages: 99-109
- Section: Literature in the Cultural Context
- URL: https://journal-vniispk.ru/2073-6681/article/view/286231
- DOI: https://doi.org/10.17072/2073-6681-2024-2-99-109
- ID: 286231
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the study of two parody literary texts – Evil Illness by Ivan Goncharov and So They Rented a Dacha! by Vladimir Solonitsyn. Both texts relate to the creation of the image of the Maikov family and its members. Both Goncharov and Solonitsyn were closely connected with a family where advanced aesthetic problems of the transitional period of the 1840s, these reflecting the struggle between romanticism and realism, were discussed and embodied in works of art and literature. The friendly parodies by Goncharov and Solonitsyn are united by focus on the romantic worldview of the heroes, the prototypes of which were the members of the Maikov family (Ekaterina Maikova, Nikolai Maikov, etc.). In his first story, Goncharov addressed the main aesthetic conflict of the era using the aesthetics of the Flemish school of painting, since ‘Flemishism’, along with the traditions of High Italian painting, embodies the essence of Goncharov’s aesthetic category zhivopisaniye (which can be translated as depiction, vivid depiction). Goncharov’s ‘Flemishism’ as his style feature manifested itself already at the beginning of his literary path (Evil Illness) in the form of extreme penchant for details, attention to the beauty of everyday life, humorous elements in the description of everyday scenes. Sketches of everyday life in Goncharov’s first story are consonant with the theme of the painting by Adriaen van Ostade Tavern Scene. In addition to the parodic, ironic content, Goncharov’s story is associated with the synthesis of the ‘sophisticated’ and the ‘everyday’, and not a one-sided manifestation of life in art. In this regard, Flemish painters were extremely important for the novice writer Goncharov, who later became close to the ‘natural school’ of Vissarion Belinsky that proclaimed depiction of ‘the beautiful in the ordinary’ to be the main task of Russian literature.
Keywords
Full Text
В личности Солоницына и в его писаниях выражается умственный и нравственный склад известного поколения, и с этой точки зрения знакомство с ним может представить небесполезные данные для истории нашего общества и его умственных движений [Mazon 1914: 423].
Л. Н. Майков
Литературный дом Майковых как культурный факт 1840-х гг. XIX в. в творчестве его постоянных участников стал объектом творческой рефлексии. В 1838 г. И. А. Гончаров пишет повесть «Лихая болесть», а его близкий друг В. А. Солоницын создает пародийный текст на семью Майковых «Так они наняли дачу!» (1839).
Первое атрибутированное прозаическое произведение И. А. Гончарова «Лихая болесть» (1838), опубликованное Б. М. Энгельгардтом в 1936 г. по тексту «Подснежника» за 1838 г., явилось не только дружеским шаржем на семью Майковых, но и острой пародией на романтизм как мироощущение, как способ изображения действительности. Первым художественным текстом (исключая лирический опыт) Гончаров сразу же включился в острую эстетическую полемику, развернувшуюся в эти годы. В последующем творчестве – во всех трех романах – Гончаров неизменно обращается к проблемам романтизма, и его позиция отличается глубокой диалектичностью. Размышляя над процессами духовного развития современного русского общества на протяжении почти полувека, писатель наделяет главных героев своих романов - Адуева, Обломова, Райского – романтическими чертами. Объективная и художественная характеристика героев романтического типа давала возможность показать общественный и нравственный анахронизм романтического понимания жизни, вступавшего в противоречия с требованиями реальной жизни, и в то же время акцентировать важность и потребность идеалов и гармонии в человеческой жизни, утверждать гуманистический пафос, в высшей степени свойственный романтическому искусству. Именно поэтому принцип синтеза, идеализированного реализма, а не одностороннего, крайнего романтизма, оказался для Гончарова органичным, приемлемым для современной ему литературы.
В. А. Солоницын (1804–1844) – человек широкой эрудиции, первый переводчик творчества Ч. Диккенса в России, соредактор О. И. Сенковского в «Библиотеке для чтения», по словам А. Г. Гродецкой, был «центральной фигурой майковского кружка в первые годы его существования» [Гродецкая 1994: 55]. Именно он познакомил семейство с Гончаровым и был оппонентом Евгении Петровны на поприще ее романтических воззрений, которые обретали фактическое выражение на страницах ее многочисленных трудов, изданных в собственных «домашних» изданиях (журнал «Подснежник» и альманах «Лунные ночи»). Несмотря на «домашнюю» предназначенность журнала, его содержание как нельзя лучше отражало эстетические противоречия, развернувшиеся в русской словесности того времени. На это указывает то, что участники кружка имели разные точки зрения относительно путей развития литературы и эстетических доминант, которые должны в ней преобладать. Так, В. А. Солоницын и И. А. Гончаров (после публикаций своих романтических стихотворений) занимали сторону антиромантическую, в отличие от Е. П. Майковой и ее детей А. Н. Майкова и В. Н. Майкова, которые впоследствии отошли от романтических традиций (В. Н. Майков) или же пошли гончаровским путем – синтезируя обе эти крайности (А. Н. Майков) [Павлович 2017].
В статье «Труд был всегда его страстью (Л. Н. Майков о В. А. Солоницыне). Неизвестные страницы воспоминаний» А. Г. Гродецкая (см. подробнее: [Гродецкая 2017]) публикует фрагмент биографии Солоницына, которую в свое время начал писать Л. Н. Майков, так и не завершив по непонятным причинам свой труд.
Младший сын «фамилии талантов», Леонид Николаевич, указывает на исключительную роль Солоницына в их доме, близость отцу-художнику. По его свидетельству, «Солоницын принимал живое и горячее участие во всех этих событиях нашей семейной жизни. Он любил и уважал моих родителей как людей редких по своим нравственным достоинствам. Он ценил талант моего отца, <…> в так называемых практических делах В. А. являлся для моего отца добрым и разумным советником <...>» [Гродецкая 2017].
Солоницын был редактором главного «детища Майковых» – «Подснежника» и «Лунных ночей» – на протяжении всего их существования. В этой связи важным оказывается оценка Майковым Солоницына как «литературного человека»1: «Образование его имеет характер гуманистический – не в смысле исключительного пристрастия к древним литературам, а потому, что интересовала его в особенности история и изящная словесность» [там же]. «Начитанность его была обширная; он любил читать, с толком и внимательно; все, что он знал, отчетливо запечатлевалось в его уме» [там же], – писал Леонид Николаевич. Гончаров (в 1838 г.) и Солоницын (в 1839 г.) публикуют тексты, посвященные главной эстетической проблеме того времени – мечтательности как пагубной страсти.
Главная художественная идея гончаровского и солоницынского текстов сводилась к острой пародии на романтическое странствие, мечтательность и экзальтированность, на те особенности характера, которые они замечали у отдельных членов семьи Майковых (Евгения Петровна и ее сын Аполлон) и которыми были наделены многие их современники.
Оба текста начинаются с предисловий, которые связаны с проблемой повествователя и повествования. Гончаров в духе высокой патетики обращается к «милостивым государям» с вопросом о «странной болезни», которая проявлялась у людей в виде «какого-то непостижимого стремления идти на гору св. Михаила (кажется, в Нормандии)» [Гончаров 1997, т. 1: 25]2, любезно предоставляя возможность читателю узнать «…о тех особах, которые имели несчастие испытать его» (недуг – К. П.). Он, обращаясь к важному случаю человечества, широкой проблеме «эпидемии», мыслит философскими категориями, пишет об общей, европейской напасти («которою некогда были одержимы дети в Германии и Франции!» (Т. 1: 25)). Гончаров как автор текста, в свойственной ему эпической манере, изображает топонимический масштаб бедствия, в отличие от объективного повествователя Солоницына, ракурс которого сужен описаниями одного конкретного объекта.
В тексте Солоницына повествователь начинает с предисловия, упрекая «господ сочинителей» в том, что они «делают большую ошибку, когда начинают рассказ прямо описанием действия, не предупредив читателя, где оно происходит и что за люди действующие лица. Подобное начало обличает в авторе отсутствие всякой аккуратности. Чтобы не подвергнуться такому упреку, мы начнем свою повесть очертанием места и лиц». Затем «аккуратный» автор описывает «небольшом деревянный дом – <…> где-то за Лиговкой, на самом пороге Петербурга» [Гродецкая 2021: 329]3.
Оба автора связывают описываемые события с наступлением весны. Различие в создании этого художественного образа видится в том, что в тексте «Лихая болесть» отражена одна из главных особенностей эстетики как раннего, так и позднего Гончарова – юмористические детали при создании повседневных пейзажных картин. Например, описываемая временная организация текста Гончарова связана с изображением весеннего месяца – апреля, в период которого, как замечает повествователь, «… день, <…> уходя, сделал такую плачевную гримасу, что Нева от смеху треснула и полилась через край, а суровая земля улыбнулась сквозь снег. <…> Вот и петербургские жители заметили весну» (Т. 1: 30). Особые юмористические акценты, связанные с художественной манерой Гончарова, резко отличаются от объективной манеры повествователя «Так они наняли дачу!»: «…на пригорках показывались уже черные пятна от обтаявшего снега; в воздухе разливалась приятная теплота и пахло весною» (342).
Автор «Лихой болести» признается в особой привязанности к семье Зуровых (Майковых), у которых он «проводил почти все зимние вечера», исполненные разговорами об искусстве: «танцы, музыка, а чаще всего чтение, разговоры о литературе и искусствах поглощали зимние вечера» (Т. 1: 28).
Портрет главного объекта художественной пародии – Е. П. Майковой – находим на самых первых страницах повестей: «С каким удовольствием вспоминаю я эту густую толпу друзей, осаждавшую большой круглый стол, перед которым на турецком диване сиживала Мария Александровна, добрая хозяйка, и разливала чай» (Т. 1: 27).
«В этой комнате, на диване, обложась девятью подушками и спрятав под себя одну ножку, сидела дама в чепце, который она сама сделала в то же утро. Перед нею на столике было складное зеркало, подле зеркала какие-то исписанные бумаги, а на бумагах чернильница с загустелыми чернилами и выпачканными перьями. Картина дополнялась полдюжиной начатых книг и неконченных рукоделий, раскиданных в живописной небрежности около упомянутой дамы. – Эта дама Надежда Федоровна, хозяйка дома» (329). В этих отрывках Мария Александровна и Надежда Федоровна изображены в домашней обстановке. У двух авторов при описании хозяек дома встречается важная для художественной эстетики Гончарова деталь – диван, символ домашнего уюта, мечтательности, которой придавался Обломов, лежа на нем в квартире на Гороховой улице. Солоницын, в отличие от Гончарова, точнее воссоздает главную черту личности Майковой – страсть к сочинительству. Именно поэтому перед Надеждой Федоровной оказываются писательские атрибуты («какие-то исписанные бумаги, а на бумагах чернильница с загустелыми чернилами и выпачканными перьями» (329)).
Евгения Петровна была матерью четверых сыновей: Аполлона (1821–1897), Валериана (1823–1847), Владимира (1826–1885), Леонида (1839–1900), трудившихся впоследствии во благо отечественной словесности. Гончаров в своей повести создает только два детских образа – младшего Володи (Владимира Майкова, так как Леонид родился только в апреле 1839 г.), которого часто подзывала к себе «восьмидесятилетняя бабушка, разбитая параличом, сидя поодаль в укромном уголке на вольтеровских креслах, с любовию обращала тусклый взор на свое потомство, и соленая слеза мирного счастия мутила глаза ее, и без того расположенные к слепоте (Т. 1: 27)4» (Наталья Ивановна Серебрякова (1768–1832), мать Николая Аполлоновича) и старшего (Аполлона), который «возмужал, вступил в университет и начал прислушиваться к шороху женского платья…» (Т. 1: 29).
В тексте Солоницына, в изображаемой им семье, было трое детей, сидевших рядом с Надеждой Федоровной «на креслах и стульях различного вида, устройства и величины, <…> от семнадцати до двенадцатилетнего возраста, каждый с книжкой в руках. Это хозяйские дети – Леонид, Валентин, Всеволод» (330). (Примечательно, что имя младшего сына Майковых Леонида, родившегося в один год с изданием в «Подснежнике» этой повести, сохранено, а вот два других имени изменены, хотя оба они начинаются на ту же букву, что и имена майковских детей (у Солоницына в тексте Валентин и Всеволод, у Майковых – Валериан и Владимир.)
Художественной копией Н. А. Майкова становится гончаровский герой Алексей Петрович, который, как и его прототип, отличался отрешенностью от бытовых дел семьи и был постоянно погружен в свои творческие думы – «Алексей Петрович ходил обыкновенно с сигарою и чашкою холодного чая вдоль по комнате, по временам останавливался, вмешивался в разговор и опять ходил» (Т. 1: 27). В шарже «Так они…» образ главы семейства словно списан с художника Майкова. В его описаниях очевидны аллюзии на его артистическую натуру и внешний вид – «От времени до времени в комнате являлся и исчезал человек в замасленном архалухе, без галстуха и с небритою бородою. Он, по-видимому, не обращал большого внимания на то, что вокруг него делалось; войдя в комнату, он равнодушно останавливался перед сидящими или сам садился верхом на стул и через несколько секунд опять уходил…» (330). На эти особенности главы «фамилии талантов» в свое время указывала сама Майкова: «Он точно артист в душе; кажется, весь мир, всю Вселенную забывает…» [ИРЛИ: 23]. Одной из главных страстей в жизни художника-самоучки, кроме живописи, была рыбалка. Именно рыбалкой был одержим гончаровский Алексей Петрович, который в пути, в «странствиях» со своей «зараженной» семьей не упускал момента заняться любимым досугом5. Рассказчик в повести узнает, «…что они ушли еще верст за семь, на какое-то озеро, удить рыбу и избрали для того болотистую дорогу, а по проезжей не пошли» (Т. 1: 47). Так и «Павел Иванович осадил старика подробнейшими расспросами о родах рыбы, которая водится в море и в окрестных речках, о том, как ее ловят, и прочее» (346).
В двух художественных текстах – Гончарова и Солоницына, кроме пародии на романтические проявления, есть также элементы автопародии. Исследователи неоднократно указывали на то, что повесть «Лихая болесть» является антиромантической и в основе своей связана с пародийным пафосом [Энгельгардт 1936; Сомов 1967; Гончаров 1980]. Некоторые даже отмечали автопародию6, проявляющуюся в изображении Гончаровым образа Тяжеленко7, явного литературного предшественника Обломова. Тяжеленко, как и Илья Ильич, обрюзг телом, малоподвижен и ленив, его существование определяется покоем и поглощением еды. Тема «обломовщины» появляется в самом начале книги путевых очерков Гончарова «Фрегат «Паллада», изданной в 1858 г., ровно за год до публикации «Обломова». В ней автор-повествователь (Гончаров-путешественник) признается читателю в собственной лени, которая определила качества его характера: «Что делать! Видно, мне на роду написано быть самому ленивым и заражать ленью всё, что приходит в соприкосновение со мною. Лень разлита, кажется, в атмосфере, и события приостанавливаются над моею головой. Помните, как лениво уезжал я из Петербурга, и только с четвертою попыткой удалось мне «отвалить из отечества» [Гончаров 1997, т. 2: 54]8. Чуть позже Гончаров напишет, дав оценку русской «обломовщине» как одному из главных черт национального характера: «Нам, русским, делают упрек в лени, и недаром. Сознаемся сами, без помощи иностранцев, что мы тяжелы на подъем» (Т. 2: 19). В его раннем тексте «Лихая болесть» герой Тяжеленко именно таков, сродни ему оказывается и главный художественный выразитель «философии покоя» – И. И. Обломов (таблица).
Повествователь гончаровского текста не принимает мировосприятие «сонного» Тяжеленко, его заботит статическая составляющая его жизни. Автор не дает надежды на «пробуждение» героя: «…барину “пришло дурно”; глаза подкатились под лоб, а сам весь посинел. Я бросился к нему и действительно нашел Никона Устиновича в отчаянном положении; он не мог произнести ни слова, а только глухо стонал; после четырех кровопусканий я успел привести его в чувства, но…» (Т. 1: 63), поэтому он умирает, как и Обломов. Очевидно, что для повествователя «лежащий» герой также «болен», как и семейство Зуровых, миссию по спасению которых он и берет на себя.
Сравнение образов Н. У. Тяжеленко и И. И. Обломова
Comparison of the characters Tyazhelenko and Oblomov
Критерии сравнения | Никон Устинович Тяжеленко | И. И. Обломов |
Портрет | «…у него величественно холмилось и процветало нарочито большое брюхо; вообще всё тело падало складками, как у носорога, и образовывало род какой-то натуральной одежды» (Т. 1: 128) | «Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины» [Гончаров 1998, т. 4: 89] |
Лень | «Этот славился с юных лет беспримерною методическою ленью и геройским равнодушием к суете мирской. Он проводил бoльшую часть жизни лежа на постели; если же присаживался иногда, то только к обеденному столу; для завтрака и ужина, по его мнению, этого делать не стоило. Он, как я сказал, редко выходил из дому и лежачею жизнью приобрел все атрибуты ленивца» (Т. 1: 128) | «Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга, но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте» (Т. 4: 4) |
Мотив еды | «Через пять минут человек с трудом дотащил к столу то, что Никон Устинович скромно называл “мой завтрак” и что четверо смело могли бы назвать своим. Часть ростбифа едва умещалась на тарелке; края подноса были унизаны яйцами; далее чашка или, по-моему, чаша шоколада дымилась, как пароход; наконец, бутылка портеру, подобно башне, господствовала над прочим»; «Однако, не шутя, – продолжал я, – не пойдешь ли ты со мной обедать к Зуровым? – И! что ты! в уме ли? – сказал он и махнул рукой. – Лучше останься со мною: у меня будет славный окорок, осетрина, сибирские пельмени, сосиски, пудинг, индейка и чудесная дрочена»; «– Погоди, дай… поесть. – И он тихо, медленно, как корова, жевал мясо. Наконец исчез последний кусочек; всё было съедено и выпито…» (Т. 1: 33) | «Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживанье за нею! Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами, гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтоб они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!» (Т. 4: 110) |
Образ жизни | «В ту минуту, когда я зашел к нему, он замышлял о перевороте на левый бок» (Т. 1: 33); «Вдруг лицо Тяжеленки оживилось; он сделал над собой страшное усилие и – привстал…» (Т. 1: 33); «Помилуй, Никон Устиныч! да это – недуг только в твоих глазах. Ты сам одержим гораздо опаснейшею болезнию: целый век лежишь на одном месте. Эта крайность скорее доведет до гибели» (Т. 1: 35) | «...будете все лежать, есть жирное и тяжелое – вы умрете ударом…» (Т. 4: 83) |
Смерть | «Это случилось с ним, – пишет доктор, – с пятнадцатого на шестнадцатое марта, ночью. Волобоенко в страхе прибежал ко мне с известием, что его барину “пришло дурно”; глаза подкатились под лоб, а сам весь посинел. Другой поплексический удар, последовавший вскоре за первым, лишил его жизни…» (Т. 1: С. 63) | «Илья Ильич скончался, по‑видимому, без боли, без мучений, как будто остановились часы, которые забыли завести. Никто не видал последних его минут, не слыхал предсмертного стона. Апоплексический удар повторился еще раз, спустя год…» (Т. 4: 486) |
В тексте Солоницына использован этот же прием художественного обобщения – автопародия на собственную личность, а точнее, на ее место и роль в майковском доме. «Это Лука Тихонович, приятель семейства, – пишет Солоницын, давая ему следующую портретную характеристику: «тут было еще одно лицо, человек с наморщенным лбом, с сигарой во рту, в широком и длинном байковом сюртуке с огромными костяными пуговицами. Он сидел важно, раздувшись, как будто готовился произнести приговор над вселенною» (330). Деятельность Солоницына в литературном доме Майковых была связана с активной работой над домашним журналом и альманахом, его рациональность, «задумчивость» была спародирована и Гончаровым в «Лихой болести» – «Иван Степанович Вереницын, статский советник не у дел, искренний друг Зуровых с самого детства. Он был обыкновенно задумчив и угрюм, редко принимал участие в общем разговоре, сидел всегда поодаль от прочих или молча ходил взад и вперед по комнате» (Т. 1: 31). Гончаров нарочито дает герою фамилию Вереницын, словно рифмующуюся с «Солоницын»9, а уже в первом романе «Обыкновенная история» в образе дяди Петра Ивановича Адуева воплощает многие черты личности и эстетической позиции своего ближайшего друга и соратника по майковскому кружку В. А. Солоницына, отличающегося сдержанностью10, рациональностью11 и отсутствием эмоциональности: «Бледное, бесстрастное лицо показывало, что в этом человеке немного разгула страстям под деспотическим правлением ума, что сердце у него бьется или не бьется по приговору головы» (Т. 1: 351), – пишет Гончаров.
Рассматриваемые повести отражают одну из сторон эстетического конфликта той поры – романтическое восприятие мира, воссоздание действительности по идеалистическим канонам. Гончаров, как один из питомцев «майковского гнезда», а впоследствии большой писатель, испытавший на себе влияние идей В. Г. Белинского и, соответственно, «натуральной школы», не был одинок в доме Майковых в отказе от романтической экзальтации в жизни и литературе, в этом его поддерживал В. А. Солоницын.
Героев двух повестей (Гончарова и Солоницына) сближает «задумчивость», они относятся к стерновским «чувствительным путешественникам», восхищенность которых так тщательно пародирует Гончаров. Рассказчик спрашивает у семейства об их непонятном стремлении к «странствиям»: «Я не понимаю, как не наскучит быть слишком часто за городом: что там делать?». На что сразу получает ответ: «Возможно ли! – закричали все хором, – что делать за городом! – И начали» (Т. 1: 43). Далее в художественном тексте следуют ответы других героев повести, среди которых выделяются два, связанные с идеализацией, которая пародируется автором. Комический эффект создается за счет того, что ответы соседствуют с прозаическими смыслами12, например:
Фёкла: – Есть масло, сливки, собирать ягоды и грибы.
Володя: – Лазить по деревьям, доставать гнезда и вырезывать из сучьев дудки.
Марья Александровна: – Короче, наслаждаться природою в полном смысле этого слова. За городом воздух чище, цветы ароматней; там грудь колеблется каким-то неведомым восторгом; там небесный свод не отуманен пылью, восходящею тучами от душных городских стен и смрадных улиц; там кровообращение правильнее, мысль свободнее, душа светлее, сердце чище; там человек беседует с природой в ее храме, среди полей, познает всё величие…» (Т. 1: 43).
Еще одним предметом пародизации и у Гончарова, и у Солоницына становится образ цветка, который в «Обыкновенной истории», романе 1847 г., станет символом избыточной чувствительности, глупого романтизма и наивности («желтые цветы» – «Ты, едучи сюда, воображал, что здесь всё цветы желтые, любовь да дружба» (Т. 1: 421), – говорит Петр Иванович Адуев своему племяннику-романтику Александру). В «Лихой болести» и шарже Солоницына женские натуры тяготеют к прекрасному, которое воплощается именно в этом художественном образе: «По дороге мы останавливались по крайней мере раз восемь: то Марье Александровне желалось понюхать цветочек, растущий на завалине» (Т. 1: 52); «Если бы тут были еще фиялки, так это прелесть! – продолжала Надежда Федоровна…» (346).
Суть романтического странствия семейства раскрывает Тяжеленко, признаваясь рассказчику в том, что «Зуровым летом дома не сидится: вот какой страшный, убийственный недуг! Вообрази, до чего дошли! если летом в который день остаются дома, то, по собственному их признанию, которое я подслушал в один из припадков, их что-то давит, гнетет, не дает им покою; какая-то неодолимая сила влечет за город, какой-то злой дух вселяется в них, и вот они… – Тут Тяжеленко начал говорить с жаром: – Вот они плывут, скачут, бегут и, приплывши, прискакавши, прибежавши туда, ходят чуть не до смерти – как не падут на месте! то взбираются на крутизны, то лазят по оврагам» (Т. 1: 35). Гончаровский герой хочет спасти Зуровых от «болести», от бегства от прозы жизни в некое идеальное место, в поисках которого они находятся каждое лето: «…нет ни одного куста, которого бы они не обшарили». Насмотревшись на постоянные «перемещения» в округе (самую ближайшую местность, недалеко от дома, Гончаров выбирает специально как элемент прозаического снижения), рассказчик, в отличие от повествователя Солоницына, пытается спасти «погибшую семью» от недуга, он пародийно пытается бороться со злом: – «Ни с места! – сказал я, – выслушайте меня! – Тут я, не хвастаясь скажу, искусно развернул перед ними картину бедственной страсти со всеми ее ужасными последствиями»13 (Т. 1: 58). «Вы одержимы ужасным, доселе неслыханным недугом, которому нет примера, нет названия ни в веках минувших, ни в настоящее время, ни в странах отдаленных, ни пред очами нашими. – Вы погублены, ослеплены, увлечены в пропасть» (Т. 1: 58). Рассказчик произносит пламенную речь во имя спасения семейства, призывая их вернуться в город, к повседневной жизни: «В город! – воскликнул я громовым голосом, так что все вскочили в одно время» (Т. 1: 58). Однако глава семьи призывает к дальнейшему путешествию «За город! – завопил спросонья Алексей Петрович» (Т. 1: 58). Такие же взывания героев встречаем в тексте Солоницына: «Итак, лишь только наступила вторая половина апреля, оба они, не внимая никаким предостережениям Луки Тихоновича, который, впрочем, и сам проводил целые дни над деланьем поплавков, воскликнули в один голос: «Едем, едем на дачу!» (349).
Повесть Гончарова, разоблачающаяся романтизм во всех сферах, заканчивается трагически, словно утверждая «лишнюю» природу этого явления, его несостоятельность. Семейство Зуровых «пустились в горы и оттуда более не возвращались» (Т. 1: 64). У Солоницына тем идеальным местом для жизни, куда стремятся герои, становится дача, которую они так и не смогли нанять из-за того, что не взяли расписки и дачу сдали другому человеку. Вследствие этого они не обрели идиллического места и остались в прозаической реальности.
Двух авторов в жанре литературного шаржа, посвященного их близкому майковскому окружению, роднит крайняя степень детализации, указывающая на реалистический метод изображения повседневности. Так, повествователь, размышляя о «болести» Зуровых, подробным образом изображает особенности их «приключений»: «Каждая из них непременно отличалась каким-нибудь особенным приключением: то ломалась ось, коляска опрокидывалась набок, и оттуда, как из рога изобилия, сыпались разные предметы в чудеснейшем беспорядке – кастрюльки, яйца, жаркое, мужчины, самовар, чашки, трости, галоши, дамы, крендели, зонтики, ножи, ложки; то многодневный дождь и усталость заставляли искать убежища в хижине, которая тоже превращалась в любопытную сцену по своему разнообразию, – теляты, ребятишки, голые лавки, черные стены, русские и чухонские мужчины, тараканы, сковороды, тарелки, русские и чухонские дамы, салопы, плащи, армяки, дамские шляпки и лапти без приготовления разыгрывали разнохарактерный дивертисмент» (Т. 1: 44). Подробные описания встречаем и в шарже Солоницына, написанного год спустя после «Лихой болести». Представляя читательскому вниманию интерьер гостиной главных героев, Солоницын до мельчайших подробностей воспроизводит атмосферу дворянской гостиной: «Вообразите себе комнату довольно просторную, даже и очень просторную, но загроможденную до такой степени множеством разных ширм, цветочных перегородок, маленьких черненьких столиков и других мебелей, что между ними трудно пройти, как между стокгольмскими шкерами» (286). В описываемой обстановке угадывается атмосфера майковского салона, где на суд осведомленной публике выставлялись художественные опыты участников кружка. Известным фактом служит чтение Гончаровым своего первого романа «Обыкновенная история». В «Историческом вестнике» за 1886 г. замечено, что «в семействе Майковых, по вечерам, в воскресенье и другие праздничные дни, когда собиралось много молодежи, часто происходили чтения чего-нибудь выдающегося в современной журналистике, с критическими и другими замечаниями, идущими к делу» [Фокин 2019: 45]. Иван Александрович Гончаров, написав свою «Обыкновенную историю», заявил в один вечер, что, «…прежде чем отдать ее в печать, желал бы прочесть свое первое произведение у Майковых в несколько вечеров и выслушать замечания именно молодого, чуткого, откровенного и ничем не стесняющегося поколения» [Старчевский 1969: 53].
В «Лихой болести», самом раннем художественном тексте Гончарова, очевидна ориентация автора на фламандскую эстетику, проявленную во внимании к повседневности, поэтизации, крайней степени детализации в изображении бытовых сцен в эпической полноте выбранного сюжета, яркой колористической палитре. Так, в первой повести автора находится сцена, вызывающая аллюзии на известную картину нидерландского художника XVII в. Адриана ван Остаде14 «Харчевня».
Адриан ван Остаде «Харчевня»
Adriaen van Ostade Tavern Scene
Семейство Зуровых, проезжая мимо одного заведения с вывеской «Здесь приуготовляют кушанье и чай», принимают его за кондитерскую, однако обнаруживают, что это «…заведение под заманчивой вывеской была харчевня» (Т. 1: 60). Гончаров словесно живописует бытовую сцену, в которой «дородный плешивый мужичок в красной рубашке отпер двери и остановился от изумления, встретив посетителей необыкновенного калибра» (там же). Повествователь замечает, что данная «картина» заслуживает достаточно подробного описания, а не «…одного беглого взгляда» (там же) и признается в том, что ранее ему не доводилось «посещать подобные заведения» (там же). В изображенной Гончаровым сцене, как и на полотне Остаде, нет яркого солнечного света, достаточного освещения, по той причине, что харчевни «…располагаются большею частию в нижних этажах, даже подвалах, и не представляют никакой преграды любопытному взору. Если вы взглядывали с улицы прямо в дверь, то верно видели в глубине комнаты огромный стол, уставленный штофиками, карафинчиками, тарелками с разной закуской, и за этим столом бородатого Ганимеда; если в воскресный день смотрели в окно, то верно замечали пирующих друзей, лица которых пылали, как освещенные переносным газом; а хохот, песни и орган уведомляли вас, что вы недалеко от храма утех» (там же). Схожую тематику можно обнаружить на картине «Харчевня», сюжет которой связан с мотивами эпикуреизма. В центральной части композиции находится возвышающаяся над пирующими фигура волынщика, который стоит на какой-то возвышенности (скорее всего на столе, который закрывает фигура мужчины, изображенного со спины и держащего в руке кувшин с напитком). Справа от него еще одна фигура, повернутая к зрителю спиной, – сидящий в расслабленной позе мужчина за трапезой. Слева от него пьющий мужчина с падшей женщиной, которая фривольно держит его за подбородок. В левой части картины, наиболее освещенной, расположена пара танцующих по аккомпанемент музыкального инструмента. На самом нижнем уровне картины, слева, практически в тени находится женщина с изумленным лицом и музыкант. Такой жанр бодегона (низкий жанр в иерархии живописи) позволял художникам сочетать в рамках одной картины темные, скудно освещенные интерьеры с элементами яркого акцентного натюрморта.
Таким образом, главной художественной идеей «Лихой болести» и «Так они наняли дачу!» становится пародирование романтических шаблонов, однобокого восприятия мира, которое, по мысли авторов, ведет к трагическим последствиям. Прототипом двух семейств, изображенных в комическом ключе, как Гончаровым, так и Солоницыным, становится семья Майковых, представители которой были активными участниками эстетического конфликта той поры, когда у своих творческих истоков находился И. А. Гончаров. Особую роль в структуре данных повестей играет образ рассказчика. Если в тексте Солоницына он предстает объективным наблюдателем происходящего, не пытающегося ничего изменить, то в «Лихой болести» наблюдается совсем другая тенденция: он описывает проблему «чувствительности», избытка страстей, тягу к странствиям, используя в предисловии широкий контекст, тем самым обозначая важность этой проблемы и ее философскую направленность. Гончаровский рассказчик проявляет двойственную позицию в отношении происходящего, так как выступает с критикой крайнего романтизма (все сюжетные линии, связанные с Зуровыми), но при этом и не принимает «философию покоя» Тяжеленко, его статичность, эпикурейство и «сонливость». В характере одного их первых гончаровских обывателей (рассказчиков) очевидно ироническое отношение ко всему исключительному, желание помочь найти пути выхода из сложившегося бытийного тупика как Зуровым, так и Тяжеленко. Он, по сравнению с ними, герой уже иного типа, который, синтезируя лучшее, подходит к другому типу мировидения, создает для себя иную реальность. Художественные открытия раннего Гончарова связаны с детализацией, пародированием сентиментальных проявлений («…и соленая слеза мирного счастия мутила глаза ее» (Т. 1: 27), «Здесь опять глаза мои наполняются слезами…» (Т. 1: 63)), с юмористическими сценами, созданными за счет совмещения высокого и низкого. Например, сцена посещения героями харчевни («Если вы взглядывали с улицы прямо в дверь, то верно видели в глубине комнаты огромный стол, уставленный штофиками, карафинчиками, тарелками с разной закуской, и за этим столом бородатого Ганимеда» (Т. 1: 60)), в которой обыкновенный посетитель уподобляется олимпийскому виночерпию. Контекст творчества представителей майковского дома оказывается чрезвычайно важен для становления Гончарова-писателя, выбранных им тем, поэтики и эстетики, тяготеющей к синтезу словесного и изобразительного начала со времен самой первой атрибутированной повести в 1838 г.
1 «Кроме того, Солоницын был человек литературный, и как ни мало известна его деятельность на этом поприще, она прошла не совсем бесследно» [Гродецкая 2017].
2 В дальнейшем ссылки на это издание даются с указанием тома и страниц в круглых скобках.
3 Далее цитирование дается по этому изданию с указанием в скобках страниц.
4 В этих описаниях Гончарова очевидны иронические нотки в отношении сентиментального проявления образа пожилой женщины.
5 «Алексею Петровичу казалось, что в большой луже, образовавшейся от дождей, должна водиться рыба, и он закидывал удочку; между тем дети во время этих остановок беспрестанно что-то ели» (Т. 1: 52).
6 В домашнем кругу Майковых Гончаров имел прозвище «Принц де Лень».
7 Например, Б. М. Энгельгардт: «В нем в зачаточном виде представлены многие характерные черты излюбленного героя Гончарова. Под его чудовищной апатией и леностью скрываются острый ум и наблюдательность; у него, как и у Обломова, “доброе” и сострадательное сердце <…> его образ показан в тех же сочувственных тонах, как и образ Обломова» [Звезда1936: 233].
8 В дальнейшем ссылки на это издание даются с указанием тома и страниц в круглых скобках.
9 В этюде Гончарова «Хорошо или дурно жить на свете?» образ Солоницына связан с безымянным героем «питомцем дела и труда» [Масанов 1960, т. 4: 448].
10 «В лице замечалась также сдержанность, то есть уменье владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души» (Т. 1: 194).
11 «Он думает и чувствует по-земному, полагает, что если мы живем на земле, так и не надо улетать с нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в жизнь, как она есть, а не как бы нам ее хотелось» (Т. 1: 217).
12 Курсив наш.
13 Выделенный текст связан с возвышенном слогом рассказчика, который в контексте всей описываемой ситуации оказывается комическим.
14 Примечательно, что интерес Гончарова к фламандскому художнику был значим во время его работы над романом «Обрыв» (1869), который, как известно, имел другое первоначальное название – «Художник». В романе главный герой Борис Райский упоминает имя Адриана ван Остаде: «А какие сокровища перед глазами: то картинки жанра, Теньер, Остад – для кисти!» [Гончаров 1997, т. 7: 329].
About the authors
Kristina K. Pavlovich
Tomsk State University
Author for correspondence.
Email: pavlovitch.cristina@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4364-9120
SPIN-code: 3396-7754
ResearcherId: AAG-8148-2020
Associate Professor in the Department of Russian as a Foreign Language
Russian Federation, TomskReferences
- Avilova E. R., Vasil’chuk E. O. Kategoriya ab-surda v ideynom bazise pank-subkul’tury [The cate-gory of absurd in the ideological basis of the punk subculture]. Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst [Russian Rock Poetry: Text and Context], 2013, issue 14, pp. 53–61. (In Russ.)
- Buynov I. A. Esteticheskaya kontseptsiya rok-poezii [The aesthetic concept of rock poetry]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo uni-versiteta im. M. A. Sholokhova. Filologicheskie nauki [Bulletin of Moscow State University for Humanities named after M. A. Sholokhov. Philological Sciences], 2010, issue 2, pp. 11–16. (In Russ.)
- Domanskiy Yu. V. Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst [Russian Rock Poetry: Text and Context]. Moscow, Intrada – Kulagina Press, 2010. 230 p. (In Russ.)
- Kozitskaya E. A. ‘Chuzhoe slovo’ v poetike russ-kogo roka [‘Alien word’ in the poetics of Russian rock]. Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst [Russian Rock Poetry: Text and Context], 1998, issue 1, pp. 49–56. (In Russ.)
- Kormil’tsev I., Surova O. Rok-poeziya v russkoy kul’ture: vozniknovenie, bytovanie, evolyutsiya [Rock poetry In Russian culture: Emergence, exist-ence, evolution]. Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst [Russian Rock Poetry: Text and Context], 1998, issue 2, pp. 5–33. (In Russ.)
- Leksikon nonklassiki. Khudozhestvenno-esteticheskaya kul’tura XX veka [The Lexicon of Nonclassics. The Artistic and Aesthetic Culture of the 20th Century]. Ed. by V. V. Bychkov. Moscow, ‘Russian Political Encyclopedia’ (ROSSPEN) Publ., 2003. 607 p. (Series ‘Summa culturologiae’). (In Russ.)
- Mikhaylova T. A. Intertekst v pesne ‘Plat’e v goroshek’ gruppy ‘Undervud’ [Intertext in the song ‘Polka Dot Dress’ by The Underwood band]. Russ-kaya rok-poeziya: tekst i kontekst [Russian Rock Poet-ry: Text and Context], 2017, issue 17, pp. 253–259. (In Russ.)
- Pilute Yu. E. Ideynye ustanovki i idealy rok-poezii [Ideological attitudes and ideals of rock poet-ry]. Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst [Russian Rock Poetry: Text and Context], 2011, issue 12, pp. 40–45. (In Russ.)
- Pilute Yu. E. Tipologiya kul’turnogo geroya v russkoy rok-poezii [Typology of a cultural hero in Russian rock poetry]. Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst [Russian Rock Poetry: Text and Context], 2010, issue 11, pp. 27–35. (In Russ.)
- Roytberg N. V. Chto est’ ‘ROK’, ili ekzistentsi-al'no-tragediynoe nachalo kak smyslovaya dominanta rok-zhanra [What is ‘ROCK’, or the existential-tragic pronciples as the semantic dominant of the rock gen-re]. Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst [Russian Rock Poetry: Text and Context], 2011, issue 12, pp. 7–12. (In Russ.)
- Skorlupkina D. G. Kontaminatsiya kul’turnykh kodov: ‘chuzhoe slovo’ v poetike gruppy ‘Undervud’ [Contamination of cultural codes: ʽAlien wordʼ in the poetry of The Underwood band]. Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst [Russian Rock Poetry: Text and Context], 2016, issue 16, pp. 240–248. (In Russ.)
- Chebykina E. E. Russkaya rok-poeziya: pragmat-icheskiy, kontseptual’nyy i formo-soderzhatel’nyy aspekty: Diss. kand. filol. nauk [Russian Rock Poetry: Pragmatic, Conceptual and Form-Content Aspects. Cand. philol. sci. diss.]. Yekaterinburg, 2007. 214 p. (In Russ.)
- Gracyk T. A. Romanticizing Rock Music. The Journal of Aesthetic Education, 1993, vol. 27, issue 2 (summer), pp. 43–58. (In Eng.)
- Hutcheon L. A Theory of Adaptation. New York, Routledge, 2006. 252 p. (In Eng.)
- Steinholt Y. B. You can’t rid a song of its words: Notes on the hegemony of lyrics In Russian rock songs. Popular Music, 2003, vol. 22, issue 1 (Jan.), pp. 89–108. (In Eng.)
Supplementary files