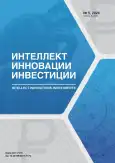From ancient Chinese texts to the new Confucian aesthetics of life and philosophy of music
- Authors: Kolomiets G.G.1
-
Affiliations:
- Orenburg State University
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 114-125
- Section: Philosophical Sciences
- URL: https://journal-vniispk.ru/2077-7175/article/view/278096
- DOI: https://doi.org/10.25198/2077-7175-2024-5-114
- ID: 278096
Cite item
Full Text
Abstract
The subject of the research is the philosophical ancient Chinese traditional and modern innovative views on the anthropological problem of human existence in the aspect of lifestyle, aesthetic knowledge in the Confucian worldview. The motive for addressing the topic was the desire to trace and present a philosophical thought about the path of development of Chinese culture in approaching the aesthetics of life as an opportunity to achieve a wonderful life. The relevance of the problem lies in the promotion at the present stage of the value of the sensual principle competing with rationality in thinking. The novelty is the anthroposocioecological approach in the comparative analysis of ancient Chinese philosophical texts, in which the problem of ritual and music occupied a significant place, and the modern new Confucian philosophy, which highlighted the aesthetics of life. The author pays special attention to the aesthetic value of music in Chinese philosophy. Axiological, hermeneutic, phenomenological, and historical methods are used. The introduction gives a brief idea of the essence of the anthroposocioecological approach applicable to Chinese philosophy and the value of music in the aspect of research. n the new Confucian concept of aesthetics of life by the modern Chinese philosopher Liu Yuedi. In the author’s conclusions, the concept of new Confucianism, which puts forward the pursuit of an ideal life, seems to be a utopian and at the same time fruitful idea in search of self-sufficient personal and interpersonal satisfaction. Liu Yuedi’s philosophy highlights such basic anthropological problems as the Chinese concept of life, the difference between a good and a beautiful, wonderful life, the value of the sensory-emotional component; the Confucian psychoanalytic approach in the philosophy of music is asserted. From a practical point of view, the modern Chinese concept of aesthetics of life and its modeling of a beautiful lifestyle mean creating conditions under which everyone could create their lives freely, as an artist creates art. Attention is drawn to sensual and intellectual intuition in creative activity and to the difference in approaches in Chinese and European philosophy regarding lifestyle in the dynamics of cultural development.
Full Text
Введение
Китайская философия с древности и до сегодняшнего дня носит социальный, этический и эстетический характер. С точки зрения современной новой конфуцианской философии выделим эстетический аспект, созвучный с философской антропологией, антропосоциоэкологическим подходом, который приобретает глобальное значение и является характерным для китайской культуры. Используя понятие «антрополосоциоэкологический подход», мы подчеркиваем следующее положение. Поскольку в повседневной культурной практике увеличивается интерес, с одной стороны, к природному и чувственному, и, с другой стороны, к искусственному интеллекту, то выступает значимой антропосоциоэкологическая эстетическая парадигма [7, с. 249]. В контексте антропосоциоэкологического подхода обращение к древнекитайской философии и новому конфуцианству подчеркивает то, что человек есть существо космическое и трансцендентное, существующее в глобальной системе Небо-Человек-Земля, в естественно-природной и социально-организованной среде, что обусловливает его как личное, так и общественное существование. Вместе с тем, традиционные общества Востока, к которым относятся древний Китай и Индия, мусульманские государства, во многом сохранили тип социальной организации до нашего времени, однако они испытывают неизбежное влияние современной техногенной цивилизации, что, по словам В. С. Стёпина, «приводит к радикальным трансформациям традиционной культуры и образа жизни» [11, с. 82].
Обращаясь к эстетике жизни по Лю Юэди, как представителю современного нового конфуцианства, отметим, что конфуцианство после средневекового неоконфуцианства получило новый виток развития в современном философском движении ХХ века. В двадцатые годы прошлого столетия «Лян Шумин в книге «Культуры Востока и Запада и их философии» призвал вернуться к Конфуцию и возродить его учение для создания мировой культуры будущего» 1. Современные китайские философы и эстетики поддерживают конфуцианскую идею многообразности, плюрализма и гармонии, направленную в новых условиях на диалог с мировой философской мыслью.
С точки зрения эстетического знания для китайского миропонимания характерны неразделенность чувства и разума, ценность чувственного восприятия, яркое образное мышление, что отражено в письменности иероглифами, в музыкально-интонационной выразительной речи, в искусстве и особом статусе музыки, наиболее сильно воздействующей на душевный строй. Сошлёмся на то, что эстетика как философская наука определила три русла философского знания: 1) целостное чувственное восприятие органами чувств, питающих интеллект и эмоции; 2) способность прекрасно мыслить образами силой воображения и фантазии, вызывающая игру рассудка и воображения, что дает выход на 3) искусство, теорию искусств и реализацию творческих идей в любой сфере деятельности. Следовательно, основу классической эстетики как философской науки заложили философия чувственного познания, философия красоты и философия искусства.
В древнекитайской философии и философии искусства на вопрос: почему выделяется область музыки, ответом будет следующее аргументированное пояснение. Философия музыки древняя и современная считает, что исток музыки находится в вечном порядке мироздания, гармонии мира. Такое представление о музыке было и на Западе, в Древней Греции и на Востоке, в Азии. Музыка была больше чем вид искусства, умение петь и играть на музыкальных инструментах, больше, чем деятельность человека, коллективного, индивидуального творчества. Музыка понималась как субстанция бытия и способ ценностного взаимодействия человека с миром, чувствующим великий Ритм жизни, природы, космоса, вселенной 2. Условно обозначим следующий ряд типов музыки в поле зрения эстетики и философского антропосоциоэкологического знания: 1) музыка-субстанция как божественный принцип гармонии мироздания, который задает тон порядка, содержит закон сверхчувственной красоты, идею противоборства консонанса и диссонанса в мировом пространстве; 2) музыка движения космических сфер; вращаясь, космические тела звучат, небо звучит; солнце звучит, вселенская звучащая гармония мира; 3) музыка земной естественной природы, когда мы музыкально воспринимаем пение птиц, звучание леса, моря, т. д.; 4) музыка в мире человеческой цивилизации, музыка города, грохот и ритм машин, звуки и ритмы жизни городской среды и человека в городе; 5) музыка человеческой души, которая резонирует со всем космосом и окружающим миром, неслышная, внутренняя; 6) музыка-искусство. Мы поем и играем на музыкальных и «псевдомузыкальных» инструментах, включая мобильные телефоны, электронику, любые подручные способы, выражаем личные сокровенные чувства, но не только. На самом деле путь к музыкальному искусству намного сложнее, он обусловлен внешними и внутренними событиями, таинственным озарением; 7) музыка-наука, теория музыки о звуковых и ритмических соотношениях, о способах музыкальной пространственно-временной организации.
Итак, музыкальное видение мира и гармония мира неразрывно связаны с понятием музыки, и всё это имеет отношение к антропологии, эстетике, этике и антропосоциоэкологическому назначению музыки, согласно конфуцианской философии. Сегодня, не снимая философского подхода к сущности красоты и искусства, наблюдается возрождение первичной составляющей антропологической эстетики – обращение к значимости чувственного начала в человеке, живой эстетике, где чувства и разум равноценны, согласно современному новому конфуцианству.
Древнекитайские тексты указывают на мировоззрение, сложившееся в устойчивой традиции, где основанием явилась неразрывная связь человеческого образа жизни с Природой настолько, что определяла действия людей Поднебесной в повседневной жизни, влияла на отношение к историческим и политическим событиям. Если жизнь человека зависит от Природы, то с ней следует разумно взаимодействовать. И человек, природно, телесно, духовно ощущающий тесную связь с Небом, должен следовать порядку вселенского пути Дао. Отсюда сложно объясняемые понятия Дао, дэ, ци, увэй, ли и др. Современное новое конфуцианство, обращенное к ценности жизни, несмотря на мировые разломы, подобные сдвигам тектонических плит, уповает на возможность движения к прекрасной жизни.
Философское антропосоциоэкологическое прочтение древнекитайских текстов в контексте образа жизни и философии музыки
Поставив задачу исследования, кратко проследим некоторые моменты, касающиеся образа и эстетики жизни в древнекитайской философской мысли и культурного назначения музыки, поскольку этот вид искусства, тесно связанный с ритуалом, в китайской философской мысли имел особый статус. В этой связи выделим два источника. В Древнем Китае в III в. до н. э. был составлен энциклопедический труд «Люй-ши чунь цю», состоящий из 200 тысяч слов, понятий, описаний, объяснений. В этой энциклопедии в интересах данного исследования отметим доасистскую главу «Основы жизни» и главу «Великая музыка», написанную конфуцианцами.
Другой источник – исторические записки «Ши цзи» II века до н. э. – считается первым источником всеобщей истории Китая, состоящим из множества глав, описывающих китайскую духовную и материальную культуру до начала нашей эры. В предисловии к сто тридцатой главе придворного историографа Тайшигуна, который использует записи историков ханьского двора Сыма Таня и Сыма Цяня, склонных к даосизму, приводится критическая оценка шести философских школ Древнего Китая. Эти школы представляют модели разных путей культурного развития Поднебесной того далекого времени: «Поднебесная стремится к единой цели, но для достижения ее существуют сотни планов, все стремятся к одному и тому же, но ведут к этому разные пути», писал Сым Цянь [3, с. 312]. Основные школы преследуют высшую цель Поднебесной, согласно Дао, где главной задачей является умелое управление, порядок и суверенитет государства, основанного на строгих законах и ритуале граждан. Подчеркнем, что в китайском, можно сказать антропосоциоэкологическом, мировосприятии жизнь человеческая есть высшая ценность, человеческое существование неотделимо от целесообразной Природы и чувственной эстетической парадигмы.
В комментариях к историческим запискам выделены основные школы натурфилософов (инь ян), конфуцианство (жу сюэ), моизм (учение Мо ди), легизм (учение законников, фа цзя), школа номиналистов (мин цзя) и даосизм.
Школа натурфилософов, или как ее называли учение о «темном и светлом начал», была на основе шаманизма строгой культовой мистико-религиозной, поскольку придавала большое значение предзнаменованиям. Запреты и табу, как записано в исторических записках, вызывали у людей страх. Например, образ жизни складывался согласно великому порядку четырех времен года, сообразно которому человек должен быть готов к тому, что в природе весной всё рождается, летом растет, осенью собирается, зимой хранится. Отсюда положения о 12 знаках зодиака, о 24 периодах года и другие указания. Но это не значит что человек, следующий всем указаниям, процветает в жизни, а нарушающий раньше погибнет [3, с. 312].
Конфуцианство представлялось историографам сложным учением, потому что в книгах конфуцианцев содержится множество иероглифов, что сложно для познания, но в них суть норм всех отношений. Неизменно строгое положение о нормах поведения между государем и подданными, отцом и сыном, мужем и женой, старшим и младшим, в обществе [3, с. 314]. Государь, правитель является образцом поведения, он идет впереди и задает тон для всех остальных. Конфуцианство опирается на шесть канонов, представленных в тексте «Лю и». Это книги: «перемен» (И цзин), «ритуала» (Ли цзин), «О музыке» (Юэ цзин), «Книга песен» (Ши цзин), «истории» (Шу цзин), «Вёсна и осени» (Чунь-цю) [3, с. 370]. Обратим внимание на тесную связь ритуала и музыки, песен; музыка определяет поэзию. Здесь можно сделать антропосоциоэкологическое уточнение. То, насколько музыка определяет поэзию, является показателем особого человеческого символического мышления, априори заложенного в человеческом существе любой культуры. Так, например семантическая эстетика, в частности философия символизма А. Уайтхеда, который оказал влияние на феноменологическую теорию символизма С. Лангер, выделяла музыку как символ. Поскольку глубинная сущность эмоционального воздействия музыки на человека зависит не от случайных психологических моментов, а оттого, что символ, как и миф, открыт для восприятия, то, как и мифотворчество, так и музыкальные произведения являются «незавершенным символом»[4, с. 591]. Лангер, утверждая прасимвол музыки, с которой она связывает ритм жизненной стихии, который существует до всякого человеческого искусства, критически относится к психологическим трактовкам музыки типа самовыражения. Она пишет: «Музыка – это не причина возникновения чувств и не средство избавления от них, а их логическое выражение;… это делает ее несоизмеримой с языком и даже с презентативными символами типа образов, жестов и ритуалов» [8, с. 195]. Антропосоциоэкологическая символичность музыки состоит, на наш взгляд, в том, что музыка «возвращает человека к истокам всех естественных символов» [10, c. 369], к ощущению земного притяжения посредством телесных ощущений, дыхания, пульса, ритма, движения.
Возвращаясь к древнекитайским учениям, подчеркнём, что учение моистов, как отмечает историограф, отличается своей сложностью, требует экономического контроля, экономии средств. Сильная сторона этого учения – принцип укрепления основного занятия для каждого человека и соблюдения бережливости в потреблении, что способствует достатку в семье. К примеру, добродетельным поведением считалось использование необходимых простых вещей, то, что ели они простую пищу из глиняной посуды, одевались в грубую полотняную одежду, а зимой в шубы. На похоронах сдержанно выражали скорбь, в траурных церемониях участвовали всем народом. В их поведении была тенденция к стиранию различия между знатными и простыми людьми. Но так не могло долго продолжаться, считает писарь, так как меняются поколения людей и времена. Заметим, что тенденция к этической норме справедливости, связывалась с эстетическим и психологическим опытом и переживанием.
Номиналисты разрабатывали понятия и определяли названия. Это были теоретики, сосредоточенные на проблеме соотношения имен (мин) и действительности (ши), соответствии названий, понятий сущности явлений, вещей. Философы этой школы искусные риторы, мастера в споре и диалектике: Хуэй Ши, Гунсунь Лун, Хуань Туань. Вместе с тем, интерес к формулировкам понятий и сути явлений характерен и для других направлений, например, конфуцианства, отмечается в исторических записках. Соотношение названия и сущности – достойно внимания, но проблемой остается познание подлинности сущности вещей и явлений. Номиналисты мелочны в своих рассуждениях, записано в заметках. Они придирчивы, запутывают людей. Однако положительным является то, что поиски названий позволяют избежать многих ошибок. Скажем, допущение разных гипотез позволяет в процессе рассуждений отбросить ложные версии. С точки зрения антропологии и антропосоциоэкологического метода важным представляется замечание о снижении значимости чувственного восприятия при рациональном подходе.
Что касается учения легистов, или законников, то их учение, как отмечает истриография, сурово, в нём мало милосердия. Они жестко установили различие между государем и подданными, высшими и низшими слоями общества, строго по закону решают все вопросы по наградам и наказаниям, не считаясь с добрыми качествами любви к близким и уважения к достойным. Они ясно разграничивали обязанности каждого, не допуская превышения полномочий и прав, возносили правителя, принижая подданных. Но так долго продолжаться не могло, их учение применимо на короткое время, пишет историограф. Иначе говоря, мы видим критику политико-административной абсолютной власти правителя.
Учение школы великого пути «Дао» особенно ценилось в «Ши цзи», поскольку, как замечено, даосисты обратили особенное внимание на внутреннюю духовную жизнь человека и побуждали людей направлять духовные силы на благо всему сущему. Эта школа, согласно симпатии историографов II в. до н.э., выбирала лучшее из других школ, следовала установившимся обычаям. В учении о Дао требуется отказ от чрезмерного напряжения духа и телесных трудов. Даосисты говорят о сдержанности, об отказе от излишеств, о «недеянии» великого пути Дао, когда всё само собой происходит. Здесь затронут, на наш взгляд, и вопрос долголетия. Так, подчиняя образ жизни вселенскому закону Дао, надо следовать пониманию того, что: «благодаря чему человек живет – это дух, а то, на что он опирается – это тело… дух – основа жизни, а тело – вместилище жизни». [3, с. 316]. Значит, важна забота о здоровом теле и здоровом духе, о гармонизации душевного строя.
В древнекитайских философских текстах прослеживается этика и эстетика антропосоциальной заботы, связанной с национальным достоинством и родового характера и государственно-управленческого, прослеживается антропологическая, всечеловеческая забота о человечестве и каждом человеке сообразно законам природы, социальному складу общественной жизни и во благо личностного эстетико-этического существования. Китаю в философском восприятии мира и человека, как нам видится, свойственно сильное антропосоциоэкологическое сознание, в котором закреплена традицией своя специфическая символическая универсалия, и вместе с ним социальная, общественная, объективная и субъективная этическая, эстетическая, политическая значимость.
Во всех древнекитайских философских школах важным была связь ритуала, как внутренне-необходимой организации жизни, и музыки (юэ) как искусства чувственного, эмоционального, познавательного, воспитательного, лечебно-релаксирующего, потому что музыка связывалась с представлением о Дао как пути Вселенной, об энергии «ци». Вселенскую гармонию непознаваемого Дао человек ощущает телом и духом. Жизнь, ритуал (ли) и музыка (юэ) неразрывны. В древнекитайском тексте приводятся слова учителя Цзы Чань о ритуале, что ритуал не есть формальный обряд. Учитель говорил: «Ритуал основан на постоянстве движения неба, порядке явлений на земле и поведении народа», это упорядоченные отношения всех рангов, которые строятся на обязанностях каждого. Ритуал регулирует проявление чувств в народе, подобно шести состояниям ци: «хорошее, плохое, добродушие, злобность, грусть, радость», это устои в отношениях верхов и низов в народной жизни [2, с. 12]. Ритуал предполагает этику и этикет, но сущность ритуальных действий связывается с высокими этическими категориями долга и справедливости, что вызвано озабоченностью усовершенствования государственного управления еще в VII в. до н. э., о чем свидетельствуют древнекитайские тексты.
В Китае мировоззрение имеет музыкальное видение мира. В Китайской философии даосизма и конфуцианства исток музыки в таинстве Дао. В главе «Великая музыка» записано: «Далёк исток музыки. Она создавалась по определенным ритмам, а ее основание находится в великом начале, Дао» [1, с. 297]. «Великая музыка» помогает человеку «быть человеком». Музыкальное искусство возникает в ответ на резонанс нашей души с разными явлениями космоса и природы, внешними и внутренними событиями. Занимаясь музыкой по правилам гармонии, человек и социум достигают равновесия и спокойствия, человек приближается к совершенству разумом и сердцем.
Насколько назначение музыки как искусства в Древнем Китае было значительным, говорит то, что она была подвержена строгой цензуре. Ее исполнение должно быть в сознании человека как проводника Дао, потому что он обязан знать, что музыкальный источник исходит из Дао. Музыка мыслилась, прежде всего, как бытие сверхчеловеческое, и музыкальное назначение не столько в том, чтобы доставлять удовольствие, сколько быть регулятором образа жизни. В книге «Ли-цзы» есть трактат «Записки о музыке», в которой пишется о гармонии пяти стихий, согласно школы натурфилософов, следовательно, и в музыке предустановлен порядок из пяти основных звуков, с главным тоном «гун». Отсюда понятие «цигун» – дыхание, на наш взгляд, антропосоциоэкологическая медитативная практика, с помощью которой следует правильно уловить космическую энергию ци, вправить себя в Дао посредством музыки.
В конфуцианстве вырабатывались нормы музыки, благоприятные для здорового образа жизни человека и для управления государством. Для современного нового конфуцианства образ жизни – это и есть эстетика жизни. Как говорит Лю Юэди, мы должны стремиться к счастливой жизни, к хорошей или прекрасной жизни в идеале. И музыка (юэ) при этом должна помогать нам эмоционально (цин) переживать не только удовольствие, но она важна для внутреннего мира каждого человека, а также в социальном смысле связи с другими, и в политическом назначении – для управления страной.
Смысл и ценность музыки в древнекитайской философии, на наш взгляд, заключается в антропосоциоэкологическом, эстетическом, этическом мировидении. Как и на Западе, смысл и ценность музыки обусловливает соединение метафизической сущности и физической ритмо-звуковой природы. Однако национально по-своему понимать музыку в Древнем Китае – означает приблизиться к правильному поведению, ценить эту жизнь, найти своё место, чтобы вписаться в великий путь Дао. Воспитательная, преобразовательная функция музыки в социуме видится как гуманная благость. Принцип гуманизма рассматривается в связи с действием правителей и нравственным поведением, которое представлено в конфуцианстве как должное для совершенномудрых. «Великая музыка» проходит свой путь вместе с государствами, являясь выразителем их уровня благосостояния в каждый исторический момент. Она существует вместе с миром человека, сопровождая и регулируя его жизнь как высшую ценность, поскольку, согласно трактатам древнекитайской философии, совершенномудрый человек, глубоко анализируя все явления, приходит к выводу, что самой ценной на свете является жизнь [6, с. 187]. В этом смысле с точки зрения антропологии и антропосоциоэкологической эстетики целесообразно обратиться к переосмыслению классического конфуцианства в новой конфуцианской философии, выделяющей эстетику жизни.
Новая конфуцианская концепция эстетики жизни Лю Юэди: от Конфуция к современности
Современные китайские философы переосмысляют конфуцианскую философию, видя в ней эстетику жизни. В подобной трансформации конфуцианской философии, на наш взгляд, подчеркивается антропосоциоэкологический подход и эстетическая компонента в образе жизни Китая. Анализ доклада китайского философа Лю Юэди на эстетической конференции ОМЭК 2023 демонстрирует то, что в наше время в связи с турбулентностью современных цивилизационных процессов меняется конфигурация отношений Европа-Азия. Философские научные интересы, касающиеся области нового конфуцианства, направлены на гармонию и эстетику китайского образа жизни. Доклад Лю Юэди «Конфуцианская эстетика жизни: случай интерпретации его учения и понятие восторга в теории Ян Хуэя» [15, с. 33] был посвящен новой конфуцианской философии, представляя Конфуция и восторг его ученика Ян Хуэя как пример наивысшего переживания человеческого бытия. Философ соединял китайские мировоззренческие традиции и инновации в сфере культурно-общественного и философского знания, в которых Лю Юэди видит исключительный поворот к эстетике жизни. Остановимся на некоторых моментах в контексте данного исследования. Выделим в докладе Юэди четыре основных вопроса.
Во-первых, Лю Юэди задается вопросом: что есть жизнь? И отвечает, что понятие «жизнь» в Китае слагается из двух иероглифов () «шэн» и «хуό». «Шэн» означает собственно человеческое рождение и рост, развитие телесное и духовное. Однако философ выделяет иероглиф «хуό», который указывает на присутствие в жизни того живого, которое априори чувственно, ценностно наполняет сознание идеалами, интересами, создавая подлинно живую жизнь, эмоционально проживаемую [16, с. 16]. Жизнь прекрасна тем, что для человека жить – это значит не выживать, а существовать, проживая полноценную жизнь, переживая и удовольствия, и печали, и радости.
Во-вторых, другой вопрос Лю Юэди обращен к нам: «как мы живем». В этом «как» подчеркивается, что жизнь неотделима от чувственности. В китайском восприятии мира тонко взаимосвязаны разум и чувственность, ощущения и осознание. Здесь можно вспомнить древнегреческий айстезис (эстезис) – это такое чувственное восприятие, где соединяются ощущение, интеллект, эмоции. Древнегреческая философия, особенно досократовский период чувственности, придавала много значения. Что касается истории философской мысли, то Лю Юэди отмечает противостояние путей развития китайского и европейского философского знания с точки зрения соотношения в гносеологии чувственного/рационального.
В-третьих, жизненно важный вопрос касается «концепции эстетики жизни» Лю Юэди. Он представляет цель и смысл такого жизненного существования, где эстетика жизни трактуется как счастливая жизнь, которая может быть разделена на хорошую и прекрасную в своем идеальном воплощении [14, с. 139–149]. Он выделяет десять основных аспектов китайской эстетической жизни. Если представить себе схематичное изображение целостного существования по-китайски человека во всех эстетических взаимосвязях и: 1) в центре поставим высшую триаду сверху вниз: прекрасное Небо–прекрасный Человек–прекрасная Земля; 2) дополним составляющими с одной стороны, снизу вверх в восхождении к Небу: прекрасные искусства (и ремесла) – прекрасные Добродетели (нравственно ориентированная жизнь) – прекрасная естественная Природа; а с другой – по аналогии: прекрасное питание – прекрасные предметы – прекрасные жилища – прекрасные путешествия, обогащающие человеческую жизнь новыми впечатлениями, то получим картину десяти связанных аспектов китайской эстетики жизни.
Сама традиция китайской жизни эстетична, это есть проживание подлинной жизни, где должным образом сливаются горизонты древней цивилизации и современной, говорит Юэди. По его словам, сегодня эстетика жизни в Китае является не только ключевым понятием, но и популярной практикой, основа которой кроется в национальной психике, возможно потому, что все любят красоту. И если когда-то Китай считался «государством ритуала», обрядов, то по убеждению философа, в будущем Китай станет страной красоты и добра. Следовательно, современному Китаю необходимо целостное эстетическое развитие в соответствии с древней традицией, когда ритуал и музыка дополняли друг друга.
Вновь обращаясь к истории философской китайской мысли, скажем, что в конфуцианстве разработано понятие «великой музыки». Философ отмечает падение современной музыкальной культуры в смысле удаления ее от идеализации традиционного возвышенного строя, необходимого для воспитания и «питания» духа. Еще Конфуций, как отмечает Лю Юэди, заметил ухудшающееся состояние музыкального искусства, снижение роли музыки и падение ритуала в его подлинном понимании связи с законами природосообразности Дао, когда ритуал и музыка были проводниками нравственности, красоты и добра. В конфуцианской философии, как отмечает современный эстетик, ритуал и музыка настолько переплетались, что «изучать музыку – значит изучать политику», а знание музыки приблизительно соответствует знанию ритуала, и через музыку лежит доступ к этике, как сказано в конфуцианской книге «Записки о музыке».
В-четвертых, ставится вопрос: «что значит жить в красоте». С практической точки зрения Лю Юэди объясняет, что основное положение эстетики жизни состоит в том, чтобы создать условия, при которых каждый мог стать художником своей жизни. Это значит конструировать, образно говоря, свою «художественную жизнь» как полноценную творческую, а не жить искусством ради искусства. Его мотив понятен. Здесь следует дать комментарий к тому, что со времен Шеллинга и Гегеля предметом эстетики в большей степени была философия искусства с выходом на авангардные течения и целью искусства в самом себе. Далее на протяжении ХХ века царила онтология, гносеология, социология, психология искусства. В новом XXI веке эстетическое знание сильнее поворачивается к антропологии и междисциплинарным связям, где расширяется место для эстетики чувственного начала, переосмысливая практическую эстетику жизни, эстетику средового дизайна, живую эстетику человеческой среды, ценность телесного, повседневности. Можно привести в пример по аналогии с Западом книгу «Прагматическая эстетика» как «живую красоту и переосмысление искусства» американского философа Р. Шустермана. Возможно, возрастание значимости чувственности обусловлено тем, что человек жаждет новых технологий и одновременно сопротивляется наступлению эры киборгов, искусственного интеллекта.
Как замечает Лю Юэди, интерес к эстетике повседневной жизни характерен и для Азии и для Европы, что является глобальной эстетикой. При этом эстетическая деятельность как бы мерцает между повседневной и неповседневной жизнью и все-таки ближе к не-повседневной, трансцендентной. Лю Юэди отмечает, что в Китае конфуцианство можно определить как типичную эстетику жизни, в центре которой находится концепция «цин» (эмоция/чувство). В то же время примечательно, что даосизм, как другое основополагающее учение китайской традиционной эстетики, также является китайской эстетикой жизни. С точки зрения их историко-идеологических источников, как конфуцианство, так и даосизм возникли из осознания страстей, страданий жизни. Однако они различаются по своей мотивации, поскольку конфуцианство стремилось исправить слабости общества и сделать человека лучше, в то время как даосизм выступал за достижение индивидуальной внутренней духовной силы посредством непосредственной связи с Дао.
По словам Лю Юэди, из-за неудовлетворенности социальной реальностью, заключающейся в том, что ритуалы разрушились, а музыка стала испорченной, конфуцианство усилило этический характер своего учения, будучи озабоченного ценностью человеческой жизни и общества. В то же самое время даосизм был привержен религиозно-мистической космологии, будучи больше озабоченным местом человека во Вселенной. В китайской традиционном мышлении закрепилось представление, что движение Неба неизбежно указывает на Путь человека; это и демонстрирует второй иероглиф в записи понятия «жизнь». Вместе с тем и конфуцианство, и даосизм являются философией жизни – они исходят из жизни и никогда не отделяются от нее, утверждает философ. Выступая своеобразной китайской эстетикой жизни, конфуцианство и даосизм диалектически дополняют друг друга, полагает философ нового конфуцианства.
Что касается переосмысления музыки в конфуцианстве, то Лю Юэди подчеркивает два момента, а именно: 1) чувственное, воспитательное всечеловеческое назначение и 2) политическое предназначение музыки. Как видим, подход к философии музыки не столько решается в религиозно-мифологическом, космологическом смысле, сколько в том, который отвечает реальности и будущей прекрасной эстетике жизни, предполагающей личное благополучие и благо общественной жизни. Он говорит о том, что музыка призвана воспитывать и совершенствовать эмоции, в равной степени способствуя эстетической утонченности и нравственному возвышению. Как и поэзия, которая укрепляет чувство «братства» в социальной группе, так и достойная музыка, которая психологически настраивает на личную невозмутимость и способствует социальному миру, эмоционально играют определенную роль в процессе формирования характера человека. При этом высказывается мысль о назначении музыки как мощного политического инструмента, что, по словам философа, довольно редко встречается в других культурах мира, за исключением цивилизаций «городов-государств» Древней Греции. Здесь мы сделаем дополнение, что политическая сила музыки была предметом разных философов, и то, как музыка может выступать мягкой политической силой, рассматривалось в отечественном научном философском знании 3.
Отметим, новая конфуцианская эстетика жизни использует психоаналитический подход к музыке, который заключается в том, что придает особое значение влиянию эмоциональной стороне музыки. Что касается связи ритуала, обрядов и музыки, определяющих нравственное поведение и политику, то строгость соблюдения этой связи зародилась еще во времена герцога Чжоу в XII веке до н.э. Как пишет Юэди, Конфуций, впоследствии, стал свидетелем все более ухудшающихся отношений к ритуалу и снижения нравственного качества музыки. Традиция того, что ритуал и музыка неразрывны, была разрушена. Музыка стала склоняться к простым чувственным формам, чтобы угодить королям в их стремлении к экстравагантности; а ритуал, теряя способность выполнять свою роль в моральном преобразовании, возвысился до абстрактных идей. Конфуций приложил все усилия, чтобы вернуться к традиционной гармонии ритуала и музыки. Он выдвинул идею «совершенной красоты» и «совершенного блага» как единство красоты и добра, которые будут играть одновременно двойную роль проводников радости и нравственности, потому что «Музыка – это радость; это чувство, от которого человек не может избавиться» [15, с. 25]. Создавая эстетическое наслаждение от человеческих эмоций, красота и добро сливаются в сверхэстетические отношения, регулируя эмоции. Таким образом, ритуал и музыка переплетаются в конфуцианской философии настолько, что изучать музыку – значит изучать политику, а знание музыки приблизительно соответствует знанию обряда. Существование людей во многом определяется не столько рациональным расчетом, сколько чувственностью, а чувствительность к вещам предшествует возбужденным эмоциям. «Вещи возникают и властвуют над человеком», повторяет новое конфуцианство [15, с. 25]. Действительно, в древнекитайских текстах «Люй-ши чунь цю», созданных под руководством политического деятеля в царстве Цинь, писалось, что недопустима власть вещей над человеком: «Назначение вещей в том, чтобы они удовлетворяли потребности людей, а не подчиняли себе жизнь людей»[1, с. 285]. Поскольку музыка имеет сильный доступ к эмоциям, то древние правители установили обряды и создали такую музыку, чтобы научить простолюдинов отличать хорошее от плохого и восстановить человечность. Через музыку как искусство лежит путь к этике [15, с. 26]. Значит, эстетическое как чувственное движение к красоте и возбужденные музыкой эмоции должны быть в поле зрения этического знания.
Для самого Конфуция эмоции чаще всего проявлялись в поэзии и музыке. Пусть человек сначала воодушевится песнями, затем обретет твердую опору благодаря изучению ритуала и, наконец, достигнет совершенства с помощью музыки, говорит Лю Юэди. Для Конфуция музыка и обряд считались одинаково важными, но музыка ставилась выше обряда, потому что только посредством музыки в педагогическом, воспитательном смысле можно было достичь желаемого. На этом строилась образовательная и педагогическая система Конфуция. При этом для конфуцианцев высшим художественным идеалом была бескорыстная и безграничная трансцендентность, чем просто красота и добро в социальной жизни.
Новая конфуцианская философия указывает на «квазирелигиозную» мораль, то есть мораль субъекта для внутренней трансцендентности, чем на «социальную мораль». Лю Юэди отмечает конфуцианский трехмерный процесс внутреннего восхождения, указывая на единство религиозного, морального и эстетического, который китайский философ Фэн Юлань (1895-1990) описал как «Рай-Состояние земли», а Ли Цзэхоу как «Эстетическое состояние» [15, с. 27–29].
Взяв за образец учение Конфуция и восторг его ученика Ян Хуэя в качестве примера наивысшего переживания человеческого бытия, Лю Юэди предложил это переживание классифицировать как пример «интегральной гармонии в сознании, переходящей в квазирелигию, надморальную чувствительность и панэстетику» [15, с. 27]. «Квазирелигиозный» опыт, это скорее универсальный опыт на грани религиозного, мистического и эстетического, что связано с переживанием таинственного союза человека с Небом. «Квазирелигиозный» союз Неба и человека пришел из традиционной китайской религиозной секты шаманизма, что отмечал современный философ Ли Цзэхоу и китайский историк Юй Ин-ши, которые писали, что самые древние представления о неразрывной связи ритуала и музыки восходят к шаманским практикам. Ли Цзэхоу и Лю Юэди напротив, считают, что традиция шаманизма в конфуцианский период не вымерла. Практики общения между Небом и человеком, которые предпринимались со времен Конфуция и Ян Хуэя продолжались через неоконфуцианцев династии Сун, которые стремились к своим духовным радостям.
Лю Юэди приводит в пример других китайских мыслителей [15, с. 29–31]. Современный китайский мыслитель Лян Шумин (1893–1988) в радости квазирелигиозного, этико-эстетического переживания Конфуция и Ян Хуэя находит, как можно сказать, в «истинно музыкальном» бытии Вселенной, космическом движении, процессе перехода от гармонии к дисгармонии или от дисгармонии к гармонии. И жизнь человечества – это текучая и изменчивая целостность, как замечает Юэди. Чувства и интеллект неспособны познать субстанцию, которая нуждается в интуиции жизни. Постигать интуитивно – значит жить целостной жизнью, без различия субъекта и объекта, в абсолютном единстве. Интуиция бывает двух видов: чувствительная и интеллектуальная, последнюю предпочитает Лян Шумин. Китайский философ Моу Цзонсан (1909–1995), на которого ссылается Юэди, использовал интеллектуальную интуицию мистическим образом как аналог кантовской чувственной интуиции, как определенный вид таинственной чувствительности, в то время как интуитивное знание – это знание, которое затрагивает некую глубину человеческого разума. О неразрывной связи сознательного и интуитивного писал Ли Цзехоу, выделяя шесть основных особенностей китайской эстетики: 1) единство красоты и добра; 2) единство чувственно-эмоционального и этического; 3) единство чувственного и интеллектуального; 4) единство Неба и человека, теснейшая связь с Природой; 5) гуманистическая ценность китайской культуры; 6) эстетическая сфера как высшая сфера человеческого бытия [12].
В отличие от общей тенденции современного нового конфуцианства, как говорил Лю Юэди, Ли Цзехоу предложил точку зрения о «сосуществовании человека и Вселенной и свободной интуиции», он постулировал «совместное материальное сосуществование человека и Вселенной» и подчеркнул «приоритет эстетики над разумом» [14, с. 252; 11, с. 30]. Здесь уместно напомнить слова Ж. Делеза, который подметил, что в кантовской «Критике способности суждения» высказана важная мысль о том, что эстетическая Идея делает то, что не может рациональная Идея. В этом они равны: эстетическая идея «дает «пищу для мышления», она заставляет нас мыслить. Эстетическая Идея – это на самом деле то же самое, что рациональная Идея: она выражает то, что является невыразимым в последней» [5, с. 205]. Лю Юэди соглашается с философом Ли Цзэхоу, который писал, что царство неба и земли, к которому стремится человечество, является одновременно царством красоты и чувственности. Ли Цзехоу считает, что эстетика занимает самое высокое положение метафизики. Китайская эстетика является одновременно источником и высшим идеалом китайской философии, по сути «первой философией» для китайцев [14, с. 252; 12].
Выскажем мнение о том, что эстетические идеи китайского философа воспринимаются нами как некая утопия, в концепции нового конфуцианства проглядывает мистико-ориентированная древнекитайская философия, однако, согласимся, что утопические идеи необходимы человеческому воображению и построению культуры. Как отмечает В. А. Лекторский, философы всегда разрабатывали модели жизни, утопии, потому что понимание человека и его отношения к миру всегда было и будет проблемой [9, с. 7, 13].
Заключение
Резюмируя, отметим, что сравнительный анализ древнекитайских текстов и приводимых рассуждений современного китайского философа Лю Юэди, согласно его концепции эстетики жизни в новом конфуцианском свете, приводят к размышлению о том, что в мире существует могущественное противостояние чувственного опыта рационализму, тяготеющему к новому технологическому прогрессу. В таком случае эстетика становится супер-необходимой философской наукой как эстетика жизни, живая эстетика, в которой антропосоциоэкологический подход, который мы допускаем в современном новом конфуцианстве, способствует обеспечению достойного существования человека, изменяющего окружающую природную среду. Антропосоциоэкологический подход в философии предполагает единство чувственного и рационального. Кроме того, размышления о жизни, вызванные историей, создают новые сферы в метафизике и практике эстетики, в частности, философии музыки.
Запад делает акцент на логическом и рациональном, в то время как Китай сосредоточен на эстетическом сознании, единстве чувственной и рациональной интуиции. Такое различие в современном глобальном подходе указывает на разнообразие глобальной эстетики, что должно быть основой для сотрудничества между Азией и Западом. Согласимся с Лю Юэди, что китайская эстетика жизни вливается в мировую глобальную эстетику, где должно быть соединение традиций и инноваций. На Западе живая эстетика предполагает критическое осмысление цивилизационной современности как разрушительного «другого», подавляющего эстетический потенциал. Согласно Лю Юэди, эстетика жизни должна быть «глубинным стандартом» качества человеческой жизни и развития мира. Китайская модель эстетики жизни, в которой по-своему возрождаются конфуцианские идеи, выглядит утопией, однако требует внимательного изучения в условиях противостояния западной и восточной культур. Китайская современная философско-эстетическая мысль нового конфуцианства, в которой сплетаются космологический, социальный, антропологический, политический взгляды на образ жизни, выражает динамику всеобщего культурного развития в возможности образа жизни в условиях жесткого мирового противостояния с надеждой на гармонизацию человеческих отношений.
1 См.: Новое конфуцианство // Электронная библиотека ИФ РАН «Новая философская энциклопедия». – URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01169b58b869a834618d4d16. (дата обращения: 17.06.2024).
2 Абсолютной субстанциональной сущности музыки была посвящена диссертация автора «Концепция ценности музыки как субстанции и способа ценностного взаимодействия человека с миром», защищенная на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова в 2006 г.
3 См.: Коломиец Г.Г. Отзыв на диссертацию Чупровой Ирины Александровны «Роль музыкальной культуры в формировании образа России за рубежом (на примере московской пианистической школы)». – URL: https://viperson.ru/articles/otzyv-na-dissertatsiyu-chuprovoy-iriny-aleksandrovny-rol-muzykalnoy-kultury-v-formirovanii-obraza-rossii-za-rubezhom-na-primere-moskovskoy-pianisticheskoy-shkoly. (дата обращения: 17.06.2024).
About the authors
Galina G. Kolomiets
Orenburg State University
Author for correspondence.
Email: kolomietsgg@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1027-9095
Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Professor of the Department of Philosophy, Cultural Studies and Sociology
Russian Federation, OrenburgReferences
- «Lu-shi chun qiu» (1973) Drevnekitayskaya filosofiya [Ancient Chinese philosophy]. A collection of texts in two volumes. Vol. 2 M., «Thought», pp. 284–310.
- «Zuo zhuan» (1973) Drevnekitayskaya filosofiya [Ancient Chinese philosophy]. A collection of texts in two volumes. Vol. 2 M., «Thought», pp. 5–13.
- «Shi ji» (1973) Drevnekitayskaya filosofiya [Ancient Chinese philosophy]. A collection of texts in two volumes. Vol. 2 M., «Thought», pp. 311– 316, 370.
- Gilbert, K., Kuhn, G. (2000) Istoriya estetiki [The history of aesthetics]. Book 2. 2nd ed. M.: Publishing group «Progress» 316 p. (In Russ., transl. from Engl.).
- Deleuze, Gilles (2001) Empirizm i sub”yektivnost’: opyt o chelovecheskoy prirode po Yumu. Kriticheskaya filosofiya kanta: ucheniye o sposobnostyakh. Bergsonizm. Spinoza [Empiricism and Subjectivity: Hume’s Experience of Human Nature. Kant’s Critical Philosophy: the doctrine of Abilities. Bergsonism. Spinoza]. M.: PER SE, p. 205. (In Russ., transl. from French).
- Kolomiets, G. G. (2009) [Some questions of philosophical thought about music in Ancient China: status and purpose in the anthropo-social aspect]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Orenburg State University]. Vol. 7 (101) /July, pp. 181–187. (In Russ.).
- Kolomiets, G. G. (2023) [Philosophy of music as a gift of being and the universal «musical» in anthroposocioecological aesthetics]. III Rossiyskiy esteticheskiy kongress: estetika vo vremena global’nykh peremen (18–20 maya 2023, Vladimir) [III Russian Aesthetic Congress: aesthetics in times of global change (May 18–20, 2023, Vladimir)]. Vladimir: Arkaim, Vol.1, pp. 247–249. (In Russ.).
- Langer, Susan (2000) Filosofiya v novom klyuche: Issledovaniye simvoliki razuma, rituala i iskusstva [Philosophy in a new key: A study of the symbolism of reason, ritual and art]. M.: Republic, 287 p. (In Russ., transl. from Engl.).
- Lectorsky, V. A. (2012) Filosofiya, poznaniye, kul’tura [Philosophy, cognition, culture]. Moscow: Kanon+ ROOI «Rehabilitation», p. 13.
- Orlov, G. (2005) Drevo muzyki. Glava sed’maya. Muzyka kak simvol [The Tree of Music. Chapter seven. Music as a symbol]. St. Petersburg: Composer*St. Petersburg, pp. 364–368.
- Stepin, V. S. (2011) Tsivilizatsiya i kul’tura [Civilization and culture]. St. Petersburg: SPbGUP, 408 p.
- Zhang, J. (2019) [The History of Chinese Aesthetics by Li Zehou]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Ser. 7 Filosofiya [Bulletin of Moscow University. Series 7 Philosophy]. Vol. 1, pp. 109–118. (In Russ.).
- Li Zehou (1999) The History Ontology of Anthropology. Tianjin: Tianjin Academy of Social Sciences Press, pp. 252. (In Eng.).
- Liu Yuedi (2023) Confucian Living Aesthetics : Confucius and Yan Huis Delight as a Case. Aesthetics Universalis = Universal Aesthetics : a quarterly theoretical journal. Vol. 3 (22). Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philosophy. Moscow : Moscow University Press, pp. 15–33. (In Eng.).
- Liu Yuedi (2018) From «Practice» to «Living»: Main Trends of Chinese Aesthetics in the Past 40 Years. Frontiers of Philosophy in China. 2018. Vol. 13. рр. 139–149. (In Eng.).
- Liu Yuedi (2005) Living Aesthetics: Critique of Modernity and Re-construction of Aesthetic Spirit. Hefei: Anhui Education Press, pp. 16. (In Eng.).
Supplementary files