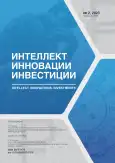The specificity of modern protest movements: from socio-cultural destruction to the devaluation of morality (on the example of BLM protests)
- Authors: Petev N.I.1
-
Affiliations:
- Vladimir State University
- Issue: No 2 (2023)
- Pages: 142-155
- Section: Philosophical Sciences
- URL: https://journal-vniispk.ru/2077-7175/article/view/290015
- DOI: https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-2-142
- ID: 290015
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the analysis of the internal content of the rhetoric and the main features of the construction of protest movements. For this study, the «Black Lives Matter» movement was used as a subject, as a phenomenon in which the desired components are most clearly traced. Due to the correlation of the spontaneous and irrational aspects and the speculative-radical, pragmatic component, the studied specifics and content are successfully identified. This study uses a combination of methods (dialectical, analytical, content analysis, etc.), as well as approaches (ethical, social, political, etc.). As a result, the author comes to the following conclusions and results: 1. Protests of this kind are characterized by targeted damage to cultural and historical heritage in order to initiate its devaluation. 2. One of the characteristics is «reverse racism», which is directed not only against a certain category of people, but mostly by teleological primacy has the acquisition of special advantages and quotas. 3. In the rhetoric of such organizations, there is an immanent speculative tendency to deny the rights of the individual, to «average» the individual before being elevated to the masses, as well as the formation of a new stereotyping. 4. The repressive cult of violence and cruelty is draped with the ideas of «noble struggle». 5. Special conscious radicalism (both ideological and expressed in specific intentional acts), which excludes the possibility of dialogue. 6. The eradication of history and tradition presupposes the formation of a new socio-political system, and morality and religion are tools for achieving such goals. 7. Escalation within the framework of moral consciousness, attitudes, behavior and value system of the «tolerance» fetish, which becomes a total system for controlling / suppressing freedom (opinions, attitudes, etc.), creating an alibi of responsibility and conditions for the degeneration of individuality.
Full Text
Введение
Различные иррациональные эпидемии характерны для современного мира, хотя и могут быть драпированы рациональными мотивами. Ярким примером является движение «Black Lives Matter»1 (сокр. BLM, пер. «Чёрные Жизни Имеют Значение»). Акции, протесты и прочую активность организация нарастила в период пандемии в 2020 году. Особенно интенсивно это происходило на волне ослабления карантинных и изоляционных мероприятий. Протестные акции начались в США и распространились по всему миру. Интенсивность развития протестов была различна, и события разворачивались по-разному в странах Европы. Где-то идеи и деятельность данной организации имели больший отклик в социуме, а где-то меньший. И реакция самого общества на риторику движения и попытки диалога с ним, в частности на территории США, были неоднозначны и непродуктивны.
В данном случае можно говорить не только о политике двойных стандартов, но и о деспотическом давлении и насилии, в частности над инакомыслием. Ярким примером было увольнение преподавателей и учёных по обвинению в расизме, которые имели иное мнение, нежели представители BML. Иногда под ударом оказывались даже преподаватели, не желающие «давать поблажку» студентам, которые якобы тяжело переживают события 2020 (смерть Дж. Флойда). С другой стороны, за особую лояльность, поддержку и пиетет по отношению к данному движению вознаграждали. Преподаватель Кембриджского университета, призывавшая «отменить белизну» и пропагандирующая лозунг «жизни белых не важны», за свои горячие заявления получила профессорскую должность2.
В американском научном сообществе в целом присутствовал страх перед подобными тенденциями борьбы с инакомыслием. В частности учёные требовали создать орган, который будет следить за проведением расследований, связанных с расовой дискриминацией. Тема расизма очень остра для научного сообщества Запада, и от неё пострадало множество учёных (например, Нобелевский лауреат, генетик Дж. Уотсон). Таким образом, репрессивная риторика не оставляла большого выбора: либо необходимо было поддерживать подобное движение со всеми его радикальными идеями и действиями, либо сохранять молчание, которое расценивалось как некое молчаливое согласие. В ином случае личное мнение воспринималось как прямая угроза, которую необходимо ликвидировать.
Движение BLM является своеобразным ингибитором активности и плюрализма современного социума в различных странах. Можно предположить, что данное явление, как и подобные ему, представляет собой контролируемый протест, у которого есть определённые политико-социальные цели. Они могут играть роль «амортизаторов», которые способствуют снижению иррациональных социальных всплесков, вызванных различными социально-экономическими факторами. Однако в данном случае идеологическая смысловая нагрузка затрагивает глубинные перемены современного общества. Таким образом, для выявления внутреннего примата необходимо проанализировать самые яркие черты современных протестных движений (на примере BLM) для выявления этиологических и телеологических специфик их построения, а также для фиксации тенденций, которые они инициируют.
Девальвация культурных ценностей, реверсивный расизм и обесценивание личности
Важно отметить, что подобные протесты имеют негативные тенденции, как в идеологическом, нравственном, ментальном, так и материальном планах, в частности они наносили ущерб культурным ценностям и памятникам. Протесты BLM достаточно ожесточённо и с кампульсивной маниакальностью уничтожали различные культурные памятники, статуи, стелы и т. д. Иногда даже не обращая внимания на то, связаны ли они с периодом рабства. Р. Барт указывал, что позиционирование культуры как болезни – это характерный симптом фашизма [1, с. 152]. У данного течения наблюдается особая ненависть к культуре и истории стран, в которых они ведут свою активную деятельность, что эманирует в массовые акты вандализма.
В действиях и лозунгах самого движения присутствует реверсивный расизм. А. Рэнд отмечала, что современные борцы за права афроамериканцев отличаются тенденцией установления расовых квот3, преимуществ только «по цвету кожи» (например, при приёме на работу), требованием наказания для белых людей за грехи предков и т. д. [18, с. 243–245]. Стоит подчеркнуть, что преступления предков распространяются на всю условную категорию «белая раса», и даже на страны, которые никогда не имели ничего общего с рабовладением. Более того, под эту категорию подпадают и народы, которые просто «светлее цветом кожи», но поддерживают официальную власть и закон. В данном случае наличествует не идеологическая и нравственная проблематика, а чисто социально-политическая, которая использует проблему диалога различных народов/рас для приобретения власти и материального благополучия.
Квоты предполагают определённые цифровые и процентные значения, которые должны соблюдаться в отношении определённой категории граждан. В данном случае наличествует ярко выраженная мелкобуржуазная философия, которая основана на принципе коммерциализации и рыночных отношений. Р. Барт отмечал, что мелкая буржуазия тщеславится тем, что избегает качественных ценностей, заменяя их статикой уравнений, а мир сводится к чистому равенству, соразмерному его коммерциализации, где всё имеет арифметическое значение [1, с. 159]. События и последствия 2019–2020 гг. отчётливо указали на интенсивную интеграцию расовых квот, что актуализирует данное высказывание. После активных действий BLM в 2020 году, в таких сферах, как мода, кино, развлечение и т. д. появилось большое количество представителей не европеоидной расы4, наличие которых в таком количестве ранее не наблюдалось. Более того, в риторику сторонников данной организации добавились радикальные заявления о том, что именно защищающаяся (ущемлённая) категория граждан имеет исключительное право на определённую деятельность. Ярким примером является киноиндустрия. Выдвигалось требование, что озвучивать афроамериканцев должны именно они сами, в противном случае – это дискриминация. Однако обратная ситуация, когда они озвучивают, и, более того, играют5 персонажей другой расы является совершенно нормальным явлением (Карл Маннергейм в фильме «Маршал Финляндии», князь Ростов в сериале «Великая», Белоснежка, Русалочка и т. д.). Более того, американская киноакадемия вводит ряд гендерных, этнических и расовых требований для номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Подобное объяснимо тенденцией «разбавления» искусства для того, чтобы приобщить его массам и сделать популярным и жизненным [16, с. 114]. В данном случае, эту самую «жизнь» интегрируют актуальные социально-политические компоненты.
Ситуация, при которой квоты и двойные стандарты становятся доминантой выбора, может привести к потере эффективности, как отдельной сферы деятельности, так и всего социума. Каждый индивид добивается успеха в большинстве случаев своими силами. Это делает индивида ценностью, а не то, что его раса имеет особые привилегии перед другими. Обратное заявление обесценивает все те достижения, которых добились индивиды как личности не зависимо от этнических, гендерных, расовых и иных особенностей. В ситуации доминирования квот и двойных стандартов «лучшим» может быть только раса, но не отдельный индивид.
Феномен наказания за грехи предков имеет неоднозначное содержание. Вина определённой категории/группы людей присутствует перманентно и изначально. Не важно, действительно ли предки имели отношение к дискриминации. Вина инкриминируется индивиду антефактум, позиционируя как постфактум6. Это обвинение в неком «коллективном расовом преступлении» [18, с. 245]. В результате индивида низводят до части массы, и относятся к нему аналогично, т.е. как к некой безликой, не имеющей индивидуальности единице.
Процесс нивелирования индивидуальности инициирует ещё один процесс – девальвация личности как таковой. А. Рэнд отмечала, что те, кто отрицают права личности, не могут претендовать на защиту прав меньшинства [18, с. 242–243]. Если некая группа требует нарушения прав других, то она отрицает и нарушает собственные права [18, с. 245]. Защита прав определённой категории базируется на защите прав личности как таковой, но, отрицая общие для всех права, невозможно защищать права самой этой группы. Понятие массы связано с количественным, переходящим в качественное. Образуется совместное качество, ничейное и отчуждённое, ничем не отличающееся от остальных и повторяющее общий тип [15, с. 6]. К. Г. Юнг указывал, что в массах неизбежно происходит нисхождение до уровня психологии внушаемой, безответственной, иррациональной толпы, и что ей правит participation mystique, т. е. бессознательная идентификация [22, с. 264–265].
В риторике организации BLM отчётливо проявляется тенденция к «усреднению» индивида, чьё мнение не релевантно их идеологии или противоположно ей. Происходит девальвация личности и последующая репрезентация её как элемента массы. Это необходимо для отождествления несогласных с неким образом «толпы угнетателей» и соответственно опосредовано, а иногда и непосредственно, экстраполировать на них ответственность за дискриминацию. Человек становится лишь единицей массы (толпы), в которой количественное является качественным, а поэтому если массе и свойственны какие-то аспекты дискриминации и нетерпимости, то и данный индивид автоматически определяется как их носитель7. Личные его качества вытесняются и не рассматриваются. Они нивелируются для того, чтобы инициировать данный процесс отождествления с массой. Но любое несогласие с таким уподоблением схоже с бунтом в интерпретации А. Камю: бунтарь всегда против того, чтобы кто-то посягал на его сущность, целостность и ценность [10, с. 23–24]. Неприятие такого положения вещей является адекватной реакцией на стремление девальвации как своей, так и иной личности.
Для укрепления и реализации вышеизложенного феномена формируется таргетированный контр-стереотип, который официально выступает как метод развенчивания укоренившихся стереотипов, которые приписываются определённой группе людей. Однако, несмотря на то, что он позиционируется, как нечто новое и позитивное, что должно победить устоявшееся предвзятое мышление и оценку, по сути, это «противоядие» является лишь некой симуляцией, копией первоначальных стереотипов, с которыми и стремились бороться. Поэтому процесс «борьбы со стереотипами» превращается в обычную спекулятивную операцию по созданию модели, в которой первоначальные субъект и объект стереотипа меняются местами. Таким образом, подобная «борьба» не только является лишь опосредованной апологетикой, но и становится катализатором новых процессов стереотипизации, продукты которой просто наслаиваются на предыдущие.
Культ насилия и радикализм
Стоит обратить особое внимание на возникающий культ насилия и жестокости, который присутствует в некоторых протестах, в том числе организации BLM8. Как подчёркивал Х. Ортега-и-Гассет, вторжение масс во все сферы общественной жизнь всегда имеет характер прямого воздействия [15, с. 74]. Когда массы торжествуют, то торжествует и насилие, становясь единственным доводом и единственной доктриной [15, с. 123]. Насилие не только физического характера, но и психического, идеологического, ментального и т. д. Доминирующим зачастую является социальное и моральное насилие9 для подавления воли инакомыслящих. При этом навязываются ценности, которые искажают и деформируют понятие морали и производное от неё, буквально отрицая основные права любой личности. К. Манхейм отмечал, что общество старается рационализировать определённые психические силы и порывы индивидов, однако до конца это сделать не представляется возможным (остаётся пространство для политической иррациональности в виде насилия), поэтому общество пребывает в атмосфере ожидающего своего часа насилия [11, с. 20–21]. Таким часом для обществ различных государств стала пандемия 2019–2020 гг., явившаяся катализатором иррациональных взрывов (эпидемий) и давшая легитимность на акты против юридического закона и личности как таковой.
Репрезентатом особой жестокости и склонности к насилию BLM служит как идеологическая нагрузка, так и действия (массовые погромы, вандализм, террор и т. д.). Риторика некоторых особо радикальных представителей сопровождалась угрозами расправы с теми, кто открыто заявляет «Все жизни важны»10. Ещё один важный пример, убийство девушки в штате Индиана (США), за то, что вместо лозунга движения BLM она произнесла вышеуказанную фразу. Но стоит указать, что в первом случае речь идёт о потенциальной физической расправе, т. е. она не имеет конкретного адресата, но стать им может любой, чьё мнение, высказывание или действие будет расценено как акт против идеологии данного движения. И в данном случае, проявляются типичными признаками массовости и мелкобуржуазной философии. Действуя сама по себе, масса прибегает к единственному способу, так как других не знает, – к расправе [15, с. 123]. Р. Барт указывал, что мелкой буржуазии больше всего нравится то, что содержит в себе предел, что обусловлено простым механизмом возврата, где всё оплачено, а стилистические фигуры и синтаксис языка призваны служить опорой для морали возмездия [1, с. 149]. Диапазон причин деструктивности в таком случае может быть крайне широк: экономические, политические и даже личные. Они драпируются в форму «благородного протеста и борьбы», хотя по факту являются лишь удовлетворением своих потребностей или личной вендеттой. В риторике BLM все действия разрушительного характера, уже оплачены историческими событиями прошлого. Поэтому нет никакой несправедливости, нет нарушения закона и нет ответственности, так как странам и определённым расовым категориям был выставлен счёт, и теперь они обязаны его оплатить.
Насилие подобных протестов носит деструктивный характер. Э. Фромм подчёркивал деструктивность отмщения, так как месть совершается после того, как причинён вред, и она отличается значительно большей жестокостью [20, с. 357]. Подобное относится и к закону о наказании (мстительной памяти), направленному на потомков [20, с. 358]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что движение, обладающее вышеуказанными характеристиками, не только не несёт в себе тенденцию «защиты прав и свободы», но и имеет иные телеологические и этиологические приматы.
Особенно стоит подчеркнуть крайний радикализм данного движения. Ф. Ницше указывал, что абсолютное пресечение, оскопление и подобные радикальные методы необходимы тем, кто неспособен к радикальному лечению [12, с. 37]. Более того, самые ядовитые слова против чувственности были сказаны не аскетами, а людьми, которые не могли, но которым было бы нужно быть аскетами [12, с. 37]. Подобное наблюдается не только в сфере чувственности, но и в сфере мышления и отношения. Часто радикализм позиционируется как некая уверенность, жёсткий склад характера, который неукоснительно стремится к поставленной цели. На первый взгляд вышеуказанное может показаться проявлением наивысшей силы или воли индивида. Однако, в действительности, это неспособность к герметизму, стремление к анархичному волюнтаризму и гиперболическому эгоцентризму. Можно сделать вывод, что чрезмерная склонность к радикализму, как в идеологии, так и действиях, указывает на реверсивное внутреннее содержание действий и идеологии современных протестных движений. Борьба против дискриминации при таком положении вещей и в такой форме – это желание дискредитировать, обвинить и наказать того, кто является или кого считают источником первого. Это социально-политическое доминирование, для которого применяются все возможные средства, при этом теми категориями людей, которые движимы тенденциями деструктивности.
История как рудимент, новая религия и «фетиш» толерантности
Необходимо остановиться ещё на одной деструктивной характерной черте, которая присутствует в риторике и практике организации BLM. Она заключается в остром неприятии и ненависти к истории как явлению идентичности и консолидации общества и государства. Н. А. Бердяев указывал, что в истории присутствуют иррациональные силы, которые хоть и подавляются, но время от времени происходит их эманация в форме войн, конфликтов и революций [2, с. 86]. История – это действительные события, которые включают в себя не только рациональные и систематизированные аспекты, но и множество других психических, культурных и индивидуальных аспектов. В своём рафинированном виде она представляет собой не просто повествование о прошлом времени, но и является инструментом консолидации определённого объединения. Иррациональное в истории трансформируется в разумный и логический факт, зачастую упуская иную специфику того или иного процесса. Оно оправдывается историей, драпируя его объективацией и рациональностью. Подобное можно заметить и в современном мире, когда деструктивные бессознательные эмоциональные взрывы оправдываются историей, одновременно как прошлой, так и будущей, ведь лозунг большинства подобных объединений – это создание новой истории.
Феномен истории в подобной парадигме рассуждений подвергается глубокой деформации, целью которой является спекуляция и пропаганда определённой идеологии. Х. Ортега-и-Гассет отмечал, что единство государства заключается не в общей крови, языке или общей памяти, ведь объединяющим является некий замысел (будущее), где объединение является неотъемлемым условием [15, с. 196–198]. Отчасти можно согласиться с данным умозаключением. Однако полное устранение истории – это ликвидация группового опыта, который был накоплен в течение долгого времени. Кроме того, история, так или иначе, влияет на самоидентичность индивида, выступая своеобразным корнем и истоком происхождения, наряду с индивидуальным опытом становления каждого в отдельности. Устранение истории – это уничтожение нации, народа, общества.
Р. Барт отмечал, что существует несколько способов отнять у народа историю – это либо представить её в качестве гротескного спектакля, либо просто как отражение истории иного народа; оба этих подхода снимают необходимость более глубокого погружения в сущность положения вещей [1, с. 237]. Подобное репрессивное изгнание памяти прошлого (схожее по характеристикам с социальным принципом «отмены») представляет собой целенаправленное действие, в процессе которого история растворяется в хаотичности событий, в частности протестных движениях и последующих быстро инициируемых социальных изменениях. Когда исчезает история, как отдельный индивид, так и вся нация приобретают качества «пластилина», из которого можно создать нечто новое.
Организация BLM методично истребляла памятники, приуроченные к основным крупным вехам развития государств, в частности США, буквально стирая хронологию, девальвируя события, придавая их небытию. Происходило это в форме гиперболизированного спектакля, опираясь на те западные ценности, которые навязывались европейским и иным странам многие годы. Ценности в данном случае выступали в качестве алиби ответственности за действия и отменяли необходимость проникновения в суть вещей. Симптомами этого процесса деструкции являлись реальные акты: уничтожение памятников генералам гражданской войны11, сжигание Библии и национального флага, сбрасывание с постамента и утопление в фонтане памятника Христофору Колумбу и т. д.
Библия, как и национальный флаг в США – это символы, которые традиционно установились в сознании граждан данной страны, как отражение государственности, власти, нации и народа. Они также символизируют мощь и силу данного государства на мировой арене. В США существует этикет флага и специализированный Кодекс флага Соединённых Штатов (федеральный закон). Их уничтожение является символом борьбы не с дискриминацией, а с государством и официальной властью. Иными словами со всем тем, что они олицетворяют – с Соединёнными Штатами. Дж. Ф. Бирлайн указывал, что «гражданские мифы создают основу для образования государства и обеспечивают полномочия государства, объединяя всех граждан с помощью общего символизма» [3, с. 30]. В подобной мифологии уничтожение символов государства – это разрушение самого государства, его власти и силы. Такие акты являются спекулятивной презентацией его бессилия. Подобное необходимо с целью интегрирования в сознание граждан страны представление о слабости собственного государства, а соответственно, и идеи необходимости его преодоления и построения нового.
Памятник Христофору Колумбу был выбран также не случайно, ведь он тот человек, который открыл для Европы «Новый Свет», то есть Америку. Он опосредованно стоит у истоков создания государства США. Осквернение и уничтожение данного памятника это ещё один символ, подразумевающий уничтожение корней данного государства и обесценивания его истоков. Кроме того, в данном случае имеет место некий призыв и одновременно знамение будущего разрушения и переустройства, как некой экзистенциальной неизбежности, через «перепись» истории, что в последующем может, а скорее должно, распространиться на всю Европу. Подобные разрушения культурных ценностей – это уже не акт вандализма, а обличённые благородством перекройка и создание новой истории.
Наличествовала попытка установления собственного памятника, но не в США, а в Англии (Бристоль). Памятник политику, филантропу и торговцу (в том числе рабами, что и являлось для данного инцидента определяющим) Э. Колстону был сброшен с постамента, расписан различными надписями и утоплен в Бристольской гавани. На его месте появился памятник активистке BLM Джен Рид под названием «всплеск силы». Автор новой скульптуры передал в статуе её образ в тот момент, когда «старый» памятник был сброшен, а она встала на его место и подняла руку вверх, сжав пальцы в кулак, как жест солидарности12. Хотя памятник подняли из воды, однако его не только не вернули обратно, но и оставили в том состоянии, каким он стал после встречи с данным движением (исписан граффити, обвязан верёвками и т. д.). В настоящее время он находится в музее Бристоля, но в таком виде он уже не является отражением истории страны, а стал лишь памятником действий и протестов движения BLM. Интересно, что мэр города объявил подобный акт вандализма «актом исторической поэзии».
Стоит указать, что в подобном высказывании прослеживается явное прагматическое ретуширование объективного положения вещей. Г. В. Ф. Гегель отмечал, что художественное произведение принадлежит всей нации, а не узкому кругу людей, что применительно и к изображённой исторической действительности, и она должна быть нам понятна и ясна, так как она принадлежит нашему времени и народу (в ней необходимо чувствовать себя как в родной почве, а не столбенеть перед чуждым миром) [7, с. 283–284]. Однако подобная «историческая поэзия» является достоянием именно отдельных групп. Она касается только их времени и объединения, тогда как все остальные имеют лишь второстепенный, подчиненный характер. Это поэтика новой расовой антиутопии, когда понятие человека со всеми его правами, качествами и обязанностями отвергаются как рудимент, и возвышается элитарный класс/тип в обществе. Г.В.Ф. Гегель утверждал, что искусство призвано раскрывать истину в чувственных формах [6, с. 137], если же оно имеет служебный характер достижения цели, то достижение желаемого может быть посредством обмана [6, с. 19]. Ф. Ницше хоть и подчёркивал важность эстетического и приукрашивания жизни для преодоления нигилизма и абсурдности в ней, однако чем абстрактнее истина, тем сильнее ею необходимо обольстить чувства [13, с. 112]. Обращение к эстетизации неслучайно, ведь её радикальная форма способствует снятию целого ряда одних феноменов и утверждению других: экзистенциальное алиби, снятие ответственности, завуалирование объективных фактов и т. д. Если же цель подобной «исторической поэзии» в ней самой, хотя в данном случае прагматическая риторика явно прослеживается, то это деструктивное произведение понимаемо/принимаемо немногими, в виду того, что целевая аудитория крайне «элитарна» (выборочна), остальные не принадлежат к ней.
Другой пример – импровизированный мемориал Дж. Флойду на месте его смерти в Миннеаполисе, штат Миннесота. Всё вышесказанное указывает на серьёзную тенденцию искоренения истории, девальвацию прошлых достижений и попытку установления символов новейшей истории и новой власти и порядка13. Для этого все средства являются допустимыми. Т. Гоббс отмечал, что в естественном состоянии человек имеет право пользоваться любыми средствами для сохранения жизни и неприкосновенности [8, с. 28–29], и более того это также справедливо по отношению обладания тем, что является необходимым для их сохранения [8, с. 30]. Если же безопасность гражданина отсутствует, то он имеет право защищать себя по собственному усмотрению [8, с. 113]. Любой, кто отказывается от законов государства, как бы автоматически становится предоставленным самому себе в аспекте защиты. К любому же, кто не согласен с государством, оно имеет право применить первоначальное право войны как с врагом [8, с. 89]. М. Вебер отмечал, что государство – это союз, который имеет абсолютную монополию на насилие [5, с. 16]. Сторонники BLM используют риторику, которая подразумевает желание некой автономии, отдельности и исключительности в правовом и социально-политическом аспектах, при этом утверждая «обязанности» государств перед ними. Какое-либо действие, связанное с восстановлением порядка/закона или попытки защиты прав человека, расценивается как жестокость, насилие и ущемление прав подобных групп, даже когда они сами инициируют нарушение юридических, правовых, нравственных и иных норм. При всей полноте возможностей ликвидации беспорядков, власти США действовали чрезмерно мягко. Такой «демократизм» скорее больше укреплял позиции анархизма и своеволия, тех, кто имманентно выступал против государства (власти теряли авторитет даже в глазах не протестующих), чем разрешал назревший социальный конфликт.
Н. А. Бердяев отмечал, что ложь бывает очень полезна для организации жизни, и она играет огромную роль в истории [2, с. 28]. Стоит отметить, что через процесс искусственной мифологизации, даже самые пёстрые иллюзии могут приобрести статус реального массива в сознании индивида. Не представляет сложности интегрировать любую идею в подготовленное для этого сознание14, стимулируя этот процесс «прямым воздействием» (насилие, деспотия и т. д.).
Н. А. Бердяев указывал, что история преступна, она осуществлялась в насилии и крови, и не обнаруживала склонности щадить человека [2, с. 78, 80]. Более того, все большие движения истории, которые совершались во имя человека, кончались тем, что тяжело ударяли по человеку [2, с. 87]. Особенно это вызывает беспокойство, когда в подобном насилии доминантой презентуются высшие нравственные ценности. Ф. Ницше отмечал, что, чтобы создать нравственность, необходимо иметь неограниченное стремление к противоположной крайности, и что все средства, с помощью которых человечество должно было сделаться нравственным, были совершенно безнравственными [12, с. 59]. Согласиться с этим высказыванием можно лишь отчасти. Действительно, зачастую под маской абсолютных и высших (в т.ч. моральных) ценностей может скрываться желание власти, доминирования, а также иррациональные и эмоциональные тенденции. Абсолютные ценности в данном случае – это лишь фасад, служащий не только инструментом получения желаемого, которое может иметь аморальный характер. Они также выступают в качестве алиби, которое снимает ответственность за любые действия.
Президент отделения BLM в Нью-Йорке в своём интервью для Fox News заявил, что если страна (США) не предоставит организации требуемое, то они уничтожат систему и заменят её. При этом, по его же словам, это можно трактовать как образно, так и буквально15. На вопрос о том, не стоит ли идти путём Мартина Лютера Кинга-младшего и объединиться в любви к Богу, он отвечал, что Иисус – это «самый известный черный радикальный революционер»16. Истинная цель движения – это освобождение афроамериканского народовластия любой ценой. Т. Гоббс указывал, что «кто же с достаточной ясностью выражает волю сохранить за собой право на цель, тот достаточно ясно объявляет, что он не отказывается от права на средства, необходимые для достижения этой цели» [8, с. 120].
В такой мультикультурной стране как США сложно говорить об обоснованной необходимости «освобождения африканского народовластия». Во-первых, подобная риторика имеет явно спекулятивный примат, корни которого уходят в тенденцию улучшения экономического и статусного положения. Политико-правовой аспект в данном контексте лишь синоним экономического. Во-вторых, А. Рэнд утверждала, что в конфликте интересов между людьми, разумный человек никогда не ищет незаслуженного [18, с. 94–95]. Вопрос легитимности заявленных требований представителями организации BLM сомнителен. Подобные радикальные условия (граничащие с абсолютным деспотизмом) нарушают правовые нормы, по которым функционирует государство. Они также наносят удар по нравственным установкам, девальвируя значение личностей, не входящих в защищаемую группу, буквально делая остальных людьми «второго сорта», ибо их правами и ценностью можно пренебречь.
В-третьих, Х. Ортега-и-Гассет утверждал, что комфортные условия достатка современности побуждают массу считать такое положение вещей не искусственным, а естественным; они больше заботятся о собственном благополучии, чем о его истоке, они видят единственной обязанностью требовать блага лишь по праву рождения [15, с. 57–58]. Для массового человека неприемлем отказ от изобилия. Если же он его не получает, то прибегает к единственному инструменту в своём арсенале – насильственным действиям. Отдельные группы/объединения людей, которые используют насилие для получения желаемого – это маркёры развития подобной инфантильной тенденции и симптом вырождения рациональности. Они движимы иррациональными взрывами и мотивами в погоне за желаемым.
Стоит подчеркнуть, что такие слова как «освобождение» и его синонимы представляют собой лишь алиби, которое оправдывает истинную цель – борьбу за власть. В речи президента отделения BLM явно прослеживается свойство, характерное для масс, а именно доминирование прямого воздействия как главного и единственного инструмента «диалога» и воздействия. Ещё один важный пример – призыв активиста этой же организации (бывшего священника) сносить памятники Иисусу, так как его внешность слишком европейская, а это символ превосходства «белой расы».
Оба примера указывают на стремление к разложению очень важной для идеологии США догмы – религии. Дело в том, что данная страна имплицитно рассматривает себя богоизбранной нацией. Все её действия совершаются под эгидой двух сил – самой себя (США как символ государства и народа) и Господа Бога (исполняя Его волю, делая что-то с Его поддержкой и т. д.). Религия – символ социально-политической власти, который устанавливает, отражает и поддерживает устоявшийся порядок. Однако полностью её уничтожить не представляется возможным по ряду причин (в частности, по причине возможности эффективного использования в собственных целях), поэтому эффективнее заменить в ней определённые детали, которые будут интегрировать и актуализировать новую систему социума.
Сложно представить, что Христос может иметь иную внешность, учитывая, где он жил и в какое время. Подобные подмены представляют собой экспансию в сферу религии с целью абсолютной узурпации и трансформации традиционных элементов европейской культуры для формирования новой собственной доминирующей статусности. Так в США существует религиозная организация «Чёрные Евреи», которые не только участвовали в протестах BLM, но с ними связывают преступления на почве антисемитизма и враждебного отношения к правоохранительным органам. У данной организации достаточно сложная история отношений с Израилем, и они идентифицируют настоящими евреями-израильтянами только себя, считая традиционных представителей мошенниками и обманщиками. Сами же евреи не признают данную организацию своей частью [27, с. 66–67]. Некое улучшение статусности ищется не только в социально-экономической и правовой (при этом степень подобного улучшения для себя имеет превосходящее значение), но и в религиозной сфере.
Вышеуказанные феномены подчёркивают несколько важных моментов. Во-первых, при подобном положении вещей религиозное принимает элитарно-расовое значение. Иными словами утверждается избранность определённой группы, даже в рамках мировых религий. Это позволяет инициировать легитимность исключительной доступности к материально-социальным благам, которая будет иметь «священный» характер. Во-вторых, идея определённой богоизбранности (как у «Черных Евреев»), как и многие подобные концепции, является фундаментом для интегрирования искусственного мифа о доминирующей особенности и приоритете риторики группы (в данном случае BLM). Более того, такие идеи, хоть и имеют узкий круг распространения (например, в рамках небольшой группы или организации), но в рамках спекуляции и мистификации будут экстраполированы на более широкие круги (например, на всю расу).
В-третьих, религиозный компонент таких новых (чисто расовых «религий», ведь речь не идёт о нации или этносе) представляет собой синтез заимствования европейских религиозных традиций и концепций. Это некое зеркальное отражение европейского религиозного мира, которому придаётся иной, иногда обратный вектор. Такие концепции характеризуются серьёзной деривацией первоначального значения и синкритическим характером. Иногда синтез может включать парадоксальное смешение исключающих друг друга идей. В-четвёртых, адаптация религий Запада представляет собой тенденцию построения контркультуры европейскому типу, предполагающей искоренение устоявшихся традиций и замену их новыми, сформированными в рамках приоритета конкретных групп (на расовой основе). Религиозный компонент является частью культуры, и иногда он настолько фундаментален, что может иметь для неё доминирующее значение. Поэтому религиозное тоже нуждается в реформации, а новая формация должна укрепить новое социально-политическое устройство и приоритеты.
В-пятых, стоит отметить (на примере «Черных евреев») тенденцию спекулятивного построения нового типа человека, некоего суррогата «сверхчеловека». Наблюдается создание искусственной мифологемы об исключительной категории людей: ущемляемой, но богоизбранной, обладающей наивысшими качествами (интеллект, сила и т. д.), но подавляемой системой (в частности «слабым» большинством) и т. д. Несомненно, что подобное является зеркальным отражением арийской идеологии. Но история показала, насколько тесно связаны такие концепции с идеями нацизма и фашизма, и к каким деструктивным и ужасающим последствиям приводит их актуализация. Религия часто была маской для достижения совершенно не священных целей.
В процессе протестов движения BLM инициируется феномен «фетиша» толерантности, который имеет тенденцию чрезмерной17 деформации, как в отношении процессов индивидуального сознания, так и в отношении объективной реальности. Стоит указать, что «фетишизм проявляется и в тех ценностных ориентациях, которым отдает предпочтение человек, в мотивации на престижное потребление, на приобщенность к миру богатства и власти» [14, с. 184]. Несомненно, что в требованиях сторонников ВLM, как явно так и латентно, присутствует подобная телеология и этиология, инициирующие радикальный тип поведения. Терпимость в рамках диалога социума и представителей BLM исключается как рудимент (ведь она наследие европейского традиционного общества). Она заменяется «новейшей» спекулятивной и односторонней толерантностью, которая в действительности провозглашает ценностный приоритет одних, в частности определённой группы, над всеми остальными. Закон запрещает только то, что можно было сделать под давлением своих влечений [19, с. 172], а табу – это общая форма законодательства, одно из ранних, которое впоследствии служило более молодым социальным тенденциям [19, с. 57–58]. Достаточно сложно юридически при демократическом устройстве общества и при свободе слова запретить иметь своё мнение и высказывать его, особенно если оно направленно в адрес деятельности определённой группы, которая наносит ущерб как высказывающему (индивиду), так и обществу. И в этом случае происходит спекулятивное и прагматическое обращение к толерантности как синониму морали, которая позволяет исключить вышеуказанную свободу. Апелляция к морали часто происходит в тех случаях, когда необходимо оправдать насилие [9, с. 693].
Дополнительным алиби может служить религиозность или сакральность. Религия также может использоваться с целью обоснования статуса невиновности для определённой группы. В синтезе с толерантностью она производит спекулятивный «весомый аргумент» в пользу того, кто использует оба этих феномена. Обращение к толерантности как к системе морали – это не только инструмент снятия ответственности за аморальное, но и механизм подавления несогласных. Таким образом, налагается табу на саму нравственность как таковую, нормы которой распространяются на каждого индивида. «Моральность» современной толерантности очень схожа с сексуальным фетишизмом, так как «возбуждение нравственности» происходит лишь только по отношению к части человечества.
Несомненно, что терпимое и нравственное отношение к тем, кто отличается, является необходимым элементом как социальной, так и индивидуальной экзистенции. Однако, когда феномен терпимости доводится до предела, возникает процесс фантомной радикальной толерантности, при которой любое не соответствующее данной концепции явление, действие или высказывание расценивается как проявление аномалии, и моментально инкриминируется обвинение в расизме и нетерпимости. При этом необходимость какого-либо этического и рационального анализа отметается как нечто излишнее. Как правило, в таких случаях невозможен какой-либо диалог. Наличествует лишь монолог, а точнее оглашение вердикта и инкриминирование вины. В современном мире толерантность стала феноменом массовым. Но это не терпимость как таковая, предполагающая нравственное отношение и поведение. Она вырождается, в частности под влиянием различных факторов социальной и прагматической пропаганды, в одностороннюю аморальную обезличивающую спекуляцию. Она обретает лишь инструментальный характер, применимый как алиби ответственности для одних, и как инструмент подавления других.
Заключение
Полученные результаты можно экстраполировать и на иные движения подобные BLM. Это легитимно по причине того, что все они имеют одинаковый каркас, фундамент, внутреннее содержание, этиологию и телеологию, драпированные некой внешне, острой, центральной, но в действительности лишь формальной идеей. Она выступает лишь как инструмент реализации иных целей, в частности социально-политически прагматичных, но никак не связаных с изначально заявленной проблематикой. Иными словами «внешняя оболочка» может быть связана с гендерными, расовыми, сексуальными и прочими социальными проблемами, однако схема реализации деятельности, некая программа таких движений будет идентична, с небольшой разницей (необходимо учитывать специфику и поправку на конкретную проблемную область). Итак, по результатам данного исследования можно установить следующие характеристики и одновременно внешние маркёры современных деструктивных протестов. В структуру таких явлений входят следующие элементы. Яркое проявление реверсивного расизма, который стимулирует актуализацию мелкобуржуазных принципов коммерциализации и элитарного квотирования. Наличествует категорическое требование сатисфакции за «грехи предков» (прошлого), при этом вина устанавливается изначально в независимости от действительной причастности объекта/субъекта обвинения. Наблюдается установка протестными движениями на девальвацию личности, которая сопряжена с двумя тенденциями. Первая связана с процессом «усреднения» человека, т. е. превращение индивида в единицу массы (толпы). Вторая – эскалация стереотипизации, в результате контр-стереотип есть зеркальное отражение укрепившихся стереотипов. Доминирует культ насилия как единственный инструмент «диалога». В результате наличествует искажение нравственных ценностей, в частности такой феномен как расплата (месть) отождествляется со справедливостью. Наблюдается паразитирование на феномене истории, в частности подобное становится благотворной почвой для девальвации «старой» истории, с целью создания «новой». Обращение к нравственности носит экономический и политический характер. «Фетиш» толерантности является эффективным инструментом элитаризации определённых групп. Религия в рамках риторики подобных движений требует реформации, но эти метаморфозы имеют следующие цели: установление элитарно-расового (классового) статуса, идее богоизбранности, заимствование и искажение религиозных традиций, создание контркультуры, внедрение идеи нового типа человека.
1 Данное общественное движение в данной работе имеет статус протестного по нескольким причинам. Во-первых, сама организация позиционирует себя как группа, выступающая (борющаяся) за права афроамериканских граждан. Во-вторых, несмотря на то, что некоторые исследователи утверждают, что затрагиваемые BLM проблематики имеют актуальность и вне протестных периодов [25] (правда, хронологически ограничивая рассмотрение актуализации только после, но не до протестов), тем не менее, протест в различных формах является основным инструментом риторики данной группы. В-третьих, СМИ позиционируют данную организацию именно как протестную, так как освещают в основном её противостояние расизму и социальной расовой политики. В-четвёртых, даже обыденное сознание (в частности, из-за интенсивного интегрирования определенной информации СМИ) ассоциирует данное движение именно с протестами, но не с какой-либо иной социальной или политической активностью. Данное исследование анализирует идеологический корпус, а также реализацию основных идей этого движения, чтобы выявить внутреннее содержание риторики BLM с целью выявления либо истинного протестного мотива в ней, либо обнаружения иной, в том числе прагматичной телеологии. Это позволит определить статус данного движения: протестного или лишь позиционирующего себя таковым.
2 Стоит отметить, что в зарубежных исследовательских кругах наличествует не столько лояльное отношение к деятельности организации BLM, сколько радикально положительная оценка её активности. Официальной власти и социальной политике приписываются расистские тенденции, полиция обвиняется в жестокости и садизме, а силы находящиеся в оппозиции этому движению (например, политические деятели) объявляются продуктом системного расизма в США [23; 29]. По мнению некоторых исследователей, данная организация не только актуализирует антирасистские идеи в популярном дискурсе [25], но также повышает значимость иных проблематик, связанных с различием половой принадлежности, сексуальной ориентации, возрасте, национальности или криминальном статусе [24]. Во многих работах отсутствует не только критический подход к исследуемому объекту, но и игнорирование многих объективных факторов, в частности конфликты организации BLM с иными группами во время протестов, так как последних первые обвиняли в том, что своей активностью они перетягивают взор общественности на себя и свои проблемы.
3 «Расовые квоты были одним из худших зол при любом расистском режиме…Сегодня не угнетатели, а угнетённое меньшинство требует установления расовых квот» [18, с. 243–244]. С одной стороны, действительно, нельзя умалять преступление против каждой личности, которое несёт в себе рабство, и любое ограничение прав и свобод любого человека, народа или расы. Но с другой стороны, ранее ущемлённые не имеют права совершать преступление против личности, исходя только из того, что она имеет иную пигментацию кожи, и поэтому стоит ниже, а её права необходимо ущемить. Человечество прошло долгий путь к равенству, хотя и не абсолютному, но если это движение не прямая, а окружность (цикл), то есть возможность, что оно вернётся к тому, от чего двигалось десятилетиями.
4 Хотя вероятнее, что в данном случае речь идёт не о каком-то неожиданном «прозрении», а о мимикрии. Это маскировка позволяла различным компаниям, которые были ослаблены карантинными/изоляционными мероприятиями, избежать нового удара. Основной целью были сохранение места на рынке товара и услуг, а также получение дохода.
5 Стоит предположить, что если «белый» актёр сыграет роль афроамериканца, особенно если это культовая личность, резонанс будет огромного масштаба, последствия которого инициируют деструктивные тенденции (не только протесты, но и применение насилия и жестокости).
6 В современном западном лексиконе часто используются различные обороты речи, содержание которых отражает лишь возможность, однако достаточной для предъявления обвинений на арене политической борьбы. Эти словосочетания облачаются в некую мифологическую мантру, обретая статус истинности, которая даёт легитимность дальнейших действий. Подобное характерно и для внутренней политики западных обществ.
7 Поведение участника группы (коалиции) воспринимается как поведение всей группы, а реакция на поведение распространяется не на конкретного индивида, а на всё объединение [4, с. 174]. Именно когда групповая, расовая, гендерная и прочие идентификации других становятся доминирующими, тогда исчезает конкретная личность внутри этих классификаций. Кроме того, подобная тенденция усиливается, когда сам идентифицирующий находится внутри определённого объединения.
8 Стоит отметить, что некоторые исследователи, опираясь на анализ интернет активности в 2015–2016 году сторонников организации BLM, пришли к выводу, что представители данного движения меньше склонны к насильственным методам диалога и реже призывали к радикальным разрушительным действиям, чем иные группы (например, гендерные и ЛГБТ-сообщества) [28]. Однако такой вывод является сомнительным, учитывая то, что в качестве анализа были взяты сообщения в Twitter, которые были экстраполированы на всех представителей организации. Кроме того, при исследовании не учитывалась политика подобных контентов, склонных к радикальной толерантности и нивелированию агрессивности. Кроме того, он не является релевантным действительному положению вещей, учитывая деструктивные события 2020 года.
9 Социальное насилие может проявляться в таких аспектах как давление на власти и организации с целью увольнения людей, подрыв авторитета и карьерного роста, преследование в социуме (в том числе в интернет пространстве) и т. д. Моральное выражается в оскорблении личности индивида, снижение его ценности, ограничение свободы и т. д. Всё это ярко выражено в так называемом принципе «отмены», когда для человека создаются самые негативные условия в социуме. Он теряет доверие как индивид, перестаёт быть частью социума, а потому снимаются ограничения на определённое репрессивное отношение и поведение по отношению к нему.
10 Стоит отметить, что один учитель в США был вынужден извиниться за фразу «Все жизни важны», так как это «были неуместные слова» и это выражение имеет «глубокий политический и расовый подтекст». Подобная апологетика является настолько иррациональной и алогичной, что оправдывается только политической мифологизацией, диктующей новое устройство общества и его нормы. Действительно, подобное аморально и противоречит любым принципам абсолютной морали. Отрицание ценности жизни – это аксиологическая дискриминация и преступление против самой человечности. Сложно не согласиться со словами бывшего президента США Д. Трампа, который критикует движение BLM, в том, что это словосочетание стало «символом ненависти», при этом по обе стороны. Некоторые исследователи считают, что вся политика Трампа Д. по отношению к требованиям BLM, в частности жёсткая критика движения, является лишь некой попыткой усиления собственной популярности в рамках предвыборной компании, которая была направлена на создание «белого страха», «белой ярости», и защиту жестокости полиции и системного расизма [29]. Риторика движения BLM склонна к тому, чтобы расценивать любые оппозицию и несогласие как прямую угрозу, используя расовый вопрос как главный инструмент для ликвидации оппонента.
11 Единственная война, события которой разворачивались на территории США. Данное государство хотя и участвовало во многих конфликтах в разный период времени, но именно как некая освободительная война, национальная и фундаментальная для становления государственности была именно эта. Остальные происходили «вне дома», поэтому имеют иной примат, больше политический и экономический.
12 Данный жест имеет множество различных значений, которые трансформировались в процессе человеческой истории. Его происхождение восходит к древней Ассирии, где данный жест служил для выражения единства, силы, вызова и сопротивления перед лицом насилия. Жест и эмблема поднятого в воздух кулака использовалась различными движениями и организациями: «Рот Фронт» (немецкая коммунистическая политическая и боевая организация), Индустриальные рабочие мира, «Египетский блок», Лейбористская партия (Нидерланды), движение «Отпор!» (Сербия) и т. д. Стоит отметить также, что символ используется различными феминистическими движениями (кулак в зеркале Венеры/фемины), эко-активистами (например, радикальная организация «Earth First!»), субкультурными движениями (например, «Straight edge»/sXe) и т. д. Значение данного символа зависит от контекста, и не всегда носит чисто политический характер, хотя и не обходится без политико-социального компонента. Действительно, значение этого жеста имеет диапазон от простого приветствия до демонстрации открытого вызова, сопротивления, борьбы и силы. Так называемый «Черный кулак Власти» (в противовес «Белому кулаку» (арийскому) и учению Мартина Лютера Кинга) использовала радикальная (с элементами левого национализма и чёрного расизма) организация «Черные пантеры» («Black Panther Party for Self-Defense»), которую сторонники BLM сакрализуют. Стоит отметить, что «кулак» является одной из визитных карточек «цветных революций» (Югославия, Грузия, Армения, Киргизия, Украина, и т. д.). Цель всех этих протестов – свержение/смена власти с использованием радикальных мер и насилия. В США на протестах наблюдалась подобная тенденция, где «окрас» революции определился инициаторами этих действий. Памятник Джен Рид – это не просто символ солидарности, а скорее символ вызова и призыва к агрессивному, деструктивному и антисоциальному поведению против официальной власти и культурно-исторических традиций.
13 Некоторые исследователи утверждают, что демонтаж установленных движением BLM надписей (фресок) является примером спекулятивной политики властей в парадигме расового капитализма и бюрократии, контролирующих США [26]. Подобное положение вещей рассматривается как некое преступление, в том числе и перед историей, а точнее новой историей, которая облачена в ореол некой «святости». Таким образом, уничтожение культурных памятников рассматривается как необходимое обновление, но не преступление. И обратная ситуация, реакция и отношение складывается, если этот «памятник» относится к деятельности и идеологии данного движения.
14 Восприимчивость современного сознания характеризуется бесконечно создаваемыми, уничтожаемыми и воспроизводимыми компонентами, что его заполняют. Это бесконечное многообразие. Ещё Б. Паскаль и Д. Юм указывали, что излишнее плодородие нашего мышления является причиной заблуждения [21, с. 50], а идея, посеянная в восприимчивый ум, плодоносит [17, с. 94]. Ортега-и-Гассет Х. отмечал, что тот, кто не находит высшего начала сам, тот получает его из рук других, становясь массой [15, с. 123]. Таким образом, восприимчивое пустое сознание человека, не способное к самостоятельным поискам, объективному анализу и критическому отношению, становится «резервуаром», который заполняется внешним, чужим содержанием. Восприимчивость современного европейского индивида, которая особенно сильно заметна в рамках обыденного сознания, подготовлена ценностями, которые навязывались Европе либеральной политикой США, в частности интегрируя идею радикальной толерантности. Это явление не имеет ничего общего с терпимостью, а является абсолютизированной формой пассивности. Единственное, что остаётся большинству современных индивидов в Европе – это безапелляционное принятие, даже тогда, когда собственные права и свободы ставятся под удар, и происходит девальвация их личности.
15 В своём интервью он восхваляет исторический период 1960-х в истории США (Движение за гражданские права афроамериканцев). В частности, особенно кризисом и протестами 1968 года и Бунтом в Детройте (1967 г.). В целом данный период для этой страны характеризовался изменениями, как в социально-культурной, так и в экономической сфере. Для BLM данный период – это момент проявления силы и справедливости, буквально сакральное время. Несомненно, что были и объективные причины недовольств, которые переросли в протесты. Однако, например, бунт в Детройте был инициирован арестом посетителей нелицензированного для работы ночью питейного заведения, после чего на улицах группы афроамериканцев устроили грабежи магазинов. К сожалению, подобная подмена понятий, когда наказание за действительное нарушение закона подменяется понятием расовой дискриминации, присутствует и сегодня. Такая контаминация – это своеобразное алиби, которое используется как щит против ответственности за нарушение закона государства, которому должны подчиняться все его граждане.
16 Однако, основной целью Христа была революция духовная, но не государственная и экономическая. Более того, какого-либо насильственного радикализма в его действиях, по крайне мере описанных в самой Библии, не было. Революционные тенденции должны были иметь религиозный и ментальный характер в социуме (хотя, несомненно, это нарушало социальный, традиционный порядок, за что Христа и осудили), а в экономическом аспекте предполагалось оставлять «Кесарю Кесарево».
17 Чрезмерное не только часто не ощущается [17, с. 49–50], но и бывает желаемым [13, с. 197]. Более того, отсутствие меры является востребованным в современном обществе. Оно для него как воздух, так как имеющийся комфорт и изобилие современного индивида настолько сковывают его, что ему необходимо что-то большее, даже разрушающее его, чтобы почувствовать хоть какое-либо удовлетворение.
About the authors
Nikolay I. Petev
Vladimir State University
Author for correspondence.
Email: cyanideemo@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8711-4400
Scopus Author ID: 57209739748
ResearcherId: P-8342-2017
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy and Religious Studies
Russian Federation, VladimirReferences
- Bart, R. (2014) Mifologii [Mythologies]. Moscow: Academic project Publ., 351 p. (In Russ., transl. from Eng.).
- Berdyaev, N. A. (1996) Istina i otkrovenie [The Truth and Revelation]. Saint-Petersburg: Russian Christian Humanitarian Institute Publ., Available at: http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1947_043_00.html (accessed: 07.02.2021).
- Birlajn, Dzh. F. (1997) Parallel’naya mifologiya [Parallel mythology]. Moscow: KRON-PRESS Publ., 336 p. (In Russ.).
- Buaje, P. (2018) Ob”yasnyaya religiyu: priroda religioznogo myshleniya [Explaining Religion: The Nature of Religious Thinking]. Moscow: Alpina non-fiction Publ., 496 p.
- Veber, M. (1994) Izbrannoe. Obraz obshchestva [Favourites. The image of society]. Moscow: Lawyer Publ., 704 p.
- Gegel’, G. V. F. (2018) Lekcii po estetiki [Lectures on aesthetics]. Moscow: Eksmo Publ., 224 p.
- Gegel’, G. V. F. (1968) Estetika v 4-h tomah. T. I. [Aesthetics in 4 volumes. Vol. I.]. Ed. by M. Lifshic. Moscow: Art Publ., 312 p.
- Gobbs, T. (2001) Filosofskie osnovaniya ucheniya o grazhdanine [Philosophical foundations of the doctrine of the citizen]. Minsk: Kharvest Publ., 304 p.
- Gusejnov, A. A. (2012) Filosofiya – mysl’ i postupok: stat’i, doklady, lekcii, interv’yu [Philosophy-thought and action: articles, reports, lectures, interviews]. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg Humanitarian University of trade unions Publ., 840 p.
- Kamyu, A. (2022) Buntuyushchij chelovek; Mif o Sizife [The Rebellious Man; The Myth of Sisyphus]. Moscow: AST Publ., 512 p.
- Manhejm, K. (2009) [The rise of irrational elements in the public consciousness. The atmosphere is the expectation of violence]. Krizis soznaniya: sbornik rabot po «filosofii krizisa» [Crisis of consciousness: a collection of works on the “ philosophy of crisis»]. Moscow: Algorithm Publ., pp. 12–22 (In Russ.).
- Nicshe, F. (2014) Padenie kumirov: Izbrannoe [Fall of idols: favorites]. Saint-Petersburg: Lenizdat Publ., 224 p.
- Nicshe, F. (2018) Po tu storonu dobra i zla [Beyond good and evil]. Moscow: «E» Publ., 320 p.
- Ogurcov, A. P. (2010) [Fetishism]. Novaya filosofskaya enciklopediya: V 4-h t. T. IV [The New Philosophical Encyclopedia: In 4 vols. Vol. IV.]. Ed. by V.S. Stepin. Moscow: Thought Publ., p. 184 (In Russ.).
- Ortega-i-Gasset, H. (2018) Vosstanie mass [The revolt of the masses]. Moscow: AST Publ., 256 p.
- Ortega-i-Gasset, H. (2009) [Dehumanization of art]. Krizis soznaniya: sbornik rabot po «filosofii krizisa» [Crisis of consciousness: a collection of works on the “ philosophy of crisis»]. Moscow: Algorithm Publ., pp. 105–157. (In Russ.).
- Paskal’, B. (2009).Mysli [Thoughts]. Moscow: Astrel Publ., 253 p. (In Russ., tranl. from Eng.).
- Rend, A. (2018) Dobrodetel’ egoizma [The virtue of selfishness]. – Moscow: Alpina Publisher Publ., 267 p.
- Frejd, Z. (2014) Totem i tabu. Psihologiya pervobytnoj kul’tury i religiyu [Totem and taboo. Psychology of primitive culture and religion]. Saint-Petersburg: Lenizdat Publ., 224 p. (In Russ., transl. from Eng.).
- Fromm, E. (2016) Anatomiya chelovecheskoj destruktivnosti [Anatomy of human destructiveness]. Moscow: AST Publ., 624 p.
- Yum, D. (2007) Dialogi o Estestvennoj Religii [Dialogues about Natural Religion]. trans. by S. M. Rogovin. Moscow: Profit Style Publ., 192 p.
- Yung, K. G. (1997) Dusha i mif. SHest’ arhetipov [Soul and myth. Six Archetypes]. Moscow: Port-Royal Publ., 384 p.
- Azevedo, F., Marques, T. & Micheli, L. (2022) In Pursuit of Racial Equality: Identifying the Determinants of Support for the Black Lives Matter Movement with a Systematic Review and Multiple Meta-Analyses. Perspectives on Politics, Vol. 20, № 4, pp. 1305–1327, https://doi.org/10.1017/s1537592722001098 (In Eng.).
- Clark, A. D., Dantzler, P. A. & Nickels, A. E. (2018) Black Lives Matter: (Re)Framing the Next Wave of Black Liberation. Research in Social Movements, Conflicts and Change, Vol. 42, pp. 145–172, https://doi.org/10.1108/S0163-786X20180000042006 (In Eng.).
- Dunivin, Z. O., Yan, H. Y., Ince, J. & Rojas, F. (2022) Black Lives Matter protests shift public discourse. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 119. No 1, https://doi.org/10.1073/pnas.2117320119 (In Eng.).
- Lennon, J. (2022) Bureaucratizing Black Lives Matter murals: Racial capitalism, policing and erasure of radical politics. Journal of Urban Cultural Studies, Vol. 9. Is.1, pp. 89–110, https://doi.org/10.1386/jucs_00050_1 (In Eng.).
- Singer, M. (2000) Symbolic Identity Formation in an African American Religious Sect: The Black Hebrew Israelites In: Chireau Yv., Deutsch N. Black Zion: African American Religious Encounters with Judaism (Religion in America). Oxford: Oxford University Press, pp. 55–72. (In Eng.).
- Tillery, A. B. Jr. (2019) What Kind of Movement is Black Lives Matter? The View from Twitter. The Journal of Race, Ethnicity, and Politics, Vol. 4. Is. 2, pp. 297–323, https://doi.org/10.1017/rep.2019.17 (In Eng.).
- Vaughan, A. G. (2021) Phenomenology of the trickster archetype, U.S. electoral politics and the Black Lives Matter movement. The Journal of Analytical Psychology, Vol. 66. Is. 3, pp. 695–718, https://doi.org/10.1111/1468-5922.12698 (In Eng.).
Supplementary files