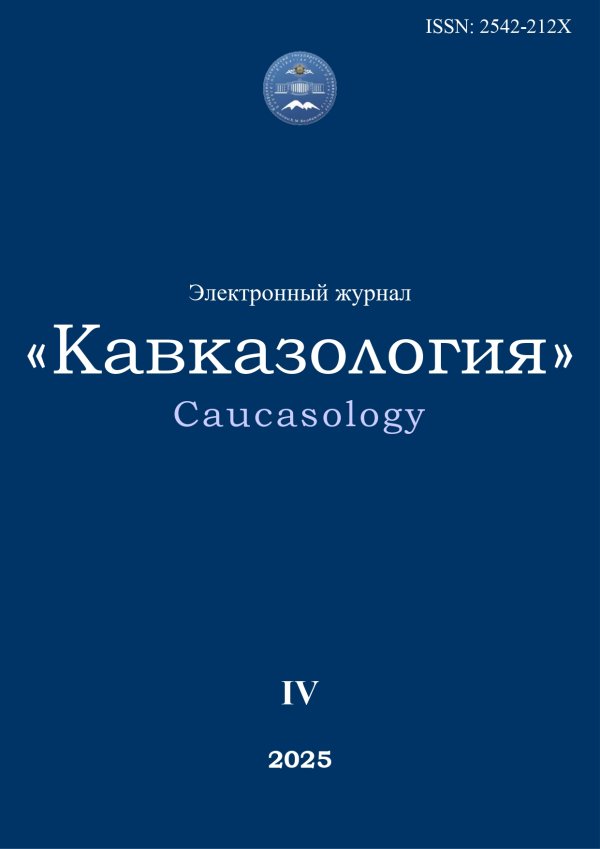Концепт времени в лирике Кайсына Кулиева
- Авторы: Бауаев К.К.1
-
Учреждения:
- Кабардино-Балкарскийгосударственный университет им. Х.М. Бербекова
- Выпуск: № 1 (2022)
- Страницы: 93-102
- Раздел: Литература народов Российской Федерации (литература народов Северного Кавказа)
- Статья получена: 13.05.2025
- Статья опубликована: 15.12.2022
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/291558
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2022-1-93-102
- EDN: https://elibrary.ru/DZGUSW
- ID: 291558
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст
На первых этапах своего формирования балкарская советская литература развивалась в полном соответствии с основными положениями теории ускоренного развития и в границах ожидаемого определяющего влияния эстетических доктрин Советского государства [Толгуров 1991: 130-131]. Сильёнейший идеологический прессинг, обусловивший системообразующие черты национальной художественной словесности в части образности, социалистической эмблематики, концептуалогии текстов, сочетался с традиционными моделями хроно-пространственного мировосприятия, восходившими к фольклорным образцам у всех народов, относившихся к категории «новописьменных» [Гусейнов 1988: 83].
Естественно, что топологические представления горцев изначально включали в себя всю возможную гамму векторальных, линейных и объёмных компонент и были вполне функциональны в границах произведений даже ярко выраженного классового характера, ориентированных на решение прикладных задач агитации и политического просвещения. Ресурс гносеологического потенциала пространственных дефиниций балкарцев, как и всех горских народов, был достаточен не только для утилитарных агиток и поэтики актуального призыва, но и вполне эффективно воплощал развитые формы моделей сугубо лирического переживания.
Совершенно иным качеством обладали временные паттерны коллективного сознания балкарского народа. Дистанция между фольклором и авторской поэзией 20-х и 30-х гг. ХХ в. была настолько мала, что за исключением культурных мемов советского происхождения, все порядки художественной рефлексии, были, по сути, прямой проекцией фольклорных структур, лишь слегка адаптированных к эстетике нового общества [Толгуров 2004: 82].
Фольклорные матрицы времени, несмотря на некоторые отличия их мифических, эпических и более поздних модификаций, отмечены, в целом, неаналитическим, нечленимым качеством. Выходя из эпохи магического сознания, фольклорное темпоральное ощущение сохраняет монолитность: «…коллективно, оно дифференцируется и измеряется только событиями коллективной жизни, всё, что в этом времени существует, – существует только для коллектива… внутреннее время индивидуальной жизни ещё не существует… Вообще не может быть ещё чёткой дифференциации времени – настоящего, прошлого и будущего» [Бахтин 2012: 455]. Следует, по всей видимости, сразу оговориться: устойчивые хронологические зачины народных текстов, типа «давным-давно», «в те времена», «это было тогда» и прочие, им подобные, относятся, как правило, ко времени разворачивания сюжета повествования, а их некая темпоральная обособленность – не более, как способ дистанцирования от текущего «сейчас», создающий ситуацию условной реальности описываемого.
В этих условиях, единственными образцами развёрнутой трактовки времени были бинарные противопоставления безусловного идеологического плана, бывшие, практически, обязательными элементами в ранней советской поэзии. Дихотомия «старое-новое» была наиболее распространенным семантическим конструктом агитационной поэзии и, конечно же, в подавляющем большинстве случаев она реализовывалась в текстах путём механического сопоставления соответствующих временных срезов. Формула «старое (тёмное, несчастное и т.д.) время – новое (счастливое, благодатное) время», с одной стороны, была реальным шагом вперёд в построении поэтических темпоральных моделей, с другой – настолько удовлетворяла потребности агитационной, идеологически-дидактической лирики, что целое поколение национальных авторов попросту не помышляло о выходе за её пределы.
Идеологически окрашенное противопоставление «нового» и «старого» времени, собственно, темпорального значения не имело. Это, по сути, была простая фиксация уровней комфортности существования «советского народа», само же пространство физического, воспринимаемого и отражаемого в стихе хроноса было фольклорно-монолитным, то есть, в определённом смысле этого слова, лишённым динамики [Лихачев 1967: 262]. Перцептивная картина времени стала меняться лишь в 30-х гг., когда авторы начали ассоциировать ощущение от него с переживаниями лирического субъекта. Это могло быть отождествление с личным осознанием собственного существования:
…Жангы болуму къууанч береди манга [Отаров 1996a: 104].
(…Новое бытие даёт мне радость) – либо обобщённая, и, в принципе, панхроничная констатация, которую можно определить, как косвенное признание реальности некой протяженности:
…Аланы узун къара кирпиклени
Бир заманда да жилямукъ жуумазын [Отаров 1996b: 102].
(…Её длинные чёрные ресницы
Никогда (ни в какое – ни в одно время) слеза не омоет), – или чувственно маркированное впечатление от эмоции, возбуждаемой в течение некоего идентифицируемого периода:
…Башыбызны безите, шо сау сагъатны
Ачы къычырады кечеги къанатлы [Теммоев 1996: 93].
(…Мороча нам голову, на протяжении целого часа
Горько кричит ночная птица).
Три этих типа темпоральных представлений балкарской поэзии, вместе с идеологическими оппозициями, относящимися к временным презентациям лишь условно, долгое время полностью исчерпывали национальные ресурсы поэтического восприятия хроноса. И, опираясь на фольклорный опыт, на практики основоположников национального стихотворчества, использовавших арузную образную систему – принципиально статичную по своей рефлективной сути – балкарские поэты, вполне вероятно, оставались бы в плену вневременных переживательных моделей достаточно долго. Однако, благодаря особенностям индивидуального мышления такого автора, как К. Кулиев, национальная традиция сформировала аутентичные и суггестивно состоятельные подходы в данном направлении буквально в течение периода пиковой активности одного поколения художников.
Ему также были свойственны обращения к концепту «время», развившиеся из бинарных сопоставительных пар прямой понятийной номинации, но даже эти, наиболее простые темпоральные конструкции балкарский поэт обогащает формантами различных культурных пространств, иногда с достаточно неожиданными ассоциативными выходами:
Жибийдиле юйле башлары, терекле,
Овидий, жюз жылла къысталып тургъан!
Мен билеме ачылыгъын къыстаулуну.
Констанца шахарда жауады жауун [Кулиев 1977: 51].
(Мокнут крыши домов, деревья,
Овидий, изгнанный на сотни лет!
Я знаю горечь изгнания.
В городе Констанце идёт дождь).
Кулиев сумел в одной строфе объединить сразу несколько мотивов, причём до него обращение к античности балкарской лирике было незнакомо. Однако Овидий присутствует в стихе не в качестве инокультурной эмблемы и центра организации сопутствующих аллюзий, он чётко связан с одной из генеральных тем национальной литературы – депортацией, точнее индивидуальной памятью автора о годах изгнания, его опыте, имеющим в оригинале ссылку на физиологическое уточнение этого опыта, ибо балкарское «ачылыгъы» далёко от понятийной горечи, это, прежде всего, сензитивное, чувственно наполненная реакция, не потерявшая своего первичного вкусового качества. Интересующее же нас «время», во-первых, диспергированно, во-вторых, входит с лирическим героем в особые частные отношения, реализуясь, как в далёком прошлом, так и в сиюминутном «сейчас» К. Кулиева, воплощенное, как в мельчайших мгновениях-корпускулах, в падающих каплях дождя.
Часто подобные конструкции обогащались культурными ассоциативными шлейфами с подчёркнуто внятной адресацией, что позволяло автору вплотную приближаться к передаче временных пластов различной локализации, создавая суггестивный эффект обширного хронологического пространства:
Акъ къайыкъ кёрюндю бюгюн тенгизде,
Иги хапар алып келгенча бизге
Узакъ жерледен, узакъ заманладан,
Биз ёмюрде кёрмезлик адамладан [Кулиев 1977: 238].
(Белая лодка видна сегодня в море,
Словно принесла нам хорошие вести
Из далёких стран, из далёких времён,
От людей, которых мы никогда не увидим) – приведённый отрывок, несомненно, обладает не только пространственной полнотой, но и хронологической, и так же несомненно, что последняя задана целевым обращением к хрестоматийному для русской литературы образу.
Стихи балкарского поэта могли представлять и совершенно другой тип темпоральных авторских матриц. Он часто трактует время в полностью традиционном для мировой литературы ключе – как нечто вечное, стационарное и монолитное, благо такое понимание полностью соответствовало как базовым архетипам балкарского народа, так и сквозным и стабильным образам самого художника, во многом определявшим его картину мира:
…Манга багъалыды кёп заманла зат
Эталмайын тургъан беклигинг, кючюнг,
Сюеме мен болгъанынг ючюн азат,
Менден сора да кёп турлугъунг ючюн!.. [Кулиев 1977: 60]
(…Мне дорого то, что долгое время (многие времена) ничего
Не могло сделать твоей мощи, твоей силе,
Люблю я (тебя) за то, что ты свободна,
За то, что и после меня, ты простоишь долго!..)
Однако интерпретация времени в отражении Кулиева имеет несколько специфических смысловых нюансов. В приведённом отрывке мы имеем прямое противопоставление двух объектов, равнозначных в кругу индивидуальных хронологических представлений поэта. Скала антипод времени не только в смысле противоборства с его всепоглощающей силой уничтожения, но и в смысле бытийно-функциональном: время предстаёт, как субстанция динамичная, воздействующая на камень этапно, несколькими подходами, что подчёркнуто, помимо всего прочего, и достаточно сложными соотношениями форм применяемых глаголов. «Время», данное во множественном числе, одновременно «не могло сделать», и «пребывает в состоянии бессилия» в далёком прошлом, и остаётся в том же положении в актуальном настоящем. Скала же статична в прошлом, в настоящем и будущем, представляется некой образной инверсией обычному классическому виденью хроноса – ведь именно он чаще всего осмысливается, как нечто априори присутствующее в мироздании, как мера абсолютной, пусть и текучей, субстанции.
Время К. Кулиева в этом стихотворении фрагментированно, это не единое эфирное тело, и воспринимается, в отличие от скалы, чем-то зыбким и преходящем в каждой своей модификации. И оно связано не со своим целенаправленно выстроенным антиподом-скалой, а с лирическим субъектом, с личностным сознанием автора. Он находится в изменчивом диспергированном потоке хроноса и, одновременно, актуализирует вечность вершины самой скоротечностью человеческой жизни.
Этот приём – ассоциация категории и объектности времени с мимолётным, сиюмоментным ощущением собственного «я» – становится главным достижением К. Кулиева в его темпоральных картинах и образах. В своей начальной форме он всегда представляет сочетание некоего материального объекта, которому придавалось качество абсолюта, с темпоральным представлением, главным свойством которого в стихах поэта становится фрагментарность [Гринберг 1982: 315]. Разбитое на несколько периодов временное пространство теряет свою безграничность и стабильность воздействия на авторский эталон вечности, и напрямую соотносится с человеком, с его жизнью. Фактически, К. Кулиев пытается придать абстрактному, рационально постигаемому концепту чувственную наполненность, перейти от умопостигаемого к сензитивному. В своём устоявшемся виде механизм подобного рефлективного перехода оказался в высшей степени стабилен и продуктивен, во многих случаях схемы лирического переживания дублируются лишь с незначительными семантическими различиями:
…Иеси тирмен ишлемез,
Жерге кетди, тирмени
Ташданды, бир жары кетмез,
Тутур ол кёп кюнлени…[Кулиев 1977: 63]
(…Хозяин (ещё раз) мельницу не построит,
Ушёл он в землю, а мельница
– Из камня, никуда она не денется,
Выдержит она многие дни…)
Или:
…Жазны заман эски этмез,
Биз ёлгенликге жаз ёлмез [Кулиев 1977: 193].
(…Время не состарит лето,
Хотя мы и умрём – лето не умрёт).
Однако целью К. Кулиева было не представление в том или ином виде собственно категории времени. Ему важна была такая составляющая лирического переживания, как пребывание человека в безразличном и вечном потоке – ситуация крайнего выражения мужества, являвшегося в этнической системе морали высшей ценностью. В принципе, через образы устойчивых и долговременных сущностей – камень, скала, гора, небо, лето, река – поэт опосредованно выстраивал схему противостояния личности и хроноса ещё в первом, исходном типе своих поэтических бинаров. Эта схема не была отброшена им и в период зрелого творчества, она лишь усовершенствовалась, и, вместо стационарных материальных объектов природы, художник начал включать в неё повторяющиеся циклические процессы, имеющие непосредственное к повседневности и быту – ежевечерний возврат коров с пастбища, дойка молока, хлеб, пекущийся каждое утро.
Но творческий потенциал балкарского стихотворца, основополагающие особенности его индивидуального мышления полностью могли быть воплощены лишь при условии полной «физической» материализации самого времени, как осознаваемого явления-объекта, физически присутствующего в этом мире. Кайсын Кулиев априори тяготел к фактурному, сензитивно значимому словесному представлению – частично это было общее качество всех балкарских писателей, идущее от особенностей живой балкарской речи, необыкновенно конкретной в номинации предметов и разновидностей однотипных действий, а частично – его уникальным качеством, зависящим от обстоятельств формирования его личности и параметров самоидентификации. Быть может, характер мировосприятия и интеллектуальной обработки тех или иных жизненных ситуаций Кайсына Кулиева был предопределён стрессовыми факторами. Как известно, последние часто приводят к фиксации актуального события в тонко детализированном виде: напомним, что жизнь поэта с глубокого детства часто ставила его в экстремальные положения; достаточно, упомянуть, что ещё в возрасте восьми лет К. Кулиев объезжал лошадей, за что и получил прозвище «аттери» – «конская шкура».
Как бы то ни было, стремление воплощать свои эмоции и мысли в особые чувственно наполненные образы отмечается многими исследователями его творчества [Кулиев 1977: 111]. И, закономерно, что поэт искал тот тип образной конструкции, который в полной мере отвечал бы самому процессу его миропостижения. Отталкиваясь от выразительных формант на базе национальных паттернов долговременности, Кулиев пришёл к практике использования хронологических антиподов последних:
Жауун, энтда айтаса хапар
Таугъа, тереклеге, сабаннга…
…Мени жаш кюнлеримде жаугъан
Кибик, энтда, жауун, аламат
Жауаса… [Кулиев 1977: 86]
(Дождь, и вновь ты рассказываешь
Горе, деревьям, пашне…
…Словно в дни моей молодости, шедший
Ты снова, и сейчас, так чудесно
Льешься-идёшь…) – связь дождя с текущим временем было давней находкой Кулиева, но в этом новом типе хронопредставлений речь шла уже о полном отождествлении нематериальной сущности с ощущаемыми, осязаемыми и зримыми объектами – каплями. Дождь истолковывается, как нечто, имеющее преходящую и мелкодисперсную плоть, нечто, непосредственно и физически ощущаемо взаимодействующее с человеком. Если в данном примере это и не столь явно, то в некоторых случаях дискретность временной ткани Кулиев выявляет акцентированно, акустически разбивая протяженность дождя-хроноса на мгновения, и относя сам процесс идентификации временного объема к сугубо людским субъективным впечатлениям:
Биягъынлай, терезени
Къагъады жауун:
«зап-зап, зап-зап…»
Эртде-эртде къакъгъанынлай,
Къагъа жауун терезени [Кулиев 1977: 203].
(Как и сейчас, в окно
Стучит дождь:
«зап-зап, зап-зап…»
Как давно-давно стучал,
Бьёт дождь окно).
В итоге развития этого типа образно-темпорального представления в стихах балкарского поэта возникли хронологические презентации особого рода: внутрихронологические оппозиции, в границах которых противопоставляются временные контрастирующие промежутки, объединенные лишь полем переживаний и размышлений лирического субъекта:
Бурун кибик жашилди кёк.
Анам баргъанында кибик,
Энтда къургъакъ болгъанды жол.
Анамы ызлары уа жокъ [Кулиев 1977: 98].
(Как прежде зелено-голубовато небо.
Как тогда, когда по ней шла моя мать,
Снова просохла (стала сухой) дорога.
А следов матери уже нет).
Окончательное и единовременное «следов матери уже нет», локализованное в актуальном и коротком авторском «сейчас», по определению будет длиться и в будущем, это уже константа, объединяющая кулиевские настоящее, прошлое и будущее – вместе с «вновь, как тогда, просохшей дорогой» и «зелёно-голубым небом», также находящимися в сложнейших темпоральных взаимоотношениях. Полный анализ последних – весьма и весьма сложная задача, предполагающая тончайшее знание как языка (что теоретически возможно), так и рисунка внутреннего мира автора, что видится невыполнимым. Нас в данном случае интересует одно – конечная онтологическая направленность конструкций подобного типа. И обзор их позволяет констатировать – Кайсын Кулиев создал структуру, описывающую время в координатах его личной гносеологии, личной манеры осознания окружающего, позволявшую представлять национальному читателю темпоральные дефиниции вне рационально-понятийных эмблем, истолковывая их с помощью знакомых и освоенных на всех уровнях восприятия вплоть до сензитивных. В итоге именно модели рефлексии Кулиева позволили расширить узкую семантику идеологических временных бинаров и преодолеть логическую атрибутацию концепта «время», создав ему обширный ассоциативный ореол, адресующий сознание читателя к реалиям знакомой среды. Именно в его стихах мы впервые в балкарской поэзии сталкиваемся с полноценным образным воплощением одномерного семантического знака, то есть той выразительной единицей, которая имеет тенденциальный потенциал развития [Храпченко 1982: 307] и не полностью зависит от творчества конкретных пассионарных художников.
Об авторах
Казим Каллетович Бауаев
Кабардино-Балкарскийгосударственный университет им. Х.М. Бербекова
Email: kazim_bauaev@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0647-1295
Список литературы
- Бахтин 2012 – Бахтин М.М. Теория романа (1930-1961 гг.). Собр. соч. в 7 т. – Т. III. – М.: Языки славянских культур, 2012. – С. 455-456. (880 с).
- Гринберг 1982 – Гринберг И.Л. Два крыла литературы. – М.: Советский писатель, 1982. – 368 с.
- Гусейнов 1988 – Гусейнов Ч.Г. Этот живой феномен. – М.: Советский писатель, 1988. – 438 с.
- Кулиев 1977 – Кулиев К. Ш.Тюнене бла бюгюн. Назмулакитабы. – Нальчик: Эльбрус, 1977. – 240 с.
- Лихачев 1967 – Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л.: Наука, 1967. – 416 с.
- Отаров 1996a – Отаров К. Ночью на берегу моря // Антология балкарской поэзии (на балк. яз). – Нальчик: Эль-Фа. 1996. С. 104.
- Отаров 1996b – Отаров К. Облачко // Антология балкарской поэзии (на балк. яз). Нальчик: Эль-Фа, 1996. С. 102.
- Рассадин 1974 – Рассадин С. Б. Кайсын Кулиев. – М.: Художественная литература, 1974. –160 с.
- Теммоев 1996 – Теммоев Х. Новое село // Антология балкарской поэзии (на балк. яз). – Нальчик: Эль-Фа, 1996. – С. 93.
- Толгуров 1991 – Толгуров З.Х. В контексте духовной общности. – Нальчик: Эльбрус, 1991. – 286 с.
- Толгуров 2004 – Толгуров Т.З. Эволюция тканевых образных структур в новописьменных поэтических системах Северного Кавказа. – Нальчик: Эль-Фа, 2004. – 286 с.
- Храпченко 1982 – Храпченко М.Б. Художественное творчество, действительность, человек. – М.: Советский писатель, 1982. – 416 с.
Дополнительные файлы