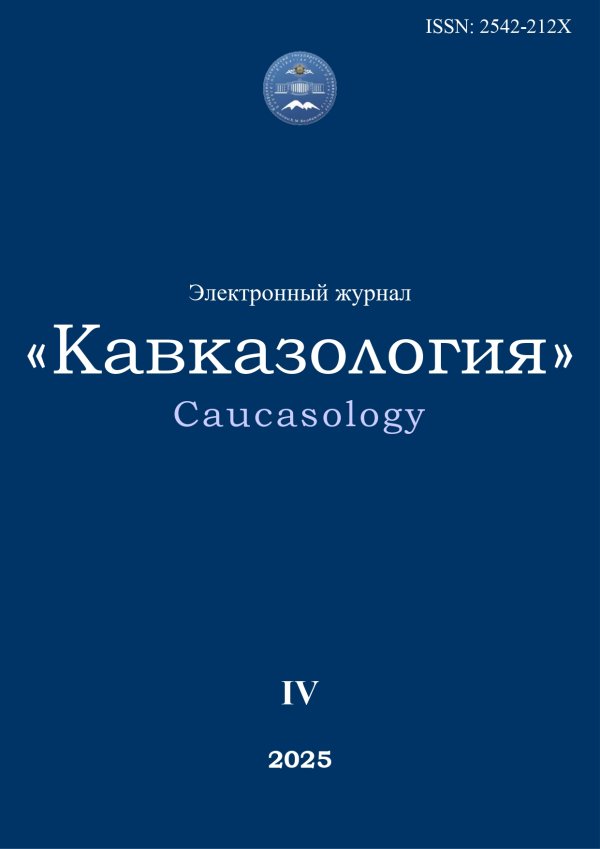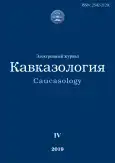ЛЕНИНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ГОРОДОК И МОДЕРНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ
- Авторы: ТХАМОКОВА И.Х.1
-
Учреждения:
- Институт гуманитарных исследований – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»
- Выпуск: № 4 (2019)
- Страницы: 63-75
- Раздел: Новейшая история
- Статья получена: 27.05.2025
- Статья опубликована: 15.12.2019
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/293825
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2019-4-63-75
- EDN: https://elibrary.ru/FDIZWU
- ID: 293825
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье исследуется роль Ленинского учебного городка, созданного в Нальчике в 1924 г., в модернизации культуры кабардинцев и балкарцев. При этом культура понимается в самом широком смысле этого слова, т.е. включает в себя не только систему ценностей или литературу и искусство, но также и материальную культуру, и обычаи, и обряды. Целью учебного городка было как обучение специалистов, «национальных кадров», так и воспитание «новых кабардинцев, новых балкарцев». Выпускники учебных заведений городка не только сыграли важную роль в ликвидации неграмотности, развитии системы образования, в становлении кабардинской и балкарской литературы и искусства, но и являлись примером нового образа жизни, новых ценностей, новой материальной культуры. Советский вариант модернизации культуры характеризуется быстрыми темпами и использованием насильственных методов при ее проведении. Курсантам Ленинского учебного городка пришлось не только самим отказаться от многих ценностей традиционной культуры, но и вести с ними непримиримую борьбу, которая, в конечном счете, завершилась победой новых форм культуры.
Ключевые слова
Полный текст
О культурном строительстве в Кабардино-Балкарии много писали советские историки, которые главную роль в этом процессе отводили политике коммунистической партии и советского государства [Из истории… 1981; Хутуев 1984]. В постсоветское время культурные изменения, происходившие в республике в советское время, рассматриваются как процесс модернизации культуры [Мамсиров 2004]. Изучение механизмов этого процесса, его движущих сил остается актуальной задачей. Некоторые проблемы современной культуры берут свое начало именно в 1920-1930 гг.
Важную роль в процессе модернизации культуры кабардинцев и балкарцев сыграл Ленинский учебный городок (ЛУГ), который был открыт в Нальчике в 1924 г. [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 288. Л. 148]. Главной задачей городка являлась подготовка «работников-националов по основным отраслям работы партийной, советской, профессиональной, общественной и хозяйственной» [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 258. Т. 2. Л. 322]. В его состав с 1925 г. входили совпартшкола, педагогический, сельскохозяйственный, кооперативный техникумы. При городке также работали курсы трактористов, женское отделение ликвидаторов неграмотности, различные краткосрочные курсы и дом пионеров со школой и дошкольным отделением. Впоследствии структура городка неоднократно изменялась, появлялись новые подразделения и прекращали свое существование или отделялись старые. К 1931 г. было решено, что Ленинский учебный городок выполнил свои задачи, он был реорганизован «в самостоятельные заведения по отраслевому признаку» – совпартшколу (которую называли также Ленинским партийным учебным городком) и педагогический техникум [УЦГА АС КБР. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 46. Л. 262-263]. За годы своего существования Ленинский учебный городок подготовил тысячи специалистов, которые работали во многих кабардинских и балкарских селах.
Ленинский учебный городок упоминается во многих исторических трудах, при этом основное внимание уделяется роли городка в развитии системы образования в Кабардино-Балкарии. Отмечалась также роль городка в развитии национальной литературы и искусства кабардинцев и балкарцев [Абазов 1996; Писатели… 2003; Сарбашева 2009]. Но значение городка в развитии культуры этим не исчерпывалось. Выпускники городка оказывали воздействие и на изменение семейного быта, обычаев, обрядности, и на введение новых форм одежды и новой пищи. Изучение влияния Ленинского учебного городка на процесс модернизации всех сторон культуры кабардинцев и балкарцев является главной задачей статьи.
Работа основана на анализе документов, хранящихся в Центральном государственном архиве КБР. Они содержат много сведений об учебном городке, хотя не все годы его существования и не все стороны его деятельности нашли достаточно полное отражение в этих документах. Использованы также материалы периодической печати (газета «Карахалк»).
Среди опубликованных документов особое значение имеет сборник материалов о Ленинском учебном городке, содержащий воспоминания его выпускников и преподавателей, а также некоторые документы, извлеченные из архивов. Использованы и другие сборники, хотя часть публикаций советского периода требует осторожного к себе отношения и тщательной проверки. Некоторые неточности могут объясняться сложностью понимания нечеткого машинописного текста, иногда с множеством исправлений. Но были и случаи сознательного искажения документов. Один пример – речь Б.Э. Калмыкова (председателя Кабардино-Балкарского ЦИК) на IV областном съезде Советов в декабре 1924 г. Он говорил о том, что во многих селах невозможно было найти девушек, согласных ехать на учебу в Нальчик. «Пришлось бросать жребий, и те, на кого пал жребий, хотели вешаться. Были случаи, когда их связывали и связанных везли до Нальчика и здесь сдавали в учебный городок» [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 119. Т. 1. Л. 48, 70, 110, 169]. Документы съезда сохранились в 4 экземплярах, приведенный текст читается легко и не вызывает сомнений. В таком виде он был опубликован несколько раз, в том числе и в сборнике о Ленинском учебном городке [Ленинский… 1964: 90]. Однако в издании статей и речей Б.Э. Калмыкова (1982 г.) этот текст выглядит совершенно иначе: «Пришлось бросать жребий, и вот те, на кого он пал, даже плакали. Но потом они успокоились, все обошлось хорошо» [Калмыков 1983: 111]. При этом ссылки даны на то же самое архивное дело и на те же листы, что и в сборнике о Ленинском учебном городке, однако текст совершенно другой. В этом «отредактированном» варианте нет речи о желании девушек вешаться и о том, что их связанными везли в Нальчик. Видимо, в 1980 гг. подобные действия властей уже представлялись неприемлемыми, и составители сборника попытались скрыть их.
Культурная политика Советского государства в 1920-1930 гг. включала несколько важнейших задач. Среди них была ликвидация неграмотности, развитие системы образования. В Кабардино-Балкарии большое значение придавалось также «коренизации» – подготовке «национальных кадров» для экономики, партийных и советских органов, образования и культуры. В соответствии с этой программой большую часть курсантов в Ленинском учебном городке составляли кабардинцы, меньше было балкарцев, еще меньше – русских, и совсем мало – немцев, осетин, евреев и др. [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 288. Л. 113].
Курсанты должны были стать образованными людьми, хотя некоторые из них при поступлении в городок были неграмотными, другие окончили один-два класса школы, многие не знали русского языка, на котором велось преподавание. Начинать учебу приходилось с его освоения. Впоследствии двуязычие в Кабардино-Балкарии станет массовым, но основы его распространения закладывались именно в 1920-1930 гг.
Если учесть, что значительную часть времени у курсантов занимало изучение русского языка, освоение грамоты или повышение грамотности, то выполнение учебных программ было очень сложной задачей. Их приходилось приспосабливать к существующим условиям [УЦГА АС КБР.Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 258. Т. 2. Л. 322].
Курсанты городка не только учились сами, но и обучали других. В 1920-1930 гг. власти Кабардино-Балкарии придавали большое значение развитию образования на родных языках. Именно благодаря этому удалось за короткое время добиться впечатляющих успехов в ликвидации неграмотности. Было принято решение об обязательном изучении кабардинского или балкарского языка всеми курсантами [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 42. Л. 73-73 об.]. Они изучали родные языки и потом обучали им других. Вместе с преподавателями городка они занимались ликвидацией неграмотности [Ленинский… 1964: 67]. Во время культпоходов курсанты бывали во многих кабардинских и балкарских селах и организовали обучение многих тысяч человек грамоте. «Каждый курсант обязался обучить 80 неграмотных и подготовить культармейцев, т.е. людей, способных обучать других грамоте» [Ленинский… 1964: 72-73]. После окончания учебы многие выпускники городка стали учителями и продолжали обучать детей и взрослых.
В городке были созданы условия для изучения наук – большая библиотека, хорошо оборудованные кабинеты химии, физики, географии, естествознания, был кружок юных натуралистов. У городка были свои сады и опытные поля, электростанция, скотный двор и конюшня. Курсанты участвовали в сельскохозяйственных выставках и получали награды [Ленинский… 1964: 62, 72].
Курсанты педагогического техникума в ходе практики собирали сказки, песни, предания, легенды, пословицы, поговорки и т.д. [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 33. Л. 2, 12]. Их материалы использовались при составлении словарей [Ленинский… 1964: 73]. Курсанты занимались и краеведческой работой [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 42. Л. 74-75]. Некоторые из выпускников городка стали впоследствии известными учеными, преподавателями ВУЗов.
Еще одной важнейшей задачей культурного строительства в национальных республиках, в том числе и в Кабардино-Балкарии было создание профессиональной национальной литературы и искусства. И в выполнении этой задачи важную роль тоже играл ЛУГ. Обучая грамоте, давая образование, он тем самым воспитывал будущих читателей. Но не только читатели, но и некоторые широко известные кабардинские и балкарские писатели и поэты тоже получили образование в городке. Еще во время обучения они начинали писать стихи, рассказы, статьи и заметки для газет [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 33. Л. 129]. В городке действовал литературно-корреспондентский кружок, участие в котором помогало им развивать свои способности. Выпускниками Ленинского учебного городка были Б.И. Гуртуев, Р.П. Кешоков, З.Б. Максидов, Дж. М. Налоев, С.А. Отаров, С.Ш. Хочуев, А.О. Шогенцуков и др. [Писатели… 2003: 154, 218, 269, 301, 318, 382, 410].
В городке также работали драматические кружки. В 1928-29 гг. было пять драмкружков, в которых принимали участие 78 человек. Преподаватель ЛУГа С. Шахмурзаев и курсант Б. Гуртуев написали комедию на балкарском языке (или перевели ее) [Сарбашева 2009: 112]. Еще один преподаватель ЛУГа, Т.А. Шеретлоков, руководил драмкружком и был автором нескольких пьес на кабардинском языке [Абазов 1996: 43-45]. Драмкружки ставили пьесы на кабардинском и балкарском языках и показывали их не только в городке, но и на заводах, на рынке, в селах [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 34. Л. 156; Д. 38. Л. 28; Д. 42. Л. 148-149; Абазов 1996: 45]. Преподаватели и курсанты Ленинского учебного городка сыграли важную роль в становлении кабардинского и балкарского национальных театров.
В городке работали и другие кружки: хоровой, ИЗО (художественный), струнно-музыкальный, юридический, военный и физкультурный и т.п. Затем появился самодеятельный театр, оркестр, ансамбль песни и пляски УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп.1. Д. 38. Л. 27 об.; Ленинский… 1964: 61-62, 72]. Курсанты педагогического техникума обязаны были принимать участие в работе музыкальных, литературных и художественных кружков, это считалось неотъемлемой частью их обучения [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 37. Л. 27 об., 58].
По субботам курсантам показывали кинофильмы. В городке был концертный зал, где выступали артисты. Курсанты ЛУГа активно участвовали в художественной самодеятельности, выступали с концертами, и в Нальчике, и в селах [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 42. Л. 148; Как будем… 1928; Егужоков 1928]. Во время культпоходов курсанты возили с собой в села киноустановку, благодаря которой жители кабардинских и балкарских сел впервые смогли увидеть кино.
Курсанты занимались физкультурой, чему тоже придавалось идеологическое значение: физическое воспитание считалось «одной из форм борьбы с вредными пережитками национально-бытовых традиций и предрассудков» [Ленинский… 1964: 55].
Но задачи выпускников городка, как уже говорилось, не ограничивались только их работой по специальности или культурной работой. Городок должен был готовить «коммунистически воспитанных работников» [Культурное… 1980: 304], чем занимались партийная и комсомольская организации, регулярно проводившие собрания с докладами и лекциями. В актовом зале городка проходили областные партийные конференции и съезды Советов, собрания партийного и советского актива, что также приобщало курсантов к коммунистической идеологии [Ленинский… 1964: 17, 35-37].
В выходные дни курсантов посылали в ближайшие к городу села – Хасанью, Белую речку, Кенже, где они выступали с докладами. Зимняя и летняя практика обычно проходила в их родных селах. Во время культпоходов и практики курсанты проводили политзанятия, принимали участие в подготовке перевыборов сельских советов, агитируя за избрание бедняков, батраков и женщин, они стремились привлечь жителей сел в партию и в комсомол, помогали созданию и работе пионерских организаций в селах.
На собраниях партийных и комсомольских сельских ячеек курсанты выступали с докладами (о борьбе с кулаками, союзе с середняками при опоре на бедноту, о хлебозаготовках, о чистке госаппарата, о «коренизации аппарата», о задачах комсомола), разъясняли решения съездов ВКП(б). Они также читали лекции сельским жителям на темы: «Наши задачи в области сельского хозяйства», «Угрозы новых войн», «Осоавиахим» и др., проводили «политлотереи»[УЦГА АС КБР. Ф. Р-818. Оп. 1. Д. 18. Л. 98-101; Д. 33. Л. 16-25, 66-75, 125-129, 192-195; Д. 42. Л. 127-127 об., 148; Культурное… 1980: 327; Ленинский… 1964: 20, 38]. После завершения учебы они должны были продолжать активную политическую работу.
Неотъемлемой частью советской идеологии являлся атеизм. Курсанты должны были принимать участие в атеистической работе, для чего в городке был создан «научно-антирелигиозный кружок» [М.Б. 1928: 2]. Среди курсантов были и бывшие мусульманские священники (эфенди), порвавшие с религией. Они «на убедительных примерах показывали курсантам, что носителем всех бедствий в Кабардино-Балкарии является мусульманская религия» [Ленинский… 1964: 50]. В городке проводились «антирелигиозные вечера», исполнялись пьесы и песни соответствующего содержания [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 42. Л. 138, 140].
Во время культпоходов курсанты читали жителям кабардинских и балкарских сел лекции на темы: «Происхождение человека», «Происхождение религии» и др. [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 42. Л. 148]. В ходе практики курсантов важное место занимало «проведение политико-массовой работы среди населения по закрытию мусульманских религиозных школ-медресе, вовлечение детей крестьян в советскую школу» [Ленинский… 1964: 50]. Однако лишь немногим из курсантов удавалось создать в селах ячейки безбожников [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 41-а. Л. 222]. Далеко не все курсанты читали на партийных и комсомольских собраниях в селах доклады на антирелигиозные темы. Многие из них проявляли пассивность [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 18. Л. 99 об.]. Руководство Ленинского учебного городка признавало, что антирелигиозная пропаганда являлась «наиболее слабым» участком практической работы курсантов [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 42. Л. 127 об.]. Видимо, сопротивление жителей кабардинских и балкарских сел этой пропаганде было особенно сильным. Отдельные из курсантов, будучи в родных селах, даже сами посещали мечеть, принимали участие в религиозных праздниках [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 18. Л. 99; Маулит… 1928: 4].
Еще одним принципом советской идеологии являлся интернационализм («чтобы кабардинец любил балкарца, русский любил кабардинца и балкарца, балкарец любил еврея и т.д.») [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 119. Т. 1. Л. 50, 72, 112, 171]. Руководство учебного городка уделяло большое внимание воспитанию этого качества. «Если на первых курсах допускалась организация отдельных кабардинских и балкарских групп, то на старших курсах таких групп уже не было. Создавались общие группы, куда входили представители всех национальностей. В общежитиях курсантов размещали так, чтобы в каждой комнате был русский, кабардинец и балкарец. Это способствовало интернациональному воспитанию, лучшему усвоению русского языка» [Ленинский… 1964: 76]. По праздникам в городке проводились «вечера национальностей» [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 34. Л. 105 об.]. Все эти меры создавали возможности для знакомства курсантов с языком и обычаями других народов, для взаимовлияния культур. Но в то же время различие национальных традиций создавало сложности для курсантов. Им не всегда было понятно, как вести себя в таких условиях. В ходе работы 6 съезда Советов КБАО Б.Э. Калмыкову был задан вопрос: «Могут ли русские курсанты, находящиеся в Совпартшколе Лен.Учгородка кушать сало, как должны смотреть на это курсанты кабардинцы и балкарцы?» [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 452. Т. 4. Л. 928]. Руководство городка отмечало также некоторую разобщенность курсанток разных национальностей [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 17. Л. 55 об.]. Руководство городка стремилось ее преодолеть.
Модернизация культуры проявлялась не только в распространении грамотности, развитии системы образования, создании профессионального искусства. Она повлияла и на быт кабардинцев и балкарцев. Ко многим обычаям народов Кабардино-Балкарии ее руководители относилась с подозрением. Они считали «необходимым коренным образом переделать кабардинский и балкарский быт, обычаи, традиции. Все, что есть красивого в кабардинской и балкарской жизни, что современно и красиво, – все это надо оставить, а все то, что тормозит культуру», все адаты и обычаи, которые мешают равноправию женщин, надо разбить и отбросить [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 119. Т. 1. 48, 70, 110, 169; Ленинский… 1964: 91]. Принципу равноправия женщин противоречили многие традиции кабардинцев и балкарцев – калым, похищение девушек, обычаи избегания. С ними велась решительная борьба с первых дней установления советской власти в регионе. Их ликвидация вела к перестройке такого важнейшего социального института как семья.
Против избегания резко выступал Б.Э. Калмыков: «…не только в селениях, но и здесь есть еще люди, которые считают, что нельзя сидеть за одним столом с женщиной, что это стыдно. Нам не нужны такие большевики-дворяне, придерживающиеся старых порядков. Нам нужны настоящие коммунисты, пропитанные до мозга костей большевистским равноправием» [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 119. Т. 1. Л. 48, 70, 110, 169; Ленинский… 1964: 90].
Курсанты должны были отказаться от старых обычаев. Тем самым в городке создавалась «новая жизнь, новая культура, новый быт», которые затем должны были распространиться по кабардинским и балкарским селениям [А.С. 1926: 3]. В стенах городка воспитывался «новый тип горянки, тип женщины – общественного и культурного работника», вырабатывался «взгляд на женщину, как на товарища в работе…» [Померанцева 1925: 2].
В достижении равноправия женщин важная роль отводилась образованию. Как говорил Б.Э. Калмыков, «нельзя одну половину человечества учить, а другую нет» [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 119. Т. 1. Л. 48, 70, 110, 169], потому что разница в уровне образования станет препятствием к установлению равноправных, товарищеских отношений в семье.
В городке был создан клуб горянок и при нем – вечерняя детская комната для детей горянок, обучавшихся на медицинском рабфаке [УЦГА АС КБР. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 49. Л. 56]. Для того, чтобы женщины могли работать, необходимо было организовать детские ясли и детские площадки. Они появились сначала в Нальчике, а затем и в некоторых селах. Курсантки Ленинского учебного городка во время практики делали в селах доклады о раскрепощении женщины, о детских яслях [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 41-а. Л. 244], объясняли их необходимость местным жительницам, которые опасались, что детей увезут в Москву и продадут «для лекарства». Курсантки также организовывали в селах ясли и детские площадки и работали в них [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 41-а. Л. 205-205 об.].
Помимо положения женщин власти республики стремились также изменить отношения между старшими и младшими в кабардинской и балкарской семье и обществе. Если традиционно старшие пользовались большим влиянием, то советская власть сделала ставку на молодежь. Уже к концу 1920 гг. стариков постарались вытеснить из состава Советов, в которых они первоначально играли важную роль [На съезде… 1929: 2]. Но если равноправие женщин провозглашалось открыто и было одним из основных революционных лозунгов, то отстранение старшего поколения от власти проходило, скорее, в завуалированной форме, поэтому оставило значительно меньше документальных свидетельств. Попав в Ленинский учебный городок, молодые кабардинцы и балкарцы оказывались оторванными от старших членов своих семей и жителей своих сел. Это, видимо, облегчало отказ от некоторых традиционных форм культуры. Когда же выпускники, усвоившие новые модели поведения, возвращались домой, то их действия нередко вступали в противоречие с традициями, носителями которых являлось старшее поколение.
Курсанты городка были в числе первых кабардинцев и балкарцев, которые приобщались к новым семейным обычаям и обрядам. Так, когда в семье курсантов (кабардинцев) родился ребенок, то по случаю этого события проводился праздник – «октябрины», на котором выступал Б.Э. Калмыков. Ребенку дали имя Владимир в честь В.И. Ленина [Ленинский… 1964: 88-89]. Этот праздник должен был заменить традиционные обряды, связанные с рождением ребенка, но он не получил сколько-нибудь широкого распространения.
Первые случаи новой похоронной обрядности у кабардинцев и балкарцев тоже были связаны с Нальчиком и с Ленинским учебным городком. «Когда скончался курсант Абазов Мажид из сел. Заюково, партийная и комсомольская организация ЛУГа похоронили его по гражданским обрядам, с музыкой, без участия служителей мусульманской религии» [Ленинский… 1964: 51]. Такие похороны вызвали недовольство односельчан курсанта. Мулла распространял слух о том, что из этой могилы поднялось большое пламя как признак того, что покойный сгорел в аду.
Курсанты приобщались также к новой, городской материальной культуре. Им выдавали единое обмундирование, которое отличалось от традиционной кабардинской и балкарской одежды, но напоминало военную форму – темно-синие суконные гимнастерки, солдатские шинели, брюки навыпуск, фуражки, черные ботинки. Непривычная одежда вызывала протесты у некоторых из них, они боялись, что в ней они «станут гяурами». Иногда они даже бросали из-за этого учебу [Ленинский… 1964: 50, 59].
Непривычной была и одежда для девушек-курсанток. В 1920-1930 гг. советская власть боролась с существовавшим в прошлом у кабардинцев и балкарцев ограничением на ношение теплой одежды девушками и молодыми женщинами. Этот обычай препятствовал их участию в общественной жизни в холодное время года. В Кабардино-Балкарии проводилась компания «Пальто – горянке». Девушки-курсантки носили черные пальто и кепи, иногда – красные косынки. Кроме того у них были скромные серые платья, отличавшиеся по крою от кабардинской и балкарской одежды. Для занятий физкультурой они надевали спортивные костюмы, хотя многие из них стеснялись этого [Лекпом 1928; Ленинский… 1964: 55, 65, 66]. Эта форма была непривычной не только для сельских жителей, но и для нальчан. Когда девушки «шли по улицам в майках и шароварах, то пожилые люди (особенно женщины) неодобрительно и осуждающе покачивали головами» [Цораев 1990: 2].
В городке были курсы кройки и шитья, вязания. После завершения учебы курсантки направлялись в села, где уже сами обучали местных жительниц, организовывали мастерские, женские клубы. Через такие курсы и мастерские в села проникали формы городской одежды [А.С. 1926: 3; З.Р. 1928: 3; Культурное… 1980: 326].
Курсантам городка приходилось приспосабливаться и к новой для них пище. Некоторые из них требовали, чтобы скот и птицу резали в их присутствии кабардинцы или балкарцы в соответствии с правилами ислама, «отдельные курсанты отказывались ходить в столовую, мотивируя это тем, что в столовой работают русские повара, которые при приготовлении пищи используют свиной жир» [Ленинский… 1964: 32, 50]. Со временем новая пища становилась привычной. Через клубы горянок в села попадали новые блюда, например, борщ [Клубы… 1928: 3].
Перспектива учебы в городке, сопряженная с коренным изменением образа жизни, казалась пугающей многим кабардинцам и балкарцам. В некоторых селах мусульманское духовенство проклинало тех жителей, которые отпускали своих детей учиться в Нальчик [Ленинский… 1964: 50]. Даже среди партийных и советских работников не находилось достаточного числа желающих добровольно ехать в городок, что заставило власти посылать их туда «в порядке принудительного воздействия» [Ленинский… 1964: 84].
Особенно трудно было набрать девушек для учебы в городке. Уже сам тот факт, что они ради учебы покидали надолго свой дом, отрывались от своих семей, жили в общежитии, с точки зрения традиционных норм казался совершенно немыслимым. Неудивительно, что «враги» распускали «много ложных слухов про курсанток Ленинского городка» [Культурное… 1985: 315]. Когда кто-то из девушек хотел поехать учиться, то односельчане старались их от этого отговорить» [Культурное… 1985: 316]. Первыми курсантками были родственницы революционеров и руководителей Кабардино-Балкарии – Б.Э. Калмыкова, Х.Т. Карашаева, М. Энеева и др. [Ленинский… 1964: 65], однако их было слишком мало. Власти вновь прибегли к насильственным действиям. Специально созданная «чрезвычайная комиссия по укомплектованию Ленинского учебного городка дала окружным исполкомам разверстку по набору женщин в городок, в селения были командированы ответработники» [Ленинский… 1964: 35]. Каждое село должно было направить хотя бы одну девушку в городок, за что несли ответственность председатели сельисполкомов. Там, где не находилось желающих, как уже говорилось, бросали жребий, и отобранных девушек насильно увозили в городок. После этого некоторые из них отказывались от еды, и председателю областного ЦИК Б.Э. Калмыкову приходилось лично часами уговаривать их остаться в городке [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 119. Т. 1. Л. 48, 70, 110, 169; Ленинский… 1964: 90].
Попав в городок, курсанты оказывались почти в столь же сложной ситуации, как и другие кабардинцы и балкарцы, переехавшие в город [Жанситов 2016: 85]. Почти никто из них не знал русского языка, который необходимо было выучить для учебы. Надо было также привыкнуть к совершенно новым условиям жизни в общежитии, к новым товарищам, к новой одежде и пище, к новым правилам поведения. Это давалось нелегко, некоторые из курсантов бросали учебу и возвращались домой. Облегчало адаптацию курсантов то обстоятельство, что в городке было много кабардинцев и балкарцев, они не теряли связи со своей этнической средой.
Но и после того, как курсанты осваивали учебу и приобщались к новым взглядам и образу жизни, их трудности далеко еще не были окончены. Когда они приезжали в кабардинские и балкарские села и выступали там против мусульманского духовенства или против медресе, когда призывали к равноправию женщин, к открытию детских садов и яслей, то жители этих сел не только возражали им, но иногда и нападали на них [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 42. Л. 127; Ленинский… 1964: 57]. Даже пункты ликвидации неграмотности вызывали угрозы и оскорбления, особенно в адрес обучающихся женщин [Ленинский… 1964: 73]. Курсантам сложно было «вносить в окружающую бытовую обстановку новые навыки, приобретенные в Городке. Особенно влияние бытовой обстановки сказалось на курсантках. Многие курсантки в бытовом отношении мало чем отличались от большинства сельчанок (костюмы, платки, участие в танцах и пр.)» [УЦГА АС КБР. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 18. Л. 98 об.]. Оказавшись в селах курсанты сами попадали под влияние местных обычаев, местной бытовой среды.
Первые выпускники городка жаловались: «Учащиеся-горожане смеялись над нами. Мы были чужими здесь и почти чужими в своих родных селениях. Против нас настроены были даже наши родные» [Два года… 1926]. В то же время курсанты пользовались поддержкой государства, многие из них сделали успешную карьеру. Среди них были руководители государственного аппарата республики, генералы, профессора, писатели. По мере того как подрастали новые поколения кабардинцев и балкарцев, воспитанные советской школой, новые формы культуры получали все более широкое распространение, и отношение к выпускникам городка менялось. Из маргинальной группы они превратились в новую элиту кабардинцев и балкарцев.
Модернизация культуры кабардинцев и балкарцев в XX в. заняла несколько десятилетий. Курсанты Ленинского учебного городка преодолели столь долгий путь в течение нескольких лет. Они могут служить наглядной моделью этого сложного процесса. От неприятия новых форм культуры они переходили к знакомству с ними, их освоению и дальнейшему распространению. Хотя городок просуществовал всего несколько лет, но его влияние на кабардинцев и балкарцев сохранялось на протяжении всего того долгого периода, когда продолжали работать его выпускники. Они сыграли важную роль в ликвидации неграмотности, в развитии системы образования, в становлении кабардинской и балкарской национальной литературы и театра. Распространение среди кабардинцев и балкарцев новых ценностей и образа жизни, новых обычаев и обрядов, новых форм материальной культуры тоже нередко начиналось с курсантов Ленинского учебного городка. В то же время их деятельность способствовала разрушению традиционной культуры, нарушению культурной преемственности, почему культурные трансформации 1920-1930 гг. получили в научной литературе последних десятилетий неоднозначную оценку [Герандоков, Герандокова 2003].
Поскольку кабардинцы и балкарцы составляли большую часть курсантов городка, то именно на культуру этих двух народов он оказал наиболее сильное влияние. Его воздействие на другие народы республики было менее заметным.
Об авторах
И. Х. ТХАМОКОВА
Институт гуманитарных исследований – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»
Автор, ответственный за переписку.
Email: omarakana@mail.ru
Список литературы
- Абазов 1996 – Абазов А.Ч. Очерки истории кабардинской драматургии. (Возникновение. Становление. Развитие). – Нальчик: Эльбрус, 1996. – 128 с.
- А.С. 1926 – А.С. В кузнице раскрепощения горянок (Ленинский учебный городок) // Карахалк. – 1926 – № 629. – С. 3.
- Герандоков, Герандокова 2003 – Герандоков М. Х., Герандокова В.З. Культурная революция в национальных регионах: миф или реальность. – Нальчик: Эль-Фа, 2003. – 202 с.
- Два года… 1926 – Два года учебы и практики // Карахалк. – 1926. – № 610. – С. 3.
- Егужоков 1928. – Егужоков М. Национальный театр. Впервые в истории // Карахалк. – 1928. – № 855. – С. 3.
- Жанситов 2016 – Жанситов О.А. Кабардинское общество в условиях урбанизации: проблемы освоения города // Кабардино-Балкария в XX – начале XXI в.: Политические и социокультурные преобразования. Сборник научных статей. – Нальчик: изд. КБИГИ, 2016. – С. 80-89.
- З.Р. 1928. – З.Р. К новому быту // Карахалк. – 1928. – № 811. – С. 3.
- Из истории… 1981 – Из истории развития социалистической культуры Кабардино-Балкарии. Сборник статей. – Нальчик: КБИИФЭ, 1981. – 201 с.
- Как будем… 1928. – Как будем праздновать 1-е мая в Нальчике // Карахалк. – 1928. – № 822. – С. 2.
- Калмыков 1983 – Калмыков Б.Э. Статьи и речи. – Нальчик: Эльбрус, 1983. – 239 с.
- Клубы… 1928. – Клубы горянок // Карахалк. – 1928. – № 862. – С. 3.
- Культурное… 1980 – Культурное строительство в Кабардино-Балкарии (1918-1941 гг.). Том 1. – Нальчик: 1980. – 382 с.
- Культурное… 1985 – Культурное строительство в Кабардино-Балкарии (1918-1941гг.). Том 2. – Нальчик: Эльбрус, 1985. – 391 с.
- Курсантка… 1928. – Курсантка. Учимся, учим других // Карахалк. – 1928. – № 809 – С. 2.
- Лекпом 1928. – Лекпом. Первомайский праздник. Две картинки // Карахалк. – 1928. – № 823. – С. 2.
- Ленинский… 1964 – Ленинский учебный городок – коммунистическая кузница кадров Кабардино-Балкарии.: сборник воспоминаний и документов / сост. Е.Т. Хакуашев. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1964. – 129 с.
- М.Б. 1928. – М.Б. Об антирелигиозной работе // Карахалк. – 1928. – № 811. – С. 2.
- Мамсиров 2004 – Мамсиров Х.Б. Модернизация культур народов Северного Кавказа в 20-е гг. ХХ в. – Нальчик: Эльбрус, 2004. – 325 с.
- Маулит… 1928. – Маулит // Карахалк. – 1928. – №857. – С.4.
- На съезде… 1929 – На съезде // Карахалк. – 1929 – № 903. – С. 2
- Писатели… 2003 – Писатели Кабардино-Балкарии. XIX – конец 80-х гг. XX в. Биобиблиографический словарь. – Нальчик: Эль-фа, 2003. – 441 с.
- Померанцева 1925 – Померанцева А. Кузница культуры (Учебный Городок) // Карахалк. – 1925 – № 570. – С. 2.
- Сарбашева 2009 – Сарбашева А.М. Балкарская драматургия: этнофольклорная традиция и эволюция жанра. – Нальчик: изд-во КБИГИ, 2009 г. – 239 с.
- УЦГА АС КБР – Управление Центрального государственного архива Архивной службы Кабардино-Балкарской республики.
- Хутуев 1984 – Хутуев Х.И. Становление и развитие социалистической культуры советской Кабардино-Балкарии. – Нальчик: Эльбрус, 1984. – 451 с.
- Цораев 1990 – Цораев С. Ушедшего неповторимые черты. Записки старожила Нальчика // Кабардино-Балкарская правда. – 1990. – № 192.
Дополнительные файлы