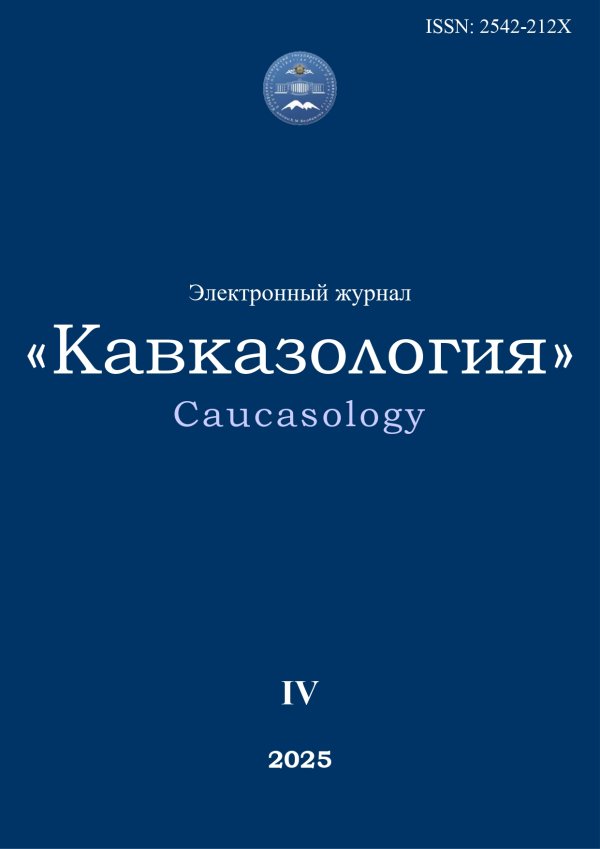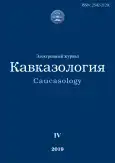СВАТОВСТВО И ЖЕНИТЬБА У АДЫГОВ В ЗЕРКАЛЕ ФОЛЬКЛОРА
- Авторы: ГУТОВА Л.А.1
-
Учреждения:
- Институт гуманитарных исследований – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»
- Выпуск: № 4 (2019)
- Страницы: 153-165
- Раздел: Фольклористика
- Статья получена: 27.05.2025
- Статья опубликована: 15.12.2019
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/293830
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2019-4-153-165
- EDN: https://elibrary.ru/DJVECS
- ID: 293830
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена сравнительному анализу этнографических сведений о сватовстве и женитьбе в традициях адыгов и их отражении в таких жанрах фольклора как архаический нартский эпос, сказка и историко-героический эпос. Цель работы определяется задачей установить значение и основные поэтические особенности вербального компонента в ритуалах, связанных с таким важным этапом жизненного цикла как сватовство и женитьба. Как общая закономерность устанавливается, что основные особенности реально существующих или существовавших обычаев нашли в фольклоре художественное отражение. Поскольку фольклор – это, прежде всего искусство, между традициями в реальной жизни и представлениями в контексте художественных произведений могут быть и прямые параллели, и расхождения, иногда настолько явные, что фольклорные описания не могут соответствовать действительности. В разных жанрах они проявляются в соответствии со сложившейся в данной области системой художественных условностей и воспринимаются как вымысел. Так, для архаического эпоса в одних случаях характерно, чтобы женитьба оставалась второй сюжетной линией на фоне основного подвига, в других же – она приближается по функции к культурному подвигу и благодаря этому выходит на первый план повествования. Сказка представляет большее разнообразие функций – от вторичности мотива сватовства и женитьбы до мотива добывания невесты как авантюрного приключения. Ближе всего к реальности стоит данный мотив в контексте историко-героических песен и преданий.
Ключевые слова
Полный текст
Женитьба как один из важных этапов жизненного цикла человека неоднократно привлекал внимание адыгских специалистов в области традиционной народной культуры. В данном плане интересны исследования С.Х. Мафедзева [Мафедзев 1979], М.А. Джандар [Джандар 1991: 15-19], Б.Х. Бгажнокова [Бгажноков 2011: 307-341] и др. Признавая всю глубину научных трудов названных авторов, надо заметить, что все они, за редким исключением, посвящены историко-этнографическому изучению явлений. Если в них и привлекаются тексты фольклорных произведений, то не иначе, как в качестве иллюстративного материала к этнологическим наблюдениям и выводам. Анализ вербального материала и вообще рассмотрение текста с точки зрения его художественных достоинств специально никем не проводились. Между тем роль песен, стихотворных тирад, народных афористических выражений и устойчивых словесных формул, приуроченных к комплексному обрядовому действу сватовства и женитьбы, отнюдь не ограничивается только служебными функциями. Своим поэтическим языком с яркими образными выражениями, четкой ритмической организацией и эстетически организованной фоникой словесная часть свадьбы как единого комплексного явления несет мощный эстетический потенциал, превращающий ритуализованное действо с первоначальной магической функцией, в театральное представление с мощными элементами секулярного искусства. В этом плане фольклор свадебного цикла имеет свою самостоятельную художественную значимость. То же самое можно сказать и о фольклорных произведениях, в основе которых лежат мотивы сватовства и женитьбы.
Такие важные этапы жизни человека как женитьба и весь цикл явлений, связанных с ней – от первоначального намерения до завершения свадебных церемоний – в фольклоре разных народов бывают широко представлены во многих жанрах фольклора, в том числе и в архаическом эпосе, и в сказках, и в преданиях, и в песнях. То же мы наблюдаем и в традиционной культуре адыгов, в частности в нартских сказаниях, событийную основу которых в большей части составляют мифологические нарративы, и в сказке с ее гораздо более раскованной фантазией, и в историко-героических циклах, более тесно связанных с исторической действительностью. Конечно же, в каждом из конкретных случаев описание сватовства и самого заключения брака подчинено закономерностям того фольклорного жанра, в котором оно представлено. Но основные моменты, такие как, например, повод отправления героя на поиски невесты, препятствия, которые должен преодолеть герой, сам момент женитьбы, некоторые эпизоды свадебного торжества, степень активности невесты и жениха или каждой из сторон вписываются тесно в общую традицию. Задача настоящей работы – с опорой на ключевые принципы историко-сравнительного метода систематизировать самые распространенные формы заключения брака на основании достоверных сведений и отметить характер их художественного отражения в некоторых жанрах адыгского фольклора. В связи с тем, что материал не просто представлен в разных жанрах фольклора, но и значителен по объему и многообразен по характеру отражения явлений, в настоящей работе мы рассматриваем наиболее общие закономерности их бытования и отражения только в героико-эпических сказаниях и сказках.
Основываясь на обширных достоверных этнографических материалах, исследователи справедливо отмечают, что наиболее распространенная и принятая за основу форма женитьбы – это официальное сватовство. Оно предполагает следующую цепь основных и канонизированных традицией действий: предварительные условия, побуждающие к сватовству (напр., знакомство и внешние проявления взаимных симпатий между молодыми людьми, уговор между ними, и согласие родственников с обеих сторон; одной из альтернатив может быть установление контактов и договоренности между родственниками при пассивном участии самих молодых людей), отправление на переговоры в дом невесты сватов от имени самого жениха или же его фамилии, в результате – установление условий и сроков заключения брака, увоза невесты из ее родительского дома, проведение полного цикла торжественных ритуалов, непосредственно связанных со свадьбой.
Идеальным вариантом надо признать случай, когда молодые люди сами, договорившись между собой, поручали кому-либо из друзей оповестить об их намерениях родителей или же старших рода; сами они этого не делали из этических соображений. В таком случае семья девушки должна была быть в курсе того, что их дочь собираются сватать, но до определенного времени на людях не было принято раскрывать намерения сторон. Также и семья будущего жениха узнавала об ожидаемом событии (даже если не она сама была инициатором предстоящего сватовства) и соответственно готовилась к нему. Но при этом также было не принято до определенной поры заявлять о замыслах заранее и, тем более, не объявлялось имя избранницы. В случае обоюдного согласия сторон, включая самих виновников события, весь цикл предсвадебных и свадебных церемоний проводился полностью – от «дипломатических» переговоров между сторонами до последних по негласному регламенту мероприятий.
Альтернативой открытому сватовству со всеми церемониальными условностями служит умыкание невесты: юноша, предварительно никого не предупредив, или же поставив в известность лишь узкий круг людей, умыкает девушку и только вслед за этим гласно оповещаются как его, так и ее родственники. Это исключает целый ряд звеньев свадебного цикла, например, такие компоненты как затяжные переговоры сватов и торжественный вывоз невесты из родного дома. Правда, при этом есть риск негативной реакции с обеих сторон, т. е. родственников как юноши, так и девушки. Однако в большинстве случаев это делается с негласного одобрения старейшин, и в таких случаях умыкание приближается к театрализованной импровизации.
Такой поступок может совершаться как по обоюдному сговору самих молодых людей, так и по инициативе только жениха или жениха вместе с компаний единомышленников. Иногда это происходило даже без учета воли не только родителей и других родственников с обеих сторон, но также и самой умыкаемой. Иногда девушка узнавала своего похитителя уже после самого похищения. Причины, по которым прибегали к данному способу, бывают разными. В одном случае это стремление влюбленных соединить свои судьбы вопреки воле родственников, не приветствующих их союза по каким-либо причинам. В другом случае – желание форсировать все длительные церемонии, связанные с обременительной традиционной формой сватовства и брака. В третьем (что также бывало) – элементарное желание избежать обширных материальных затрат, которые неизбежны и бывают обременительными при соблюдении всех принятых условностей. Не последней из причин было также стремление юноши поступить, как подобает настоящему рыцарю-наезднику: не сосватать себе невесту «мирным путем», а похитить ее и принести в свой дом на лихом скакуне как дорогую добычу. Все названные и разного рода иные обстоятельства привносят разнообразие в последующие действия.
В традиционном обществе брак между молодыми людьми непременно имел следствием установление родственных отношений между двумя и даже более родовыми кланами. Данное обстоятельство побуждало к признанию особой важности выбора не только для жениха и невесты, но и для всей родни, и старейшины порою весьма щепетильно относились к этому. Неудивительно, что нередким явлением было несогласие родителей и близких родственников на брак и, следовательно, на союз между кланами.
Это тоже может иметь разные причины. Во-первых, по сугубо этикетным соображениям, не всегда было принято давать согласие при первом же посещении сватами дома невесты. По негласному уговору, даже при благосклонном отношении к затее, сторона невесты стремилась затянуть переговоры, не дать сразу однозначного ответа. В таких случаях сваты терпеливо приходили и повторно. Но иногда воля жениха или же обоих влюбленных шла откровенно вразрез с волей их родственников – одной из сторон или же обеих. Такова, например, отраженная в мировой художественной культуре мотивированная взаимная неприязнь между кланом жениха и кланом невесты (условно это можно называть синдромом Монтекки и Капулетти). Также важным фактором было, например, сословное несоответствие фамилий жениха и невесты. Весьма частое в сказках разных народов, в их числе и адыгов, упоминание о том, как герой из низшего сословия женится на дочери короля (на царевне, княжне, дочери хана) есть не что иное, как художественный вымысел, поскольку в действительности межсословные союзы не одобрялись и довольно строго регулировались, хотя, например, между дворянами-уорками разных степеней жесткой разделительной грани не было.
Согласно исследованиям ряда ученых, таких как М.В. Покровский [Покровский 1958: 122], В.К. Гарданов [Гарданов 1967], Б.М. Джимов [Джимов 1986] адыгское общество имело достаточно сложную структуру, в соответствии с которой и аристократические сословия и простой народ подразделялись на достаточно строго дифференцированные категории. Идеальным вариантом считался брак между во всем равными партнерами – молодой князь искал себе невесту из княжеского рода, дворяне более низкого ранга старались родниться с теми, кто на иерархической лестнице стоит на одной ступени с ними, а иногда допускалось искать партию чуть выше или немногим ниже, вольный крестьянин женился на девушке из семьи таких же свободных крестьян.
Как пишет Султан Хан-Гирей, «брак учреждаться должен по обычаям, по равенству родов; князья берут из княжеских родов и, равномерно отдают дочерей лишь за княжеских сыновей» [Хан-Гирей 1978: 291]. Однако чуть ли не все княжеские фамилии черкесов или давно перероднились между собой, или же и вовсе имели общее происхождение. А согласно обычаю, идущему, кстати, вразрез с неписаными или законодательно закрепленными нормами у многих мусульманских народов, иудеев и некоторых ветвей христианства, у адыгов кровосмешение, а иначе – браки между родственниками по крови, решительно осуждались. В данных условиях высшая знать, т. е. представители княжеского сословия, поневоле была вынуждена искать брачных союзов за пределами своего этноязыкового круга. Это явилось одной из важных причин, по которой адыгские княжеские фамилии были связаны родственными узами через брачные отношения с крымскими, калмыцкими и ногайскими ханскими династиями, с домом кумыкских шамхалов, грузинскими княжескими фамилиями, но никак не ниже. Уместно вспомнить здесь и о хорошо известных связях с русской царствующей династией (Иван Грозный и Мария Темрюковна), с персидским шахом, турецким султаном.
За исключением княжеского сословия, в среде дворянства был даже популярен принцип, закрепленный в поговорке: «еIэбыхи къашэ, дэIэбеи ет» Беря <невесту>, бери внизу, отдавая,<замуж>, выбери вверху». прагматическая суть этого выражения в том, что невестка из более знатного рода захотела бы, пользуясь высоким происхождением, диктовать свою волю, поставила бы себя в доме выше других домочадцев и находила бы в этом поддержку со стороны собственной родни. Если же она из рода во всем равного или даже немного более низкого по сравнению с родом мужа, у нее уже нет опоры для навязывания в новой для нее семье привычных ей принципов, и поэтому она может стать более послушной и покладистой.
Характерным поводом взаимного неприятия для кавказского менталитета и феодальной эпохи в целом могли стать личные неприязненные отношения между родителями / родственниками жениха и невесты или же между старейшинами родов, а также такие важные с точки зрения престижа виды у родителей или всей родни на вероятное появление для своего отпрыска более выгодной партии.
Последнее обстоятельство не нашло широкого отражения ни в архаическом эпосе, ни в сказке, ни в народной афористике. Однако оно все же послужило мотивом для возникновения одного из самых популярных циклов младшего эпоса – песни и предания о Хасанше из рода Шогемоко. Как гласит предание, юноша Хасанш Шогемоко был горячо влюблен в девушку по имени Дадуса, пользовался взаимностью и рассчитывал жениться на ней. Но, не считаясь с чувствами молодых людей, родные девушки считают эту партию для себя не выгодной и выдают возлюбленную героя за знатного чужеземца, сына ногайского хана. Юноша, не желающий мириться с такой утратой, устраивает в одиночку засаду на пути свадебного поезда, увозящего его возлюбленную. Вначале он успешно отбивает невесту у целой компании, но, не сумев все же уйти от погони превосходящих сил, в схватке и сам погибает. Девушка, тронутая столь самоотверженным поступком, продиктованным любовью к ней, предпочитает умереть рядом с юношей. Однако, не выдавая сразу своего намерения, она сначала предлагает поезжанам похоронить погибшего по всем правилам, сама же вызывается опуститься в могильную яму, чтобы уложить его тело в полном соответствии с обычаем, но, оказавшись в яме, закалывается, предпочтя быть похороненной рядом со своим возлюбленным. Пораженные увиденным, участники свадебной церемонии хоронят обоих в одной могиле; со временем над нею вырастают два деревца с переплетенными стволами (в мировом фольклоре и литературе – т. н. мотив Тристана и Изольды) [Народные… 1986: 126-133, 134-137, 138-141].
Аналогичное в общих чертах обстоятельство, взаимная неприязнь родных с обеих сторон является событийной основой еще одной лиро-эпической песни-баллады, «Адиюх» [Къэбэрдей… 1948: 62-63; Адыгэ… 1979: 67-68]. Она распространена по всей исторической Черкесии и представляет собой явление, переходное от подлинно героико-исторического эпоса к лирическому жанру. Предание, сопровождающее ее в развернутом повествовании до нас не дошло, и это, видимо, потому, что информативная часть песни самодостаточна и может быть понятна без специальных комментариев. Те иногда обрывочные сведения, просматривающиеся в песенном контексте позволяют воссоздать целостную картину всего происшедшего по мнению исполнителей. Песня не приурочена к реальному событию, как чаще всего бывает в циклах младшего эпоса. Она сложена от имени безымянного юноши, оплакивающего гибель возлюбленной Адиюх, которая стала жертвой неудачного похищения-побега. Влюбленные, испытывавшие горячие чувства друг к другу с малых лет, видимо, не надеются получить согласие родителей и родственников на их брак. Поэтому они решаются на умыкание или ее побег из родительского дома, договариваются о сроке и поначалу их замысел будто бы удается: юноша подъезжает к окну возлюбленной, она садится на холку его коня, и счастливый жених уносит ее на резвом скакуне. Однако, вынужденные скрываться, они скачут лесом, где неожиданно вылетевший из-под ног фазан пугает коня, тот мечется в сторону, девушка неудачно падает наземь и разбивается насмерть. Юноша остается один на один со своим горем и языком песни оплакивает погибшую, одновременно сетует на судьбу. В отличие от большинства традиционных лирических и даже лиро-эпических песен адыгов, «Песня Адиюх» имеет развернутый сюжет. Однако повествовательная канва прослаивается рефреном «Уэр си Адииху» – «О моя Адиюх», повторяющимся после каждого стиха нарративного текста. В сочетании с минорной мелодией песни это создает атмосферу трагической причастности к суровому миру, который остро нуждается в чутком, бережном отношении к личности со всеми тонкими движениями души. Лирический герой сетует на то, что даже тело любимой ему положить некуда: отнести к себе домой – она там чужая, в ее собственном доме она проклята родителями за ослушание, уложить на землю – насекомые изъедят, положить на верхушку дерева – вороны исклюют. Понятно, что это художественная условность, при посредстве которой изливается во всей глубине чувство огромной утраты, осознание того, что для героя разрушился прекрасный иллюзорный мир, в который он мечтал поместить свою любимую и самому быть с ней рядом.
Образный предметный мир четко делится на явления, полные романтического флера, но все же отдаленно пробуждающие тревогу (черный конь, распахнутое окно, через которое выходит любимая, ночная дорога, черная бурка, горячее объятие) и откровенно трагически значимые (окровавленное тело, смерть в объятиях возлюбленного, бессильного что-либо сделать, звери, рыщущие по лесу, всеядные муравьи, черные вороны). В тексте песни почти нет эпитетов и метафор, которые бы могли запасть в память. Вместо них мы видим обилие глаголов, которые тоже можно поделить на две группы. Первую составляют слова, обозначающие пылкую любовь: «с малых лет мы любили», «с малых лет я о тебе мечтал», « о тебе тосковал», «коня черного взнуздал», «к окну твоему подскакал», «ты на коня прыгнула», «мы в объятия бросились». Вторая и доминирующая группа – глаголы, имеющие в песенном контексте негативное содержание: фазан вылетает, конь отлетает, драгоценная ноша падает, погибает, испускает дух в объятиях. Всю несложную образную систему пронизывает фраза «Куда, куда же я тебя дену». Понятно, что речь не просто о мертвом теле, а о том, как жить с тем безысходным горем, охватившим лирического героя, если для него обрушились все мечты и надежды, о которых он мечтал с самого детства. Вот такую песню породил мотив конфликта между светлым человеческим чувством и жестокой реальностью бытия.
Особую группу образуют случаи заключения брака без учета мнения самих молодых людей, вовсе без их участия, а по уговору между родителями или близкими родственниками. Этот способ, как и другие, имеет несколько различных вариантов. Пожалуй, наиболее распространенный – это волевое решение старших (отца, матери, старейшин рода и пр.) выдать свою дочь (племянницу, младшую сестру) за такого-то или женить сына (племянника, младшего брата) на такой-то. Молодые люди могли принимать душой или не принимать такое решение, но, как правило, были вынуждены повиноваться предписаниям старших. Думается, что это одна из древнейших форм заключения союза, когда брак двоих означает союз между кланами. Так, например, уже в архаическом эпосе запечатлено, как великанша-мать выдает свою дочь за нарта Канжа, нисколько не интересуясь ее волей, благо, та и не противится. Но уже в замужестве она проявляет свой дикий норов во всей полноте [Нарты… 1974: 308-310]. Любопытный факт связывается с женитьбой нарта Шауея, сына того же самого Канжа и его жены-великанши: будущая невеста, переодетая в костюм мужчины-наездника, подвергает героя своеобразным испытаниям. Вначале она предлагает ему трудную задачу – содержать гостя на определенных условиях в течение длительного времени. После исполнения данного условия следует не менее суровое испытание – участие в опасном походе и бое с великанами [Нарты… 1974: 313-318]. Тот же мотив переодевания девушки в связке с последующей женитьбой представлен и в другом цикле архаического эпоса: в сказании «Чачана сын Чачаны» из цикла, посвященного нарту Бадиноко / Шабатыныко, герой в поисках пропавшего отца вступает в бой и расправляется с жестокими великанами, с которыми не могла справиться сама девушка (или же ее брат), а затем удостаивается ее руки [Нартхэр… 2002: 209-229, 238-240, 241-278]. В вариантах сказания имя героя варьируется, а образ невесты оказывается раздвоенным: фигурируют брат и сестра, однако в контексте девушка именуется «девушка – прекрасная богатырша» [Нартхэр… 2002: 229], и это дает основание считать, что брат – персонаж вторичный, появившийся в результате раздвоения образа, по всей вероятности изначально единого.
Сюжет с переодеванием или даже перевоплощением используется и в сказке – «Прекрасная Елена и богатырь-женщина»: герой, отправившийся на поиски похищенной или сбежавшей от него жены, встречает в пути юношу, при активном содействии которого ему удается разыскать и возвратить законную супругу. Впоследствии помощник оказывается переодетой девушкой, которая впоследствии составляет герою по-настоящему достойную партию. Но чтобы ее разыскать, а затем и заслужить ее полное расположение, герою требуется пройти новую серию испытаний [Кабардинские… 1891: 51-77]. Надо заметить, что уже в архаическом нартском эпосе представлены примеры женитьбы по обоюдному согласию самих молодых людей. Так, нарт Хымыш, оказавшийся в гостях у своего новоявленного кунака из племени карликов-испов, знакомится с его дочерью, в молодых людях пробуждаются взаимные симпатии, и впоследствии они, по общему согласию, женятся [Нартхэр… 1970: 16-18, 20-22, 22-23].
К числу браков по выбору родителей относится оригинальный обычай делать зарубку на колыбели: если у одного из двух друзей или же целых семей, связанных крепкой дружбой, появляется на свет мальчик, а у другого – девочка, в знак желания породниться между собой они, по обоюдному уговору, делали одинаковые зарубки на колыбелях своих новорожденных. Таким образом, судьба детей оказывалась предначертанной родителями еще с колыбели. Этот обычай мало описан в этнографических трудах, нечасто он отмечен также в фольклорных материалах, но в реальной жизни он был нередок, и это нашло отражение даже в современной художественной литературе как явление, не исчезнувшее даже в ХХ в., когда многие традиционные институты предавались забвению как «пережитки темного прошлого». В частности, в повести Биберда Журтова «Неурочная весна» на этом базируется ключевой художественный конфликт [Журт 1997: 239-317].
Часто в сказках и сказаниях сватовство или поиски жены образуют сопутствующие сюжетные ходы, как, например, в упомянутом выше сказании о Чачане. То же видим и в сюжете из цикла, посвященного нарту Ашамезу: герой отправляется мстить за кровь убитого отца, по пути совершает ряд дерзких поступков, предваряющих главный подвиг, после многих перипетий расправляется с коварным врагом и вместе со всем его добром, которое он забирает в качестве трофея, привозит к себе домой и его жену-волшебницу [Кабардинские… 1891: 38-58].
В сказках нередко сватовство превращается в своего рода продолжение или же органическую часть инициальных испытаний. В подобных случаях образ героя представляется не только как идеал отважного наездника, хотя воинские доблести всегда стоят на первом месте. Наряду с этим в идеализированной форме внимание сказителя и аудитории концентрируется на таких качествах как ясность ума, сообразительность, знание тонкостей этикета, верность данному слову, готовность всеми силами защищать и оберегать и свой край, и свою семью, супругу, детей, собственное достоинство. Например, в основе сюжета сказки «Красавица Елена и богатырь-женщина» лежит история о том, как герой хоть и заполучил в жены прекрасную Елену, но быстро ее потерял [Фольклор адыгов… 1979: 365-390]. Тем самым он оказался в положении человека, который или должен примириться с потерей и, значит, утратить былой авторитет в обществе, или же любыми способами разыскать беглянку и этим отстоять свое истинное достоинство. Тем самым он подвергается уже не явно инициальным по сути или досвадебным, а послесвадебным испытаниям. В результате герой разыскивает беглянку, чем восстанавливает свой статус. Заодно он получает право на руку по-настоящему достойной невесты. Сказка представляет собой успешную контаминацию нескольких сюжетов, объединяемых фигурой главного героя. Первый из них – поиски невесты, женитьба, исчезновение и возвращение супруги. Начало его это не столько художественное повествование, сколько информативный рассказ о событии. Даются общие сведения о самом герое, сообщается (но не живописуется) о том, как долго он искал невесту, как нашел ее и женился. О свадьбе тоже просто рассказывается – что на нее собралось много народу, и что длилась она несколько дней. Подробных описаний хода самой свадьбы нет. Только эпизод традиционного отправления князя в годичный поход изложен с некоторыми подробностями. Когда же в повествование вплетается новый сюжет, прибытие лукавого соблазнителя, появляются обстоятельно описываемые эпизоды, диалоги, даже рассказ о душевном состоянии героев. Следующий сюжет – поиски новой невесты: в нем также резонно выделить такие компоненты как поиски, сватовство, испытания, женитьба. Наконец, еще один сюжет – это своеобразное послесвадебное испытание героя.
В другой сказке, записанной в XIX в., «Поиски жены», авантюрный сюжет построен на том, что молодой княжеский сын твердо решил не возвращаться домой, пока он не найдет себе невесту с заданными признаками [Фольклор адыгов… 1979: 304-312]. Как нетрудно понять, это не что иное, как художественный прием завязывания интриги, и он имеет место только в системе условностей сказки как жанра словесного искусства.
Упомянутый выше популярный мотив поисков пропавшей жены примечателен в сказках появлением нового героя, помощника, играющего важную роль в дальнейшем повествовании. В эпизоде схватки за Елену герой Карабатыр и его спутник проявляют одинаковое мужество и решительность. Однако для героя, как оказывается, не так важно было вернуть не любимую супругу, как нечто иное – очиститься от позора, который был неизбежен, если бы он не справился с трудной задачей. Поэтому, когда жена уже возвращена, Карабатыр с легким сердцем соглашается на то, чтобы его спутник поделил ее, как добычу, на две равные части, то есть убил бы ее. Мотивирует он такое отношение тем, что после всего случившегося «...все равно мне с ней нет житья!» [Кабардинские… 1891: 61]. В качестве своеобразного вознаграждения за такую твердость духа незнакомый помощник сообщает, где и кого герой может разыскать как достойную его невесту. Однако если это и вознаграждение, то оно выполняет некую промежуточную функцию, предполагающую новую интригу во всем повествовании, но не означает окончательного закрытия темы.
Вторая часть как бы повторяет фрагмент первой, где вновь герой ищет невесту, но уже известную ему по имени. Это уже третье по счету испытание героя, но опять-таки не последнее, потому что разыскав свою суженую, он еще должен победить соперников в состязаниях по метанию или толканию камня, а, уже привезя невесту в свой дом, он оказывается перед необходимостью доказать собственное превосходство над новой женой. Только скрытое участие в кампании наездников под предводительством переодетой жены, в которой он неожиданно для себя узнает того самого помощника-богатыря, который вместе с ним отвоевывал Елену, и очевидное доказательство своего превосходства над ней приводят к окончательному итогу: побежденная в негласном соперничестве, женщина навсегда порывает с прежним образом жизни, перестает облачаться в мужскую одежду и заниматься ратными делами и отныне полностью посвящает себя сугубо женским обязанностям.
Совсем неслучайно В.Ф. Миллер отмечает в данной сказке параллели с гомеровским эпосом, а в образе богатыря-женщины – с мировым мотивом «благодарный мертвец» [Сравнительный… 1979: 144-146]; кроме того, ученый обращает внимание на мотив «деления добычи» – в иных версиях при замахе мечом над нею первая жена от испуга освобождается от вселившейся в нее нечистой силы и после этого становится верной своему супругу [Кабардинские… 1891: 74; Сравнительный… 1979: 144]. А помощник, выполнивший свою функцию, исчезает, как это характерно для вариантов мотива о благодарном мертвеце.
Разумеется, изложенным не исчерпывается все многообразие форм отражения интересующего нас отрезка жизненного цикла в привлекаемых жанрах фольклора. Данная тема требует гораздо более широкого рассмотрения, что предстоит сделать в будущем. Однако и проанализированный материал позволяет сделать некоторые выводы.
Прежде всего, надо заметить, что между достоверными сведениями о формах брака и их отражением в фольклоре налицо как совпадения, так и расхождения. Так, в реальности, в героическом эпосе и сказке представлены случаи официального сватовства, предсвадебных испытаний, умыкания. Но сами формы объективации могут иногда сильно различаться. В нартском эпосе это приближается к архаическому мифу о культурном подвиге (добывание блага; только на месте блага в мифологических нарративах здесь – невеста), в сказке на первый план выходят задание, исходящее или от старших, или же вызываемое обстановкой, а также собственное желание, поиски приключений.
Как и можно было ожидать, в эпосе вообще побудительный мотив более реалистический, благодаря тому, что эпические герои и события не воспринимаются как чистый вымысел. Соответственно, сватовство здесь соединяется творческой контаминацией с мотивами добывания или упорядочения пространства путем устранения носителей хаоса или всеобщего зла. Эпический герой преодолевает такого же характера трудности, что и герой мифа, приносящий людям огонь, важное орудие труда, зерна культурного растения или же упорядочивающий космос, отвоевывающий пространство у фантастических существ, олицетворяющих неупорядоченную стихию природы, тучные пастбища, волшебный источник благополучия и пр. Отсюда и нередкая вторичность по значению самого акта женитьбы. Так, Чачана вызволяет своего отца и лишь «попутно» обретает невесту, однако привозит домой отца и невесту не вместе, а порознь. Ашамез мстит за своего отца и в качестве трофея привозит к себе жену убитого им противника. В сказке сватовство и женитьба чаще бывают центральными сюжетообразующими мотивами. Условность в повествовании здесь более очевидна и она обусловлена общей для сказок разных народов закономерностью, которая сформулирована в русском фольклоре фразой «сказка – ложь, да в ней намек», указывающей на свободу сознательного вымысла (это могут быть и явно авантюрные сюжетные ходы в описании поисков и средств достижения цели, и жестокость брачных испытаний, когда неудачник лишается головы, чего в реальности не могло быть). Наконец, в историко-героическом эпосе описываемые действия более всего приближены к реальности, а условность занимает в них явно подчиненное положение и служит однозначно воспринимаемым эстетическим целям.
Есть основания заключить, что фольклор как искусство имеет свою систему условностей, базирующуюся на реальной действительности, но не повторяющую ее с фотографической точностью. Причем в каждом жанре эта система имеет такие особенности, которые коррелируют с его общими тенденциями.
Об авторах
Л. А. ГУТОВА
Институт гуманитарных исследований – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»
Автор, ответственный за переписку.
Email: adam.gut@mail.ru
Список литературы
- Адыгэ… 1979 – Адыгэ уэрэдыжьхэр. – Налшык: Эльбрус, 1979. – 224 н. (Адыгские народные песни. – Нальчик: Эльбрус, 1979. – 224 с.) (на кабард.-черк. яз.).
- Бгажноков 2011 – Бгажноков Б.Х. Базовые принципы и основные условия заключения брака // Бгажноков Б.Х. Этнография адыгов. – Нальчик: Эльбрус, 2011. – С. 307-341.
- Гарданов 1967 – Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов. – Москва: Наука, 1967. – 330 с.
- Джандар 1991 – Джандар М.А. Песня в семейных обрядах адыгов. – Майкоп: Адыгейское книжное издательство, 1991. – 143 с.
- Джимов 1986 – Джимов Б.М. Социально-экономическое и политическое положение адыгов в XIX в. – Майкоп: Краснодарское государственное книжное издательство, 1986. – 190 с.
- Журт 1997 – Журт, Биберд. Гъатхэ пасэ // Журт Биберд. Тхыгъэхэр. – Налшык: Эльбрус, 1997. – 440 н. (Журтов, Биберд. Неурочная весна // Биберд Журтов. Избранные произведения. – Нальчик: Эльбрус, 1997. – 440 с.) (на кабард.-черк. яз.).
- Къэбэрдей… 1948 – Къэбэрдей уэрэдхэмрэ псалъэжьхэмрэ. – Налшык: Къэбэрдей къэрал тхылъ тедзапIэ, 1948. – 197 н. (Кабардинские песни, пословицы и поговорки. – Нальчик: Кабардинское государственное книжное издательство, 1948. – 197 с.) (на кабард.- черк. яз.).
- Мафедзев 2000 – Мафедзев С.Х. Адыги. Обычаи. Традиции. – Нальчик: Эль-Фа, 2000. – 359 с.
- Нарты… 1974 – Нарты. Адыгский героический эпос. – Москва: Наука, 1974. – 416 с.
- Нартхэр… 1970 – Нартхэр. Адыгэ эпос. Т. IV. – Мыекъуапэ: Краснодар къэрал тхылъ тедзапI, 1970. – 311 н. (Нарты. Адыгский эпос. Т. IV. – Майкоп: Краснодарское государственное книжное издательство, 1970. – 311 с.) (на диалектах адыгского языка).
- Нартхэр… 2002 – Нартхэр. Адыгэ эпос. – Мыекъуапэ: ГУРИПП Адыгея, 2002. – 319 н. (Нарты. Адыгский эпос. – Майкоп: ГУРИПП Адыгея, 2002. – 319 с.) (на кабард. яз.)
- Народные… 1986 – Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов: в 3-х т. Т. 3: Героические величальные и плачевные песни / Под редакцией Е. В. Гиппиуса. – Москва: Советский композитор, 1986. – 264 с.
- Покровский 1958 – Покровский М.В. Адыгейские племена в конце XVIII – первой половине XIX века // Кавказский этнографический сборник. – М.: Наука, 1958. – Вып. II. – С. 91-138.
- Кабардинские… 1891 – Кабардинские предания, сказания и сказки, записанные по-русски // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис: Типография канцелярии главноначальствующаго гражданскою частию на Кавказе, 1891. – Вып. 12. – 618 с.
- Сравнительный… 1979 – Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. – Ленинград: Наука, 1979. – 438 с.
- Хан-Гирей 1978 – Султан Хан-Гирей. Записки о Черкесии. – Нальчик: Эльбрус, 1978. – 335 c.
- Фольклор адыгов… 1979 – Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX – начала XX вв. – Нальчик: Эльбрус, 1979. – 404 с.
Дополнительные файлы