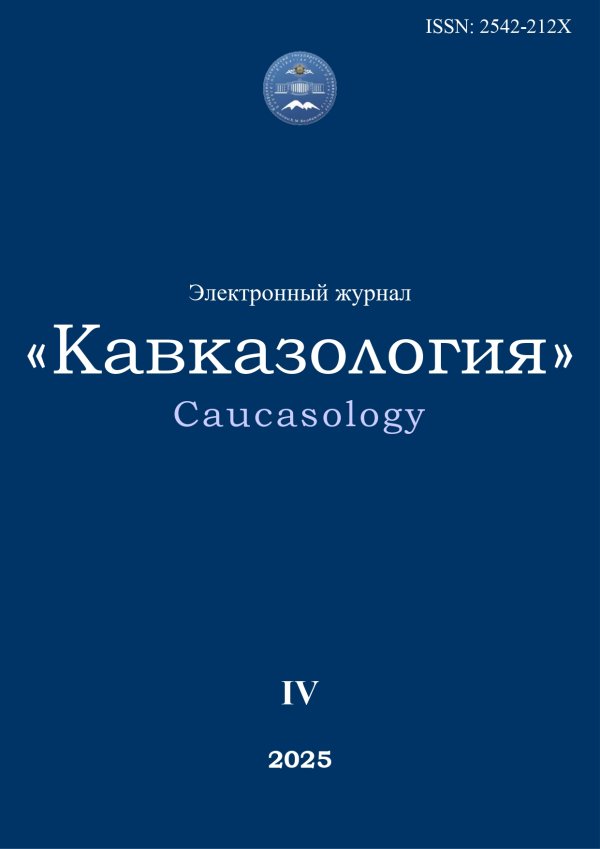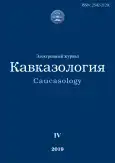О МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ ОДНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗА В ЛИРИКЕ АЛИМА КЕШОКОВА
- Авторы: КУДАЕВА З.Ж.1
-
Учреждения:
- Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
- Выпуск: № 4 (2019)
- Страницы: 166-174
- Раздел: Литература народов Российской Федерации (литература народов Северного Кавказа)
- Статья получена: 27.05.2025
- Статья опубликована: 15.12.2019
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/293831
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2019-4-166-174
- EDN: https://elibrary.ru/YZLEBS
- ID: 293831
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье исследуется образ Млечного пути – Шыхулъагъуэ (каб.-черк.), как одной из значимых поэтических констант в лирике Алима Кешокова. Анализ образа Млечного пути в творчестве поэта и знаковой семантики этого образа в нартском сказании «Лъэпщрэ Жыг-Гуащэмрэ» – «Тлепш и Богиня-Дерево» и космологической легенде о возникновении Шыхулъагъуэ – Млечного пути позволил выявить общность их основного смысла, опирающегося на древнейшие мифопоэтические представления адыгов. Образ Млечного пути – Шыхулъагъуэ в нартском сказании репрезентирует одну базовых элементов адыгской мифопоэтической картины мира – горизонтальную структурную координату космоса. В жанре мифологической легенды этот символ получает дополнительное смысловое значение – движения и пути. Образ Млечного пути в поэзии Алима Кешокова, сохраняя свою основную, имплицитно присутствующую мифологическую семантику – горизонтали, движения и пути, трансформируясь и преломляясь его поэтическим мышлением, приобретает, новые смысловые коннотации и предстает в качестве символического, нравственно-этического ориентира духовной вселенной поэта. Анализ знаковой семантики образов и символов стихотворений Алима Кешокова, позволил выявить мифопоэтическую составляющую художественного сознания поэта, в частности, имплицитно присутствующие в нем традиционные архетипические представления о пространственной структуре адыгского мифопоэтического космоса.
Ключевые слова
Полный текст
Творчество Алима Кешокова, несмотря на ставшие уже классическими труды М.Г. Сокурова [Сокуров 1969], В.Ц. Гоффеншефера [Гоффеншефер 1969], работы З.М. Налоева [Налоев 1970], А.И. Алиевой [Алиева 1975], С. Алиевой [Алиева 1985], В.В. Дементьева [Дементьев 1985], а также современные исследования Ю.М. Тхагазитова [Тхагазитов 1987], А. Абазова [Абазов 2004], А.М. Гутова [Гутов 2003], 3.X. Баковой [Бакова 2000], Х.Х. Хапсирокова [Хапсироков 2002] Л.Х. Хежевой [Хежева 2005], К.Н. Паранук [Паранук 2012] и др. – все еще остается недостаточно изученным явлением адыгской литературы. Значимость поэзии и прозы писателя состоит, как представляется, в подлинной народности, традиционности его творчества. Термин «народность» и скрывающееся за ним понятие, дискредитировано вульгарно-социологическим подходом, получившим широкое распространение в отечественном советском литературоведении и критике. Однако народность творчества, традиционный характер творческого сознания Алима Кешокова выходит далеко за рамки этого ставшего привычным штампа. Строка из его стихотворения «поэт, со своею посадкой в седле» – определяющий для Алима Кешокова критерий художественного творчества – это образ, применимый, прежде всего, к его собственной поэзии. Он определяет специфические особенности его поэтического облика, его личности, его стихов, воплотивших особенности национального характера, мировосприятие, нравственно-этические установки и философию народа. Но этот нравственно-этический кодекс адыга – воина и рыцаря, только один семантический пласт его поэзии. Под ним – более глубокий мир архетипических знаков и символов, свойственный адыгскому мифопоэтическому сознанию.
Исследование поэзии А. Кешокова в аспекте выявления органической, имплицитно присутствующей в ее мотивах, образах связи и соотнесенности с основными понятиями, символами и категориями традиционного адыгского сознания, с присущими ему мифопоэтическими по своей природе знаками, образами и структурами позволит понять специфику его творчества, природу присущей ему народности и особенностей его художественной стилистики.
Одним из таких символических, знаковых образов в поэзии Алима Кешокова является образ Млечного пути – «Шыхулъагъуэ» (каб.-черк.) – «Путь табуна лошадей»:
В ночном просторе Путь протянут Млечный,
Мониста звезд мы видим наяву.
Широкий путь – блестящий, бесконечный,
Он опоясал неба синеву
(«Шум и гъуэгу» – «Путь всадника»)1
«Млечный путь» – «Шыхулъагъуэ», согласно сюжету адыгской космологической легенды возник тогда, когда во время гибели мира, бог, восхищенный совершенством кабардинских лошадей, решил спасти их и вознес на небо. Звезды Млечного пути – это следы от копыт на небесном пути, которые оставил пронесшийся по нему табун лошадей. По другой версии легенды, которую, по свидетельству Ольги Дерико, написал сам А. Кешоков, Млечный путь возник, когда несущийся во весь опор всадник внезапно останавливает своего коня перед пастью возникшего перед ним чудовища. Искры, вылетевшие из-под копыт коня, взлетают до неба и превращаются в звезды Млечного пути. «Когда всадник из племени нартов-богатырей нес людям похищенный огонь – огромную головешку, конь остановился на всем скаку. Перед всадником зияла гигантская пасть удава. В ночной мгле всадник легко мог угодить в эту пасть, если бы не конь. От резкой остановки конь задними ногами вспахал небо, а от головешки посыпались искры. Они зажглись на небе широкой звездной полосой. Кабардинцы смотрят на небо, на Млечный Путь, и говорят – Путь Всадника[2].
Следует отметить, что космологические легенды, по своей сути, являются жанровой трансформацией древнейших мифов, которые на архаических этапах развития человеческого сознания служили объяснением тех или иных явлений окружающей действительности и воссоздавали собственную мифологическую картину или модель мира.
Наряду с образом «Млечного пути», как «Пути табуна лошадей» в легенде, существует еще один аспект его интерпретации в еще более архаичном жанровом воплощении – в эпическом сказании «Лъэпщрэ Жыг-Гуащэмрэ» – «Тлепш и Богиня-Дерево» [Адыгэ IуэрыIуатэхэр… 1963: 72-74]. Согласно сюжету, божество кузни, повелитель железа и подземного огня, нартский кузнец Тлепш отправляется на поиски края земли. Истерев в поисках подошву скованных им железных башмаков и железный посох Тлепш встречает Богиню-Дерево – Жыг-гуащэ. Ветви Жыг-гуашэ – высоко в небесах и она знает все, что касается небес, корни ее глубоко в земле, и она знает все о подземном мире, а ее тело прекрасной женщины находится в срединном мире, и она знает все о том, что происходит на земле: «И лъабжьэр кууэ щIым хэту, и щхьэцыр пшэм хуэдэу уэгум иту, и IитIыр цIыхуIэу, и нэкур дахэм я нэхъ дахэу, дыщэмрэ дыжьынымрэ къыхэщIыкIауэ» – «Ее корни – в глубинах земли, ее волосы, как облака в небе, обе руки человеческие, лицо – прекраснейшее из прекрасных, созданное из золота и серебра» [Адыгэ IуэрыIуатэхэр… 1963: 72-73]. От любви Тлепша и Богини Дерева рождается божественное «солнечное дитя» – «сабий дыгъэ». Когда Тлепш решает вернуться к нартам, Жыг-гуаша дарит «солнечное дитя» нартам, передавая вместе с ним высшие сакральные знания: «Сэ щIэныгъэрэ IэщIагъэу сиIэр абы хэслъхьащ. Къэхумэ зэрыхъу флъагъункъэ» – «Все, что знаю и умею, я вложила в него. Вырастет – увидите» [Адыгэ IуэрыIуатэхэр… 1963: 74]. «Солнечный» ребенок, едва начав говорить, делится с нартами частью своих сакральных знаний, указывая Млечный путь в качестве земного ориентира: «Псалъэу и бзэр къыщиутIыпщым нартхэм къажыриIащ: Мо уафэм ит Шыхулъагъуэр флъагъурэ? – Долъагъу. – АтIэ зекIуэ фыщыкIуэкIэ, фыкъыщыкIуэжкIэ ар фымыгъэгъуащэмэ, фэри фыгъуэщэнкъым» – «Когда он [«солнечный ребенок»] начал говорить, первыми его словами были: «Вы видите на небе «Следы табуна коней»? [т.е. Млечный Путь – З.К.]. – Видим. – Когда вы будете уходить в набеги и возвращаться – не теряйте его из виду – и сами не потеряетесь» [Адыгэ IуэрыIуатэхэр… 1963:74].
Для современного человеческого сознания очевидна «сниженость» и видимая утилитарность этого «знания», несоразмерность его с ожидаемым из уст божественного «солнечного» ребенка «откровением». Однако необходимо учитывать мифоэпический контекст, в котором это «знание» реализуется и сакральную значимость самого архаического текста мифоэпического сказания. Анализ, проведенный в предшествующих исследованиях, позволил выявить, что в образе Богини-Дерева – Жыг-гуащэ воплощается и репрезентируется антропоморфная и, одновременно, растительная модель адыгского мифопоэтического космоса, ее трехмерная вертикальная структура, соединяющаяся также с представлениями о Центре, как высшей сакральной точке мирового пространства [Кудаева 2012]. В контексте этого, космологического по своему характеру мифа, значимость «истины», открытой «Солнечным ребенком», состоит в утверждении горизонтальной оси координат в мифологической модели мира, начертанной на небе и воплощенной в образе звездного Млечного Пути.
Таким образом, мифопоэтической основой изреченной «солнечным» божественным ребенком «прагматической» истины является утверждение горизонтали – пространственной координаты, дополняющей вертикальную структуру космоса. Следует также отметить, что образ «Следов табуна коней» – (Млечного Пути), «прогнанного» по небу, как символ горизонтали космоса характерен для скотоводческой и, одновременно, воинской культуры, для которой лошади играли весьма значимую роль [Кудаева 2012].
К этому же ряду мифопоэтических, архетипических знаков относится и образ проросших в гранит корней чинары в «Баллада о дереве», которые как корни Богини-дерева – Жыг-гуащэ, являются символом незыблемой, неистребимой силы, лежащей в основе мира.
Вещая о скорбном уделе
Над бездной чинара стоит,
Виднеются шрамы на теле,
А корни уходят в гранит. («Баллада о дереве») [Кешоков 1982: 257].
Таким образом, в стихотворении Алима Кешокова «Шум и гъуэгу» – «Путь всадника», в образе «высеченного» копытами коня Млечного пути, сияющего «на вечном небосклоне» имплицитно присутствует эта древнейшая константа адыгской мифопоэтической модели мира – горизонталь космоса и пути – движения скачущего табуна лошадей. Дальнейшая трансформация мифологемы «Млечного пути» – пути скачущего по небу табуна лошадей – воплощается в желании поэта опустить мифопоэтическую «звездную горизонталь» на землю. В стихотворении А. Кешокова этот сквозной образ его поэзии, в основе которого лежит мифологическая символика, приобретает значение нравственной координаты, высокого предназначения человека, его пути, направленном на свершение великих дел:
Но лишь один сумел отважно высечь
На вечном небосклоне Млечный путь! («Шум и гъуэгу» – «Путь всадника»)3
И развивая далее эту идею духовного подвига, желание воплотить этот эту высокую миссию в своей повседневной, земной жизни, поэт пишет:
…О, если б мне чудесный конь достался,
Не стал бы я на нем сидеть в седле.
Вскочил бы на хребет его и мчался
И Млечный путь провел бы по земле! («Шум и гъуэгу» – «Путь всадника»)4
Очевидна глубинная архетипическая основа образа «Пути всадника» – «Шум и гъуэгу» базирующегося на мифологической символике и функции образа «Млечного пути» – «Шыхулъагъуэ» в мифоэпическом сюжете нартского эпоса и космологической легенде.
Образ «Млечного пути» – как отмечалось, один из знаковых, повторяющихся символов в стихах А. Кешокова:
Сэ шыхулъагъуэр си бгъэрыщ1эу
Гъуэгур ск1уну сигугъащ.
Лъэрыгъэпсыр щызэпычым –
Си жагъуэгъухэм ягу зэгъащ. («Вагъуэ махуэ») [Кешоков 2004: 313]. «Я думал, что смогу пройти свой жизненный путь, грудью направленный к Млечному пути. Когда же лопнула подпруга – мои враги были довольны» (З.К.).
Таким образом, в стихотворении («Вагъуэ махуэ») Млечный путь вновь предстает символическим нравственным ориентиром духовного космоса поэта.
Возвращаясь к приведенной выше легенде, необходимо отметить, что в ней мифопоэтическая символика Шыхулъагъуэ, как одной из координат космоса, дополнена еще одной смысловой коннотацией – движения, пути:
Лишь путь его, сверкающий как чудо,
Незыблемый остался на века.
(«Шум и гъуэгу» – «Путь всадника»)5.
Путь всадника, летящего на коне – один из знаковых образов поэзии А. Кешокова:
Конь мой летит, и гремучие камни
Сыплются с кручи, чтоб дна не найти…
Друг, пожелай, если хочешь, добра мне, –
Пусть бесконечно я буду в пути! [Кешоков 1982: 18].
Мифологема перенесенного с неба и прочерченного на земле пути, горизонтальной оси космоса и движения жизни реализуется в одном из программных философских, по своему характеру, стихотворений Алима Кешокова «Идет в бессмертье скорый поезд…»:
Вдоль окон снег лилов и порист,
Вдоль окон скалы и трава,
Идет в бессмертье скорый поезд,
Натянут путь, как тетива («В бессмертие…») [Кешоков 1982: 225].
Концепт движения и пути – универсальная категория, свойственная многим культурным традициям и одна из основополагающих категорий адыгского мифопоэтического сознания. Как и во многих культурных традициях, мифологема пути содержит различные смысловые коннотации: путь, как движение из «срединного мира» в «нижние миры», миры мертвых; путь, как освоение и упорядочение пространства хаоса; путь, как движение к назначенной цели и т.п. Путь по горизонтали в мифопоэтических системах – это движение, в котором «значимо и ценно то, что связано с предельным усилием, с ситуацией «или/или», в которой происходит становление человека как героя, как божества или богоподобного существа» [Топоров 1982: 352-353].
В стихотворении Алима Кешокова мифологема пути реализуется именно в последнем значении – как линия поведения, как метафора духовного движения и становления человека, проживающего жизнь в соответствии с нравственными законами, высокими целями и достигающего заслуженного бессмертия:
И контролер из самых строгих
Еще появится в пути.
Как безбилетников, он многих
Попросит с поезда сойти.
И установит, безупречный,
Вдали от суетности лет,
Кому до станции конечной
Был выдан правильно билет [Кешоков 1982: 225].
Движение поезда, таким образом, приобретает символическое значение, перемещая зримый, вполне реалистичный, будничный образ в философское и нравственное измерение, в пространство мысли и духа.
В символике движения/пути в лирике Алима Кешокова присутствует также вектор вертикального движения, реализующийся в его ориентированности на звездное небо, на Млечный путь, высеченный копытами табуна коней на небесах. Вертикальный вектор движения, как упоминалось, сочетается со стремлением «опустить» и «прочертить» небесную горизонталь Млечного пути в духовной плоскости земной человеческой жизни. (Ср.: символизм пути и движения в поэзии К. Кулиева, в творчестве которого «…знаковая семантика движения … с ее перманентным присутствием образа дороги/тропинки и гор, выявляет в качестве ее основного вектора направленность – вверх», отображая основную координату балкаро-карачаевской модели мира [Кудаева 2017: 153]).
Таким образом, традиционность и народность творчества поэта обусловлена преемственностью и органической связью мифопоэтической традиции и художественного сознания Алима Кешокова. В стихотворениях, в художественных образах, которыми оперирует его поэтическое мышление, имплицитно присутствуют и реализуются, претерпевая определенные трансформации, мифопоэтические категории, символы и знаки, свойственные традиционному адыгскому мифопоэтическому мировосприятию.
1 Кешоков Алим. Стихи (читает автор) // Старое Радио: сайт. URL: http://www.staroeradio.ru/audio/12971 (дата обращения: 19.10.2019)
2 Дерико О. Алим Кешоков. Путь всадника // Информационный портал Фонда Черкесской культуры «Адыги» им. Ю.Х. Калмыкова: сайт. URL: http://fond-adygi.ru/page/alim-keshokov-put-vsadnika (дата обращения: 19.10.2019).
3 Кешоков Алим. Стихи (читает автор) // Старое Радио: сайт. URL: http://www.staroeradio.ru/audio/12971 (дата обращения: 19.10.2019)
4 Там же.
5 Кешоков Алим. Стихи (читает автор) // Старое Радио: сайт. URL: http://www.staroeradio.ru/audio/12971 (дата обращения: 19.10.2019)
Об авторах
З. Ж. КУДАЕВА
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Автор, ответственный за переписку.
Email: zina_777@bk.ru
Список литературы
- Абазов 2004 – Абазов А.Ч. Лингвокультурная специфика драматургии А.П. Кешокова // Вестник ПГЛУ. – 2004. – № 4. – С. 122-124.
- Адыгэ IуэрыIуатэхэр… 1963 – Адыгэ IуэрыIуатэхэр: в 2-х т. / Зэхэзылъхьар КъардэнгъущI Зырамыкущ. – Налшык: Къэб.-Балък.тх.тедз., 1963. – Т. 1 – 339 с. 1969. – Т. 2. – 412 с.
- Алиева 1975 – Алиева А.И. Народные истоки творчества А. Кешокова // Роль фольклора в развитии литератур народов СССР / Отв. ред. и авт. введ. У.Б. Далгат. – М.: Наука, 1975. – С. 214-232.
- Алиева 1985 – Алиева С.У. Была война народная: военная проза А.П. Кешокова // Дон. – 1985. – № 4. – С. 101-108.
- Бакова 2000 – Бакова З.Х. Алим Кешоков. – Нальчик: КБГУ, 2000. – 148 с.
- Гоффеншефер 1969 – Гоффеншефер В. Путь всадника: очерк жизни и творчества А.П. Кешокова. – М.: Сов. Россия, 1969. – 48 с.
- Гутов 2003 – Гутов А. Стиль. Образ. Характер // Гутов А. Слово и культура. – Нальчик: Эльбрус, 2003. – С. 65-80.
- Дементьев 1985 – Дементьев В.В. Со временем в ладу. Очерк жизни и творчества Алима Кешокова. – Нальчик: Эльбрус, 1985. – 236 с.
- Кешоков 1982 – Кешоков А.П. Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 4. Стихотворения и поэмы. – М.: Художественная литература, 1982. – 494 с.
- Кешоков 2004 – Кешоков А.П. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 1. Стихотворения и поэмы. – Нальчик: Эльбрус, 2004. – 512 с.
- Кудаева 2006 – Кудаева З.Ж. Мифо-эпическая модель адыгской словесной культуры (на материале паремий). Дис. … докт. филол. наук. – Нальчик, 2006. – 209 с.
- Кудаева 2012 – Кудаева З.Ж. Символика Центра в мифопоэтических воззрениях адыгов // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2012. – № 2. – С. 84-89.
- Кудаева 2017 – Кудаева З.Ж. Символика пути/дороги в поэзии К. Кулиева в контексте мифоэпического сознания // Художественный опыт Кайсына Кулиева в сохранении российской культурной идентичности. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии К.Ш. Кулиева (1917-1985 гг.). – Нальчик: Print Центр, 2017. – С. 151-155.
- Налоев 1970 – Налоев 3.М. Послевоенная кабардинская поэзия. – Нальчик, 1970. – 155 с.
- Паранук 2012 – Паранук К.Н. Мифопоэтика и художественный образ мира в современном адыгском романе. – Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2012. – 352 с.
- Сокуров 1969 – Сокуров М.Г. Лирика Алима Кешокова. – Нальчик: Эльбрус, 1969. – 224 с.
- Топоров1982 – Топоров В.Н. Путь // Мифы народов мира: в 2-х т. Т. 2. – М.: Сов. энциклопедия, 1982. – С. 352-353.
- Тхагазитов 1994 – Тхагазитов Ю.М. Духовно-культурные основы кабардинской литературы. – Нальчик: Эльбрус, 1994. – С. 186-203, 217-219.
- Хапсироков 2002 – Хапсироков Х.Х. Восхождение. Творческий путь Алима Кешокова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320 с.
- Хежева 2009 – Хежева Л.Х. Национальные истоки и художественное своеобразие лирики Алима Кешокова (1930-1970 гг.). – Нальчик: Полигр. участок ИПЦ КБГУ, 2009. – 105 с.
Дополнительные файлы