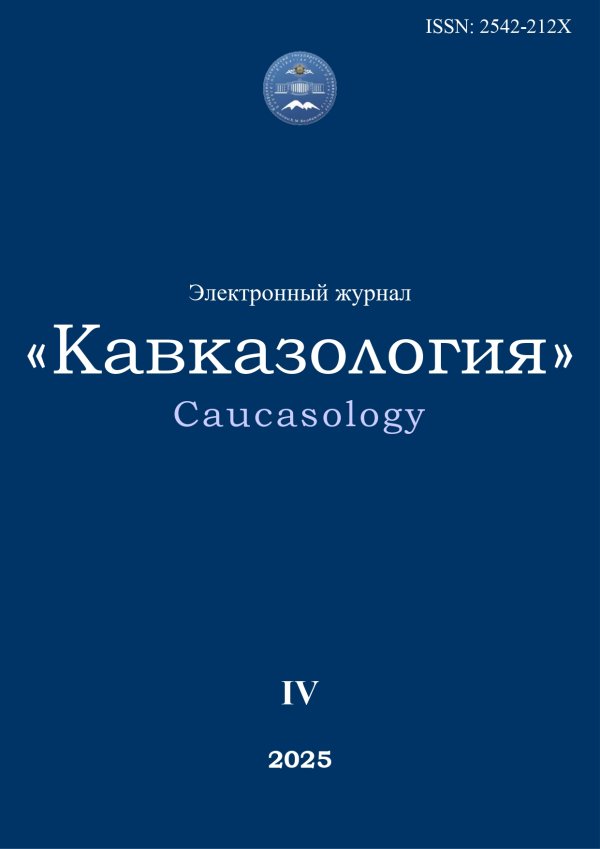Аспекты социально-пространственного единства Кабарды и Балкарии в материалах газеты «Кавказ»
- Авторы: Азикова Ю.М.1
-
Учреждения:
- Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
- Выпуск: № 2 (2025)
- Страницы: 115-139
- Раздел: Историография, источниковедение, методы исторического исследования
- Статья получена: 05.07.2025
- Статья опубликована: 15.12.2025
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/299309
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2025-2-115-139
- EDN: https://elibrary.ru/NKKRIH
- ID: 299309
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье исследуется представление в материалах газеты «Кавказ» взаимосвязей населения Кабарды и Балкарии в рамках социально-пространственной структуры Центрального Кавказа в XIX – начале XX в. Осуществлен анализ интерпретаций авторами и редакцией газеты взаимоотношений кабардинцев и балкарцев, а также специфика освещения в газете усилий российского правительства по построению нового административно-территориального деления Кавказа в рамках своего правового поля. Исследование строится на «нарративном», описательно-объяснительном подходе, позволяющем избежать подчинения строго определенной концепции и сосредоточиться на анализе исходных данных и последовательной реконструкции фактов и всех возможных взаимодействий по изучаемому случаю. Привлеченные материалы анализируются с опорой на историко-системный метод. В работе показаны фундаментальные основания выстраивания кабардино-балкарских связей, а также характер освещения такой проблематики на страницах периодической печати. Совокупность материалов газеты «Кавказ» о кабардино-балкарском единстве позволяет увидеть, что его оформление соответствовало внутренней логике соотношения преемственности и метаморфоз глубоко обусловленной и исторически сложившейся социально-территориальной структуры. Публикации в газете «Кавказ» правительственных решений о реформах на Центральном Кавказе также показывают, что имперские власти учитывали историко-культурные основы и экономические реалии выстраивания взаимоотношений кабардинцев и балкарцев.
Полный текст
То, что история народов Центрального Кавказа разворачивается в конкретных пространственных рамках кажется самоочевидным, а простая констатация этого факта – банальностью. Но это не говорит об отсутствии необходимости специальных исследований природно-географических, социально-экономических и культурно-антропологических характеристик того пространства, в котором протекал региональный исторический процесс. Скажем, утверждение, что поверхность планеты Земля задает пространственные рамки истории всех народов (групп населения, обществ) для эпохи древности и раннего средневековья почти бессодержательно, но уже для позднего Средневековья приобретает определенный смысл. Эпоха капиталистической мир-системы с развитием мировой торговли и мировой колониальной системы уже не позволяет изолированно рассматривать историю отдельных стран и целых континентов, а в условиях современной глобализации транснациональные факторы, действующие в мировом пространстве, начинают играть ведущую роль во внутреннем развитии отдельных стран и регионов мира. Интеграционные исторические процессы развиваются неравномерно не только во времени, но и в пространстве, формируя устойчивые региональные исторические системы – мир-экономики, мир-империи, локальные цивилизации, культурно-исторические области.
Применяя эту логику к истории Северного Кавказа, правомерно было бы утверждать, что до определенного времени можно рассматривать историю народов Дагестана и Северо-Западного Кавказа, скажем, лезгин и адыгов, изолированно, фиксируя лишь некоторое сходство условий природно-географической и внешней социально-политической среды. Но представляется невозможным то же самое сказать о Центральном Кавказе. Равнинно-предгорные территории в пределах этого субрегиона составили область жизнеобеспечения и этнический ареал кабардинцев, а этническая территория балкарцев формировалась в центральной части северного склона Главного Кавказского хребта в ущельях рек Черек (Хуламский и Балкарский), Чегем, Баксан. «Природно-географические условия территорий, на которых локализовались кабардинское и балкарское общества предопределили их тесную взаимосвязь» [Боров 2023: 58]. Это дает основание некоторым исследователям говорить, что одновременно со становлением в XV в. Кабарды и Балкарии как этно-социо-территориальных образований идет и становление исторической Кабардино-Балкарии как устойчивой области жизнедеятельности и упорядочения взаимных отношений кабардинцев и балкарцев. Оформление данных взаимоотношений определялось «характером хозяйственной основы кабардинского и балкарского общества, которую составляло отгонное животноводство. Оно предполагало использование и кабардинцами, и балкарцами пастбищных и сенокосных ресурсов в горах, в предгорьях и на равнине, а значит и поддержание взаимоприемлемого порядка их использования» [Боров 2024: 21]. В XVI–XVIII вв. функционируют и воспроизводятся зрелые формы традиционной социальной организации кабардинского и балкарского обществ и институализированные механизмы их интер-социального взаимодействия. Кабардинцы и балкарцы имели в тот период длительные отношения с другими обществами и владениями Северного и Южного Кавказа, но ни в одном случае эти отношения не достигали той степени полноты, плотности и устойчивости, как во взаимоотношениях Кабарды и Балкарии [Боров и др. 2024: 461].
Определяемый единой природно-хозяйственной системой жизненный уклад, социально-политический порядок сосуществования кабардинцев и балкарцев, видоизменялся под воздействием меняющихся исторических реалий. Вместе с тем неизменной оставалась потребность в поддержании обоюдно принятых и взаимовыгодных условий и форм интер-социального взаимодействия. Ключевой аспект взаимодействия – обеспечение хозяйственно-экономических интересов сторон и устойчивого их положения в единой пространственной системе.
Проблемы разносторонних связей кабардинцев и балкарцев и оформления Кабардино-Балкарии как социо-пространственной единицы российского общества и государства нашли отражение в трудах ряда отечественных исследователей [Баразбиев 2000; Батчаев 2006; Бегеулов 2009; Блиева 2005; Боров, Дзамихов 1998; Боров и др. 1999; Боров и др. 2021; Боров и др. 2024; Кажаров 2014; Калмыков 2007; Кипкеев 2005; Кипкеева 2008; Кожев 2005; Кожев 2016; Муратова 2007; Тебуев, Хатуев 2002; Хатуев 1999; Прасолов 2017; Абазов 2016].
С методологической точки зрения обращение к взаимодополняющим методологиям «новой компаративной истории», «новой региональной истории» и «новой спатиальной истории» предполагает описание и объяснение связей и взаимодействий в рамках долговременно динамических социально-территориальных структур, преодолевая границы искусственно конструируемых национальных и государственных контекстов [Репина 2019; Реконструкции… 2017; Остерхаммель 2011; Боров 2022; Боров 2023].
Между тем в современном кавказоведении отмечают роль имперской власти в конструировании внешних границ и внутренней структуры Северного Кавказа, ставшего ее «региональным изобретением, в пространстве которого решались задачи построения основ нового общества, способного интегрироваться в общероссийское пространство» [Муратова 2019a: 14; Хлынина и др. 2012: 5; Россия… 2018: 11].
Акцентировка конструктивистского аспекта развития и упрочения региональных структур на Северном Кавказе применительно к случаю кабардино-балкарского единства может оставить в тени то обстоятельство, что для этих народов, живших в пространственной структуре, определяемой симбиозом – равнина/горы, упорядоченная кооперация в базовых областях их существования выступала как жизненно важная потребность. Рассматривая имперскую модернизацию XIX в., также важно не упустить из виду эффект обратной связи. Политика преобразований имперской власти являлась не только средством выражения волеизъявления и воплощения представлений управленцев о построении нового общества, но в известной мере учитывала и отражала историко-культурные основания и хозяйственно-экономические реалии выстраивания отношений между кабардинцами и балкарцами. Неслучайно развитие кавказоведения шло рука об руку с включением Кавказа в цивилизационное пространство и политико-административную структуру России.
Конституирование Центрального Кавказа и кабардино-балкарского его сегмента как особой единицы в природно-географическом и культурно-историческом пространстве Северного Кавказа имеет, таким образом объективную, «внешнюю», и субъективную, «внутреннюю» стороны. Их синтез происходил в представлениях и практике как самих народов субрегиона, так и региональной имперской элиты, причастной к разработке и реализации реформ. При этом на протяжении XIX в. возрастала роль именно имперской региональной политики в определении вектора и построении механизмов внутреннего социально-культурного развития местных народов.
Большой и содержательный материал, показывающий, как исторически сложившиеся формы социо-пространственной интеграции кабардинцев и балкарцев в рамках полиэтничного пространства Центрального Кавказа воспринимались и интерпретировались в общественно-государственном дискурсе Кавказского наместничества, представлен на страницах газеты «Кавказ» (Тифлис). С другой стороны, материалы газеты «Кавказ» дают картину усилий правительства по конструированию нового формата связей и взаимодействий кабардинцев и балкарцев.
Таким образом, изучение материалов «Кавказа» по обозначенной проблеме представляет интерес как для прояснения исторических и актуальных для периода с конца 1840-х до начала 1900-х гг. аспектов кабардино-балкарских связей, так и для систематизации и обобщения данных об отражении в периодической печати того времени всей проблематики взаимосвязей народов Центрального Кавказа. С этой точки зрения предмет настоящей статьи является частным случаем, иллюстрирующим фактические и концептуальные проблемы понимания аналогичных тем в периодической печати XIX – начала XX века. Тема ранее не становилась предметом специального исследования.
Объектом исследования является историческое развитие Центрального Кавказа как пространства «трансэтнических» социально-политических взаимодействий. Предмет исследования – содержание материалов газеты «Кавказ», затрагивающих проблемы исторического взаимодействия народов Кабарды и Балкарии.
Цель исследования заключается в систематизации и концептуальной характеристике содержания публикаций, раскрывающих понимание редакцией газеты «Кавказ» взаимосвязей населения Кабарды и Балкарии в рамках единой социально-пространственной структуры Центрального Кавказа XIX – начала XX в.
В основе исследования лежит «нарративный», описательно-объяснительный подход, позволяющий избежать подчинения строго определенной концепции и сосредоточиться на анализе источниковых данных и последовательной реконструкции фактов и всех возможных взаимодействий по исследуемому случаю. Привлеченные материалы проанализированы также с опорой на историко-системный метод.
Единство географического
и политико-административного пространства
Первый редактор газеты «Кавказ» О.И. Константинов сформулировал направленность на комплексное изучение северокавказских обществ, с обращением, в первую очередь, внимания на природно-географический фактор. В «Очерке северной стороны Кавказа» [Константинов 1847: 6–8] он обозначил перспективы комплексного познания и исследования Кавказа с учетом природно-географической специфики рассматриваемого региона. В начале «Очерка» Константинов посвящает читателей в свое представление о пространственном делении Кавказа, полагая, что знакомство с краем должно начинаться с понимания его территориального структурирования:
«Разделим Кавказ условно на три полосы: Первая, Закавказье, заключающее в себе земли, лежащие между Турцией, Персией, Каспийским, Черным морем и главным хребтом гор от Баки до Тамани. Вторая, Кавказ, или пространство от вышепомянутого главного хребта к северу до рек Кубани, Малки и Терека, обитаемая покорными и непокорными горскими племенами, и наконец, третья Подкавказье, за чертою этих рек и заключающая в себе казачьи поселения и кочевья Ногайцев» [Константинов 1847: 6].
«Очерк» посвящен описанию второй полосы «Кавказ» из трех территориальных полос, обозначаемых с юга на север. Автор уделяет особое внимание географической характеристике избранного объекта, описывая речную систему региона c ключевыми реками и их притоками, переходы от высокогорья к гористой местности и к равнинам. Географическое описание иллюстрирует естественные границы между тремя условно обозначенными территориальными полосами и показывает внутренние разграничители Северного Кавказа, представленные реками и возвышенностями [Константинов 1847: 6–7].
Природно-географическое измерение специфики Кавказа и в последующие годы представляло интерес для редакции газеты. Так, на страницах газеты периодически печаталась информация о собраниях членов Кавказского отдела Русского географического общества с обсуждением докладов о Центральном Кавказе [Общее… 1889; Годичное… 1889]. Был опубликован репортаж о докладе В.Г. Михайловского «к географии центрального Кавказа», озвученном на публичном заседании географического отделения общества естествознания, антропологии и этнографии 4 мая 1893 г. [Доклад… 1893: 3]. Доклад представляет сугубо географический обзор Кавказского хребта, его вершин, ледников. Данные примеры демонстрирует последовательный интерес редакции к пониманию и представлению природно-географической картины Кавказа.
Помимо географической характеристики, в «Очерке» О.И. Константинова приводится и военно-территориальное разделение края с запада на восток: Черноморская кордонная линия, Правый фланг, Центр, управление Владикавказского коменданта, Левый фланг, северный и южный Дагестан [Константинов 1847: 7]. Интересующий нас Центр состоял из Кисловодской и Кабардинской линий. Из населения Центра линии, включавшего как кабардинцев, так и балкарцев, О.И. Константинов упоминает кабардинцев в структуре обзорного описания общественного строя адыгов в целом [Константинов 1847: 7].
На 1820–1850-е гг. приходится начало формирования административно-территориальной идентичности Кабарды и Балкарии в государственном пространстве Российской империи. В этот период институтом, учрежденным российскими военными властями и формально закреплявшим административное единство Кабарды и Балкарии, стал Кабардинский временный суд (1822–1858) [Абазов 2015; Абазов 2016]. В ведении суда находились гражданские дела и споры, а также надзор за исполнением правительственных распоряжений и сохранение общественного порядка. Компетенция Кабардинского временного суда распространялась как на территорию Кабарды, так и на территорию Балкарии [Боров и др. 2024: 37]. Впрочем, исследователи отмечают номинальность административной власти начальника Центра Кавказской линии на территории Балкарии до учреждения приставства [Муратова 2007: 182, 185–186].
В 1846 г. был назначен отдельный пристав «уруспиевского, балкарского, чегемского и хуламского народов» [Века… 2017: 276, 297]. В этом событии усматривается начало конструирования собственного «административно-политического пространства Балкарии в составе Российской империи» [Века… 2017: 276]. Но в таком виде административное устройство просуществовало недолго. В 1856 г. было принято решение о преобразовании прежних управлений в «Правое крыло» и «Левое крыло» Кавказской линии [Калмыков 2007: 59; Алхасова 2023: 43]. В 1858 г. Кабардинская линия была упразднена и создан Кабардинский округ (1858–1870 гг.), а Кабардинский временный суд преобразован в окружной [Прасолов 2019: 18; Века… 2017: 271–275]. Кабардинский округ включал Большую Кабарду, бывшее малокабардинское приставство, приставство уруспиевского, балкарского, чегемского и хуламского обществ и временно – Дигорию. Таким образом, завершился период некоторой неопределенности в том, каковы соотношение и взаимосвязь административного статуса Кабарды и Балкарии. С 1858 г. оформляется единая для них административно-территориальная единица. Несмотря на дальнейшие изменения ее территориальной конфигурации или наименования, кабардинцы и балкарцы неизменно составляли ее основное население.
Именным указом от 8 февраля 1860 г. Левое крыло Кавказской линии было преобразовано в Терскую область, включавшую Кабардинский округ. В 1870 г. Кабардинский округ Терской области был реорганизован. Кабардинские и балкарские общества вошли в состав Георгиевского округа, а с 1875 по 1882 гг. – Пятигорского округа. В 1882 г. был образован Нальчикский округ, просуществовавший до ликвидации Терской области в 1920 г. [Боров и др. 2024: 37].
Ключевые вехи реорганизаций Кавказской линии и создания нового административно-территориального устройства Центрального Кавказа, в котором получило государственную легитимацию и закрепилось административное единство совокупной территории Кабарды и Балкарии как российского региона, можно проследить по материалам газеты «Кавказ». В феврале 1858 г. газета опубликовала Высочайшее повеление, согласно которому на правом крыле Кавказской линии оформлялись четыре приставства – Нижне-Прикубанское, Закубанских Ногайцев, Тахтамышевское и Карачаевское, а на левом крыле четыре округа – Кабардинский, Военно-Осетинский, Чеченский и Кумыкский. Повеление также регламентировало учреждение должности начальника округа, подчиненного Командующими войсками левого крыла, народного суда, состоящего из начальника округа, главного кадия и депутатов от обществ округа. Адъютанту начальника округа также вручались полномочия делопроизводителя суда [Высочайшие… 1858: 60].
В марте 1860 г. газета опубликовала Высочайшее повеление, о переименовании Правого крыла Кавказской линии Кубанской областью, Левого крыла – Терской областью и об именовании впредь Северным Кавказом пространства к северу от Главного Кавказского хребта, включая обе области и Ставропольскую Губернию [Высочайшее… 1860: 121].
В июльском выпуске за 1862 г. было обнародовано решение императора об утверждении «Положения об управлении Терской Областью» и штатной ведомости к нему [Извлечение… 1862: 319]. Интересно отметить, что из содержания высочайшего повеления явствует подход к проведению преобразований имперской властью.
Так отмечается, что «согласно Высочайшей воле, преобразование военно-народных управлений Терской Области и учреждение в ней вновь охранной стражи и земской полиции должны приводиться в исполнение не вдруг, а постепенно, по мере открывающихся к тому денежных средств» [Извлечение… 1862: 319].
Согласно «Положению…», Кабардинский округ относился к Западному Отделу Терской области и включал Большую Кабарду, Малую Кабарду, Балкарское, Безенгиевское, Хуламское, Чегемское и Урусбиевское общества [Извлечение… 1862: 319]. В 1866 г. было решено создать в структуре Кабардинского округа Горский участок, состоявший из «пяти горских обществ Кабарды». Управление же Горским участком планировалось расположить в хуламском обществе [Приказы… 1866].
В последующих номерах газеты периодически появлялась информация об административных преобразованиях в регионе и последовательном оформлении Георгиевского округа [Указ… 1870; Циркулярное… 1870], Пятигорского округа [Межевые… 1875] и Нальчикского округа [Высочайшее… 1881]. Эти материалы не отличались подробностью изложения и лишь извещали об образовании новых округов без пояснений относительно их структуры. Также стоит отметить, что повеления и решения правительства об управленческих изменениях на Кавказе печатались на страницах газеты с некоторым запозданием.
Каковы бы ни были новые административные границы, конструируемые царским правительством, кабардинские и балкарские общества никогда не обособлялись и всегда оставлялись в рамках одного округа. В истории территориального устройства Кабарды был период выведения Малой Кабарды из Нальчикского округа и включения в состав Сунженского отдела (1888–1905 гг.) [Прасолов 2021]. Кабардинский народ, таким образом, административно пребывал некоторое время в разделенном состоянии. И это искусственное разделение не выдержало испытание временем. Административно-территориальное оформление российским правительством регионального единства Кабарды и Балкарии не содержит подобного эпизода разделения. В данном случае имперская власть не создавала искусственный конструкт, обусловленный исключительно ее сторонним видением удобного для нее формата управления, а следовала складывавшейся веками естественной необходимости. Построение единого административного пространства стало проекцией объективно существующей, преемственной и одновременно изменяющейся социально-территориальной структуры. Во второй половине XIX в., как и ранее, население Центрального Кавказа в своих особенностях самоорганизации «принадлежало» пространству, а не наоборот.
Описания Кабарды и Балкарии
Для военной и гражданской администрации и для всего русского общества Кавказ XIX в. представлял собой не только театр военных действий, а затем регион, требующий судебно-административного устройства и реформ, но и своеобразную этнографическую область, конгломерат «племен», языков и культур. Редакция газеты «Кавказ» с самого начала функционирования намеревалась дать последовательное описание местностей и народов, составляющих Кавказ. Программными текстами в этом смысле являются «Очерк северной стороны Кавказа» [Константинов 1847: 6–8], «Обзор статей, помещенных в газете «Кавказ», в продолжение: 1846, 1847, 1848 и 1849 годов» [Обзор… 1849], «Материалы для изучения Кавказа» [Материалы… 1858].
«Очерк северной стороны Кавказа» знакомил читателей с географическим и административным районированием Северного Кавказа, а также давал краткое описание общественного строя народов, двигаясь с запада на восток. «Обзор статей» показывал проведенную за четыре года работу по регионам Кавказа и описывал уже опубликованные материалы о развитии местных народов. Редакция также сообщала о своем намерении подготовить обзор будущих публикаций о развитии народов Кавказа, их культуре, современном состоянии в пределах обозначенных территорий и военно-административных границ. Появление заглавия «Материалы для изучения Кавказа» в учено-литературном отделе газеты знаменовало обязательство редакции публиковать в будущих номерах материалы, посвященные развитию края и его народов.
Сообщалось, что «в этот состав войдут и беглые заметки людей специальных, близко знакомых с предметом, и труды более или менее обработанные. В первых еще нумерах будущего года читатели наши увидят статьи, относящиеся большею частью до горных народов; мы можем назвать между прочим: Татарское племя на Кавказе; Нравы и обычаи Дагестанских горцев; Чечня и Кумыкская плоскость; Племя Адигэ; Абазинское племя; Путевые заметки некоторых из постоянных сотрудников «Кавказа» и много других статей…» [Материалы… 1858: 505].
В своем анонсе редакция заявляла с одной стороны о желании оградить «Материалы» от «излишней взыскательности», с другой – призывала сведущих людей делать «отзывы, пополнения и заметки, а может быть и поправки». Редакция провозглашала, выражаясь образно, «постройку здания», которое станет «Музеем кавказской природы, народности и истории» [Материалы… 1858: 505].
Следует отметить, что в работе редакции по выполнению заявленной программы было меньше системности, связи и последовательности, нежели декларировалось. Тем не менее пусть даже в более стихийном формате, чем планировалось, редакция выполняла свое обязательство по иллюстрации культурного многообразия Кавказа.
В культурно-исторических нарративах, печатавшихся на страницах «Кавказа», описание Кабарды и Балкарии давалось в отдельных статьях. При этом Кабарде, кабардинцам и адыгам в целом было посвящено несравнимо больше статей, очерков и заметок чем балкарским обществам. В первые десятилетия функционирования газеты это было обусловлено сложностью доступа к балкарским обществам и скудостью информации о них. В последующем сыграло свою роль представление редакции о включенности балкарских обществ в единое с Кабардой административно-территориальное пространство. Общества Урусбий, Хулам, Безенгий, Чегем и Балкар были «известны под именем «горских обществ кабардинскаго округа», и все они составляют так называемый «Горский участок» того округа» [Тифлис… 1868: 1].
В приказе военного министра № 352 от 2 декабря 1866 г. пояснялось, «в устранение неудобств, происходящих от значительного разстояния пяти горских обществ Кабардинского округа (Терской области) от своих участковых правлений, делающих, при топографических условиях местности, невозможным сообщение горной части Кабарды с плоскостью в течение 8-ми месяцев» образовывался Горский участок, состоящий из пяти балкарских обществ [Приказы… 1867].
Из публикаций, посвященных истории, культуре, быту, нравам, обычаям и современному состоянию кабардинцев, следует отметить: «Замечания на статью Законы и обычаи Кабардинцев» Гирея [Гирей 1846], «Очерк северной стороны Кавказа» О.И. Константинова [Константинов 1847], «О быте, нравах и обычаях древних Атыхейских или Черкесских племен (Из рукописи Шах-Бек-Мурзина)» Ш. Ногмова [О быте… 1849; Азикова 2024], «Сведения об Атыхейцах, почерпнутые из местных преданий, песен и родословной книги под названием Джиафир и Джианама, на турецком языке (Из рукописи Шах-Бек-Мурзина)» Ш. Ногмова [Сведения… 1849; Азикова 2024], «Предания Атыхейцов, не бесполезные для истории России (Из рукописи Шах-Бек-Мурзина)» Ш. Ногмова [Предания… 1849; Азикова 2024], «О природе и хозяйстве Кабарды» Т.Г. Баратова [Баратов 1860], «Беглые очерки Кабарды» Н. Степанова [Степанов 1861], «Племя Адигэ» Т. Макарова [Макаров 1862], «Освобождение крепостных» [С. 1867], «Характерные обычаи у осетин, кабардинцев и чеченцев» [И.К. 1876], «Общинное землевладение в Кабарде» [Общинное… 1891], «Хозяйственный быт на Кавказе (Особенности кабардинцев)» [Хозяйственный… 1891] и др. материалы.
Первое краткое обзорное описание балкарских обществ на странницах газеты «Кавказ» появилось в 1859 году в структуре одного из последних разделов статьи «Татарское племя на Кавказе» предполагаемого авторства Т. Макарова [М. 1859]. Очевидно, описание стало попыткой как-то восполнить существующий информационный пробел. В объявлении редакции о создании рубрики «Материалы для изучения Кавказа» [Материалы… 1858: 505] анонсировалась подготовка к публикации ряда работ, среди которых упоминались статьи «Татарское племя на Кавказе» и «Племя Адигэ». Если работа «Племя Адигэ», в данном перечне, являлась скорее обобщением известной на тот момент информации об адыгах вообще и кабардинцах в частности, то описание балкарских обществ стало для редакции фактически первым опытом подобного рода.
В последующем упоминания балкарских обществ попадали на страницы газеты в структуре статей и заметок, описывавших путешествия по кавказским горам. Так, к примеру, в августе 1868 г. путешественники Д.У. Фрешфильд, А.У. Мур и Ч.К. Такер сообщали в редакцию о своем восхождении на Казбек и Эльбрус. В своем письме они упоминали деревню Урусби, где останавливались, и своих проводников из той же деревни – охотников Джапоева Джатчи и Сотаева Ашиа [Корреспонденция… 1868]. В 1874 г. газета сообщала о восшествии в июле на Эльбрус английского путешественника Ф. Грова. В этот раз также упоминалось, что путешественники прошли через Урусби [Разные… 1874]. В серии описаний иных обследований Кавказского хребта и его вершин также вскользь упоминаются балкарские общества [Н.Ж. 1888; Унгерн-Штернберг 1888; Восхождение… 1889].
В 1888–1889 гг. газета в ряде материалов освещала обстоятельства путешествия и гибели английских альпинистов Гарри Фокса и Уильяма Донкина [Из Нальчика… 1888; Известия… 1888; Динник 1888; Заметка… 1888; Жуков 1889; Ловен 1889]. Данные публикации интересны тем, что описывают содействие жителей Балкарии путешественникам и поисковикам. Правда, если топограф коллежский асессор Н.В. Жуков пишет о недостаточной и некорректной помощи местных жителей, то участковый начальник Нальчикского округа подполковник П. Ловен возражает ему и пишет о неумении Н.В. Жукова находить общий язык с горцами.
Так П. Ловен отмечал, «Горцы ходят, вероятно, не хуже г-на Жукова и его казаков и, при желании, могут подняться на такие высоты, куда, пожалуй, не пойдет даже неустрашимый г-н Жуков 2-й. Все дело в умении заставить их себя слушать, а этого-то уменья у г-на Жукова и нет: не желая понять, что короткое время, когда большинство селения находилось на полевых работах, не возможно достать людей для поисков, г-н Жуков сталь кричать и браниться. Поставив себя в такие отношения к горцам, г-н Жуков не мог, полагаю, ожидать от них полной готовности жертвовать рядом с ним жизнью при розыске погибших путешественников» [Ловен 1889: 2–3].
П. Ловен свидетельствовал о том, что в поисках принимали участие горцы Балкарии, Безенги, Хулама, Чегема и даже лично один из «лучших охотников и ходоков по горам» таубий Тенгиз Суншев [Ловен 1889: 3].
Интересные детали жизни и быта населения урусбиевского, чегемского и балкарского обществ описываются в заметке «Охота на туров» [Ж. 1891]. В жанре путевых заметок в газете представлен очерк «Баксанское ущелье», приписываемый Е.З. Баранову [И.З. 1891]. Помимо обычных для такого рода текстов иллюстраций природы, проделанного пути, особенностей повседневности и обычаев принимающих гостя-путешественника людей, в очерке показано влияние на наблюдаемое общество модернизационных процессов. Любопытным примером предприимчивости, готовности к новшествам, открытости к достижениям весьма далекой географически, но близкой по природным условиям культуры является описанный в очерке случай запуска Хамзатом Урусбиевым сыроварни по швейцарскому образцу [И.З. 1891: 2]. В 1903 г. был опубликован очерк Б.А. Ланге «Балкария и балкарцы» [Ланге 1903]. Работа была написана на основе личных наблюдений автора и материалов других исследователей, интересовавшихся Балкарией. Б.А. Ланге посвятил работу только балкарскому обществу, расположенному в верховьях Черека. Это обосновывалось тем, что «так называемые горские общества Большой Кабарды – балкарское, бизенгиевское, хуламское, чегемское и урусбиевское» относятся к одному народу с единой культурой, первоначальным местом поселения которого являлось верховье Черека. Работа дает представление о хозяйстве, быте, культуре, общественном строе, социальной структуре, судопроизводстве и праве балкарского общества. Также автор обращается к проблеме этногенеза и этнической истории балкарского народа.
Нарративы о кабардинском и балкарском обществах, публиковавшиеся в газете «Кавказ», представляли отдельные описания историко-культурного развития и современного состояния двух соседних народов. Вместе с тем при характеристике авторами географического положения избранного для рассмотрения общества, указывалось обоюдно значимое соседство кабардинцев и балкарцев. В отдельных случаях давалось объяснение хозяйственной обусловленности взаимоотношений двух народов.
Иллюстрация взаимосвязанности кабардинцев и балкарцев
В материалах газеты «Кавказ» представлено два фактора взаимосвязанности кабардинского и балкарского обществ – требования обеспечения безопасности и хозяйственные нужды. В любопытной публикации 1868 г., в которой не указан автор, а название «Тифлис 27-го октября» не дает корректного представления о содержании статьи, приводится лаконичное пояснение, на чем основан обоюдный интерес кабардинцев и балкарцев к взаимному сотрудничеству [Тифлис… 1868]. Предметом публикации является описание организации постройки дорог, ведущих в горные ущелья. Логика построения рассуждений побуждает автора обратиться к описанию исторического контекста и современных реалий жизни горских обществ. С точки зрения автора окончание военных действий на Кавказе побудило самих местных жителей «разрывать горные трущобы, столько веков служащие недосягаемым убежищем и вернейшим залогом их независимости» [Тифлис… 1868: 1]. Описывается, как, вслед за карачаевцами и абазинами, жители Горского участка – урусбиевцы, хуламцы, безенгиевцы, чегемцы и балкарцы приступили к проведению дорог к местам своего проживания [Тифлис… 1868: 1].
Автор отмечает, что «издревле котловины «горских обществ» служили для кабардинскаго народа цитаделью, в которую тот укрывался во время нашествия врагов на его землю. Так в «Истории Адыхейскаго народа» Шора Ногмова рассказывается случай, что кабардинцы нашли там убежище, после тамерлановскаго погрома. С другой стороны, когда под русской властью кабардинцы стали переходить на мирныя занятия, то некоторыя их владельческия фамилии стали заявлять свои притязания на порабощение и обращение в крестьянство некоторых из числа означенных обществ. Что подобное было бы весьма возможно, если бы русские не явились тут со своим великим словом свободы для всякаго низшаго класса народа…
Котловины «горских обществ» оба раза удачно выполнили свое назначение – укрывали остатки кабардинскаго народа от истребления и предохраняли собственных жителей котловин от домогательств самых кабардинцев.
Ныне подобные времена переменились: кабардинцам уже не от кого спасаться бегством в трущобы, а жителям «горских обществ» уже нечего, за освобождением крестьян по всему лицу земли русской, опасаться закрепощения.
Вполне естественно, что, вслед за доставлением прочной обезспеченности в личной безопасности, поднялись само собою на первый план экономические интересы. Для кабардинцев явилась нужда в улучшении путей в означенныя горския общества для прогона в летнюю пору на находящияся там возвышенныя пастбища скота, гонимаго снизу жарой и мошкарою, а для жителей этих котловин представилась нужда в таких же пунктах для сбыта растущаго на скалах их в изобилии сосноваго леса, так как горное скотоводство, бывшее до тех пор единственным средством их существования, при своем неразвитом состоянии и при возрастающих потребностях жизни, уже оказалось недостаточным: словом более или менее с обеих сторон представилась нужда в раскрытии этих трущоб и в улучшении доступа к ним» [Тифлис… 1868: 1].
Далее автор повествует о постройке колесных дорог жителями Горского участка «на свой собственный счет … с некоторою от правительства помощью» [Тифлис… 1868: 1]. Приводятся подробности участия балкарских обществ в постройке отдельных участков дорог, расписываются также денежные и продуктовые взносы обществ, указывается и на возможность ассигнования из кабардинской общественной суммы «потому, что и для Кабардинцев небезвыгодны проводимыя дороги» [Тифлис… 1868: 1].
Таким образом, в цитируемом тексте выгоды кабардинцев от союза с горскими обществами представлены в возможности спасаться в горных ущельях в случае опасности и выпасе скота на возвышенных пастбищах в летнюю жару. Выгоды же балкарских обществ от взаимодействия с жителями равнины, автор выявляет только применительно к периоду установления российской власти в регионе и фактически отмечает только потребность сбыта горскими обществами соснового леса. Вместе с тем описанная картина чрезвычайных усилий балкарских обществ с значительными трудовыми и материальными затратами на постройку дорог показывала громадное стремление горцев к преодолению своей изолированности в труднодоступных ущельях.
Дополняет описанную картину кабардино-балкарских хозяйственных связей информация из работ Т. Макарова [Макаров 1862; М. 1859] и Б.А. Ланге [Ланге 1903]. Т. Макаров отмечает определенную степень зависимости от кабардинцев жителей балкарских обществ.
В очерке «Татарское племя на Кавказе» указывается, что балкарцы «кабардинцам… платят ясак за пользование их землями, за пастьбу скота и за сенокосы. Впрочем, в некоторых обществах, особенно у карачаевцев, есть земли – собственно им принадлежащие и так называемые спорные» [М. 1859].
В работе «Племя Адигэ» Т. Макаров цитирует положения «Постановлений о сословиях в Кабарде» и приводит формы «подданства» жителей пяти горских обществ по отношению к кабардинским князьям [Макаров 1862: 174].
Б.А. Ланге в первой части своего труда «Балкария и балкарцы» пишет о малоземелье балкарских обществ и о том, что «по естественным условиям местности жители горских обществ Большой Кабарды не могут существовать земледелием, тем более, что по краткости теплаго времени в году пшеница здесь не успевает вызревать, а посевы ячменя сильно страдают от множества сусликов. Поэтому с давних пор главное занятие жителей составляет скотоводство, для нужд котораго они пользуются принадлежащими им в горах и арендуемыми в долинах Кабарды пастбищами» [Ланге 1903: № 283].
Несмотря на изрядное трудолюбие балкарцев, – пояснял Б.А. Ланге, – «урожаи получаются обыкновенно скудные и собраннаго хлеба далеко не хватает на удовлетворение потребностей населения, которое принуждено поэтому постоянно прикупать его на плоскости» [Ланге 1903: № 288].
Поземельные отношения в Кабарде и Балкарии претерпевали значительные изменения во второй половине XIX – начале XX в. вследствие отмены крепостного права и проведения земельной реформы на территории страны [Прасолов 2005; Прасолов 2011; Прасолов 2013; Муратова 2019b]. Процесс проведения преобразований в Кабарде и Балкарии отражен на страницах газеты фрагментарно. Вместе с тем последовательно иллюстрируется сохранение поземельной взаимосвязанности соседних народов. Так, в июне 1889 г. корреспондент газеты сообщал о приезде в Нальчик начальника Терской области генерал-лейтенанта А.М. Смекалова для объявления монаршей воли.
Вводя в курс дела, корреспондент пояснял, что «согласно Высочайшего повеления 28-го декабря 1869 года, при наделении сельских обществ землями, кабардинцам и некоторым горским обществам было отведено по числу 5969 дымов 245818 десятин, хотя на каждый дым и приходилось более 40 десятин земли, но с увеличением населения до 12830 дымов и с развитием коневодства и скотоводства, составляющих главное занятие жителей, чувствовался страх за будущее, так как не сегодня-завтра можно было ожидать перехода запасных земель в ведение министерства государственных имуществ, и тогда неизбежно пришлось бы сократить хозяйство и тем подорвать благосостояние народа. В виду этого, во время посещения в прошлом году Его Императорским Величеством Государем Императором Кавказа, депутация от кабардинцев обратилась к Его Величеству с просьбою об оставлении за населением 315383 десятин запасных земель» [Слобода… 1889]. Государь удовлетворил просьбу кабардинской депутации. В связи с чем, прибывший начальник области А.М. Смекалов «объявил великую милость Государеву об оставлении в постоянном неотъемлемом пользовании кабардинскаго народа и горских обществ 315383 десятин пастбищных и лесных земель» [Слобода… 1889].
Вскоре газета опубликовала «Правила о порядке пользования кабардинцами и сопредельными с ними пятью горскими обществами, предоставленными им, на основании Высочайшаго повеления от 21-го мая 1889 года, в постоянное пользование пастбищными землями и лесными угодьями» [Правила… 1891].
Наличие у кабардинцев и балкарцев общих интересов в землепользовании и превращение имперской власти не просто в посредника и арбитра, а в субъект распоряжения и надзора над всеми земельными ресурсами, не закрепленными в общинную и частную собственность, превращало пастбищные и лесные угодья в предмет спорного пользования с апеллированием к российской администрации. Конфликтный потенциал вопроса для двух тесно соседствующих народов, у которых отсутствовали документальные свидетельства о точных границах между ними, демонстрируется известным письмом М. Абаева в редакцию газеты «Кавказ». М. Абаев сообщал об обнаружении каменной плиты с фиксированием границ между балкарскими обществами и кабардинскими владениями.
Автор письма выражал сожаление по поводу позднего обнаружения артефакта, поскольку «явись документ этот на сцену в начале 1880 годов, он мог-бы иметь существенное значение для населения горских обществ Нальчикскаго округа – балкарскаго, безингиевскаго, хуламскаго, чегемскаго и баксанскаго (урусбиевскаго) в деле установления границ между плоскостными (кабардинскими) землями и горской территорией, как юридически документ; в настоящее-же время он имеет значение лишь как исторический документ» [Интересный… 1895].
Критический анализ документа, на который ссылается М. Абаев, и свои сомнения относительно достоверности позднейших интерпретаций его содержания были представлены общественности К.Ф. Дзамиховым [Еще раз… 1995]. Вместе с тем появление подобного письма в конце XIX в. и предмет сожаления М. Абаева показательны.
Заключение
История знает случаи единения народов ситуационно удобные, удачные, либо вынужденные. Когда внешние обстоятельства, спровоцировавшие сближение, меняются, то, зачастую, искусственные объединения распадаются. Напротив, выросшие естественно-историческим путем на почве определенной природно-географической среды, базовых потребностей хозяйственной жизни и однотипного социального порядка социально-территориальные структуры невосприимчивы к изменениям внешних по отношению к ним обстоятельств. Многовековое социально-пространственное единение кабардинского и балкарского народов является подобной долговременной структурой, не имевшей равнозначных по функциональной эффективности альтернативных вариантов социально-политической организации полиэтничного пространства исторической Кабардино-Балкарии. Несомненно, фактор включения в российское общество и государство, подверженность модернизационным преобразованиям оказывали трансформирующие влияние на кабардинский и балкарский народы. Вместе с тем фундаментальные основания выстраивания взаимоотношений между двумя народами не потеряли свою актуальность.
Вхождение Кабарды и Балкарии в объективно существующую единую социально-пространственную структуру нашло отражение в публикациях «Кавказа». Материалы газеты освещали особенности существовавшего веками социально-пространственного единства, обусловленного единством природно-хозяйственной системы, транслировали действия имперского правительства по дальнейшему его сохранению и оформлению в рамках своего правового поля. Последовательное описание и объяснение на страницах газеты интеграции кабардинского и балкарского народов в свое время дало основание корреспонденту издания применить обозначение «кабардино-горский народ» [Нальчик… 1883]. Материалы газеты показывают, что с одной стороны, союз с горцами для населения Большой Кабарды являлся спасительным в периоды опасности, с другой – продовольственная безопасность балкарских обществ зависела от умения сотрудничать с жителями равнин. Эти материалы свидетельствуют, что ключевым направлением мобильности балкарских обществ являлось северное – к местам проживания кабардинцев. В горные ущелья, ставшие местом защищенного проживания жителей балкарских обществ и позволявшие горцам сохранить определенные пределы своей независимости, можно было пройти через территорию проживания кабардинцев. Авторы и корреспонденты газеты «Кавказ» показывали географическую связанность двух народов, а затем административное оформление их интеграции в рамках Кабардинского/Нальчикского округа как социально-пространственной единицы российского государства. В периоды перестройки устоявшегося порядка интер-социального взаимодействия неизбежно возникали споры вокруг определения границ землевладения и землепользования. Тем не менее в материалах газеты отображалось прочное удержание каждым из двух народов контроля над своим субпространством и ассимиляционных процессов не наблюдалось.
Очевидно, что взаимоотношения между кабардинцами и балкарцами, завязывавшиеся как следствие необходимости совместного присвоения и удержания зонального пространства, поддержания физической и продовольственной безопасности, были сложны, иерархичны, учитывали аспекты престижа и статусной дифференциации сторон взаимодействия. Но эти нюансы не становились предметом анализа авторов и корреспондентов газеты «Кавказ». Эти задачи решаются последующими поколениями исследователей-кавказоведов, вооруженных актуальными методологиями и стратегиями изучения сложных вопросов кабардино-балкарского единства.
Об авторах
Юзанна Мартиновна Азикова
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Автор, ответственный за переписку.
Email: i.azikova@kbsu.ru
Список литературы
- Абазов А.Х. Кабардинский временный суд в условиях интеграции Кабарды в состав Российской империи во второй четверти XIX в. // Кавказский сборник. – Том 9(41). – М: Русская панорама, 2015. – С. 150–170.
- Абазов А.Х. Народы Центрального Кавказа в судебной системе Российской империи в конце XVIII – начале XX в. – Нальчик: ООО «Печатный двор», 2016. – 264 с.
- Азикова Ю.М. «История» Шоры Ногмова на страницах газеты «Кавказ»: опыт формирования исторической и коллективной памяти // Материалы Межрегиональной научно-практической конференции «Национально-государственные образования в России: история и современность», посвященной 100-летию образования Республики Ингушетия, состоявшейся 11–13 ноября 2024 г. в г. Магасе Республики Ингушетия. Сборник статей в 2-х томах. Т. II. – Ростов-на-Дону: Южный издательский дом, 2024. – С. 164–170.
- Алхасова Д.М. Порядок деконструкции военно-административного учреждения на примере упразднения Центра Кавказской линии в 1857 году // Научная мысль Кавказа. – 2023. – №2 (114). – С. 42–47.
- Баразбиев М.И. Этнокультурные связи балкарцев и карачаевцев с народами Кавказа в XVIII – начале XX века. – Нальчик: Эльбрус, 2000. – 112 с.
- Баратов Т.Г. О природе и хозяйстве Кабарды // Кавказ. – 1860. – № 73. – С. 431.
- Батчаев В.М. Балкария в XV – начале XIX вв. – М.: Институт археологии Кавказа, 2006. – 239 с.
- Бегеулов Р.М. Центральный Кавказ в XVII – первой четверти XIX века: очерки этнополитической истории. – Карачаевск: КЧГУ, 2009. – 240 с.
- Блиева З.М. Российский бюрократический аппарат и народы Центрального Кавказа в конце XVIII – 80-е годы XIX века. – Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2005. – 398 с.
- Боров А.Х. Проблема «этнического» и «пространственного» в региональном историческом нарративе: «случай» Кабардино-Балкарии в свете данных этногеномики // Электронный журнал «Кавказология». – 2022. – № 3. – С. 15-40. – DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2022-3-15-40
- Боров А.Х. Этногенез и регионогенез в становлении исторической Кабардино-Балкарии // Электронный журнал «Кавказология». – 2023. – № 3. – С. 14-75. – DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2023-3-14-75
- Боров А.Х., Думанов Х.М., Кажаров В.Х. Современная государственность Кабардино-Балкарии: истоки, пути становления, проблемы. – Нальчик: Эль-Фа, 1999. – 184 с.
- Боров А.Х., Муратова Е.Г., Азикова Ю.М. Центральный Кавказ как пространство социально-политических взаимодействий: историографические итоги и перспективы изучения // Электронный журнал «Кавказология». – 2021. – № 4. – С. 48-85. – DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2021-4-48-85
- Боров А.Х., Кушхабиев А.В., Шаожева Н.А., Геграев Х.К., Татаров А.А., Тумов А.А. Кабардино-Балкарская Республика: генезис, аспекты и проблемы современного развития. – Нальчик: КБНЦ РАН, 2024. – 472 с.
- Боров А.Х., Дзамихов К.Ф. Россия и Северный Кавказ: этапы взаимоотношений // Известия КБНЦ РАН. – 1998. – № 1. – С. 142-150.
- Боров А.Х. Этнополитика современной Кабардино-Балкарии: генезис и специфика // Электронный журнал «Кавказология». – 2024. – № 3. – С. 16–40. – DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2024-3-16-40
- Века совместной истории: народы Кабардино-Балкарии в российском цивилизационном процессе (1557–1917 гг.). – Нальчик: ИГИ КБНЦ РАН, 2017. – 542 с.
- Восхождение на гору Эльбрус// Кавказ. – 1889. – № 35. – С. 3.
- Высочайшее повеление // Кавказ. – 1860. – № 23. – С. 121.
- Высочайшее повеление об образовании в Терской области нового округа // Кавказ. – 1881. – № 269. – С. 1.
- Высочайшие повеления // Кавказ. – 1858. – № 12. – С. 60–61.
- Гирей. Замечания на статью Законы и обычаи Кабардинцев // Кавказ. – 1846. – № 10. – С. 57–58; – № 11. – С. 41–43.
- Годичное общее собрание членов кавказского отдела русского географического общества// Кавказ. – 1889. – № 312. – С. 2–3.
- Динник Н. По поводу погибших на Кавказе путешественников-англичан // Кавказ. – 1888. – № 303. – С. 1–2.
- Доклад о центральном Кавказе в географическом отделении // Кавказ. – 1893. – № 152. – С. 3.
- Еще раз о надписи на каменной плите и «Истории Кабардино-Балкарии» // Хасэ. – 1995.– № 47 (109). – 25 ноября.
- Ж. Охота на туров // Кавказ. – 1891. – № 314. – С. 2.
- Жуков Н.В. Подробные сведения о розысках погибших английских альпинистов Донкина и Фокса // Кавказ. – 1889. – № 36. – С. 3; – № 37. – С. 3.
- Заметка топографа Жукова // Кавказ. – 1888. – № 304. – С. 2.
- И.З. Баксанское ущелье (Путевые заметки) // Кавказ. – 1891. – № 336. – С. 2–3.
- И.К. Характерные обычаи у осетин, кабардинцев и чеченцев // Кавказ. – 1876. – № 148. – С. 1–2.
- Из Нальчика // Кавказ. – 1888. – № 248. – С. 2.
- Известия о пропавших англичанах-путешественниках // Кавказ. – 1888. – № 279. – С. 3.
- Извлечение из Положения об управлении Терской областью // Кавказ. – 1862. – № 57. – С. 319–320.
- Интересный документ // Кавказ. – 1895. – № 230. – С. 2.
- Кажаров В.Х. К вопросу о территории феодальной Кабарды // Кажаров В.Х. Избранные труды по истории и этнографии адыгов / Сост. А.Х. Абазов. – Нальчик: ООО «Печатный двор», 2014. – С. 570–589.
- Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии в общероссийскую систему управления (вторая половина XVIII – начало ХХ в.). – Нальчик: Эль-Фа, 2007. – 232 с.
- Кипкеев И.С. История правовой культуры этнополитических отношений на Северо-Западном Кавказе (XVI–XIX вв.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Черкесск, 2005. – 174 с.
- Кипкеева З.Б. Северный Кавказ в Российской империи: народы, миграции, территории. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. – 432 с.
- Кожев З.А. Иерархические связи кабардинцев с народами Северного Кавказа (XVI–XVIII) // Исторический вестник. – 2005. – Вып. 1. – С. 118–144.
- Кожев З.А. Социально-политическое и этнокультурное пространство Черкесии (XVI – нач. XIX в.): принципы самоорганизации. – Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2016. – 172 с.
- Константинов О.И. Очерк северной стороны Кавказа // Кавказ. – 1847. – № 2. – С. 6–8.
- Корреспонденция «Кавказа» // Кавказ. – 1868. – № 96. – С. 2.
- Ланге Б.А. Балкария и балкарцы // Кавказ. – 1903. – № 283. – С. 2; – № 287. – С. 2; – № 288. – С. 2; – № 294. – С. 2; – № 301. – С. 2.
- Ловен П. Еще о погибших английских альпинистах Донкине и Фоксе // Кавказ. – 1889. – № 57. – С. 2–3.
- М. Татарское племя на Кавказе // Кавказ. – 1859. – № 91. – С. 5–6.
- Макаров Т. Племя Адигэ // Кавказ. – 1862. – № 29. – С. 154–156; – № 30. – С. 160–162; – № 31. – С. 166–168; – № 32. – С. 173–174; – № 33. – С. 178–180; – № 34. – С. 185–186.
- Материалы для изучения Кавказа // Кавказ. – 1858. – № 96. – С. 505–506.
- Межевые действия в Закавказском крае и на Северном Кавказе в 1875 году // Кавказ. – 1875. – № 49. – С. 1–2.
- Муратова Е.Г. Социально-политическая история Балкарии XVIII – начала XX в. – Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 2007. – 420 с.
- Муратова Е.Г. Балкарские горские общества в условиях имперской модернизации России: этносоциальная консолидация и развитие // Электронный журнал «Кавказология». – 2019. – № 2. – С. 12–36. – DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2019-2-12-36
- Муратова Е.Г. Д.С. Кодзоков и начало земельных преобразований в Балкарии (1860–1870-е гг.) // Электронный журнал «Кавказология». – 2019. – № 1. – С. 80–86. – DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2019-1-80-86
- Н.Ж. С Главного Кавказского хребта // Кавказ. – 1888. – № 236. – С. 3; – № 283. – С. 3.
- Нальчик (Терск. обл.), 7 февраля // Кавказ. – 1883. – № 46. – С. 3
- О быте, нравах и обычаях древних Атыхейских или Черкесских племен (Из рукописи Шах-Бек-Мурзина) // Кавказ. – 1849. – № 36. – С. 143–144; – № 37. – С. 146–148.
- Обзор статей, помещенных в газете «Кавказ», в продолжение: 1846, 1847, 1848 и 1849 годов // Кавказ. – 1849. – №№ 48, 49, 50, 51, 52. – С. 190–191, 195–196, 199–200, 202–203, 206–208.
- Общее собрание членов кавказского отдела Императорского русского географического общества // Кавказ. – 1889. – № 33. – С. 2.
- Общинное землевладение в Кабарде // Кавказ. – 1891. – № 308. – С. 2.
- Остерхаммель Ю. Трансформация мира: история XIX века: главы из книги / пер. с нем. А. Каплуновского // Ab Imperio. – 2011. – № 3. – С. 21–140.
- Правила о порядке пользования кабардинцами и сопредельными с ними пятью горскими обществами, предоставленными им, на основании Высочайшаго повеления от 21-го мая 1889 года, в постоянное пользование пастбищными землями и лесными угодьями // Кавказ. – 1891. – № 263. – С. 1.
- Прасолов Д.Н. Поземельные отношения в Кабарде во 2-й половине XIX – начале XX в. // Исторический вестник. – Нальчик: ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.»; Издательский центр «Эль-Фа», 2005. – Вып. I. – С. 191–213.
- Прасолов Д.Н. Землевладение и землепользование Зольскими и Нагорными пастбищами (XIX-XX вв.) // Этнополитические и религиозные проблемы Кабардино-Балкарии: предпосылки, характер и перспективы решения. – Нальчик: Тетраграф, 2011. – С. 38–44.
- Прасолов Д.Н. Пространство землепользования кабардинцев и балкарцев – образы прошлого в исторической ретроспективе // Историческое прошлое и образы истории: Материалы международной научной конференции в честь 95-летия гуманитарного образования в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского / под ред. Л.Н. Черновой. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2013. – С. 48–55.
- Прасолов Д.Н. Развитие местного самоуправления у кабардинцев и балкарцев во второй половине XIX – начале XX в. – Нальчик: Редакционно-издательский отдел ИГИ КБНЦ РАН, 2017. – 136 с.
- Прасолов Д.Н. Съезды доверенных в практиках местного самоуправления кабардинцев и балкарцев во второй половине XIX – начале XX в. Нальчик: Редакционно-издательский отдел ИГИ КБНЦ РАН, 2019. – 208 с.
- Прасолов Д.Н. «Вся Кабарда встретит этот акт с чувством великого нравственного удовлетворения…». Статья Г. Баева «О присоединении Малой Кабарды к Большой» // Электронный журнал «Кавказология». – 2021. – № 4. – С. 86–107. – DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2021-4-86-107
- Предания Атыхейцов, не бесполезные для истории России (Из рукописи Шах-Бек-Мурзина) // Кавказ. – 1849. – № 45. – С. 179–180.
- Приказы по кавказскому военному округу // Кавказ. – 1866. – № 71. – С. 1.
- Приказы военного министра // Кавказ. – 1867. – № 4. – С. 20.
- Разные известия. Восхождение на Эльбрус // Кавказ. – 1874. – № 109. – С. 3.
- Реконструкции мировой и региональной истории: от универсализма к моделям межкультурного диалога / Под общ. ред. Л.П. Репиной. – М.: Аквилон, 2017. – 560 c.
- Репина Л.П. История регионов, или «территория историка» после пространственного поворота // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – 2019. – № 69. – С. 5–16.
- Россия и народы Северного Кавказа в XVI – середине XIX века: социокультурная дистанция и движение к государственно-политическому единству. – Нальчик: ИГИ КБНЦ РАН, 2018. – 268 с.
- С. Освобождение крепостных // Кавказ. – 1867. – № 27. – С. 153–154.
- Сведения об Атыхейцах, почерпнутые из местных преданий, песен и родословной книги под названием Джиафир и Джианама, на турецком языке (Из рукописи Шах-Бек-Мурзина) // Кавказ. – 1849. – № 39. – С. 155–156.
- Слобода Нальчик (Терской области), 28-го июня // Кавказ. – 1889. – № 175. – С. 2.
- Степанов Н. Беглые очерки Кабарды (Из записок топографа) // Кавказ. – 1861. – № 82. – С. 442–444.
- Тебуев Р.С., Хатуев Р.Т. Очерки истории карачаево-балкарцев. – М.: Илекса; Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2002. – 224 с.
- Тифлис 27-го октября // Кавказ. – 1868. – № 126. – С. 1.
- Указ Правительствующему Сенату // Кавказ. – 1870. – № 22. – С. 1.
- Унгерн-Штернберг Ф.Р. По поводу моего восхождения на Эльбрус // Кавказ. – 1888. – № 328. – С. 2–3.
- Хатуев Р.Т. Карачай и Балкария до второй половины XIX в.: Власть и общество // Карачаевцы и балкарцы (этнография, история, археология). – М.: ИЭА РАН, 1999. – С. 5–198.
- Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф., Урушадзе А.Т. Российский Северный Кавказ: исторический опыт управления и формирования границ региона. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – 272 с.
- Хозяйственный быт на Кавказе (Особенности кабардинцев) // Кавказ. – 1891. – № 342. – С. 2–3.
- Циркулярное предложение Его Императорского Высочества Великого князя наместника от 6 декабря 1870 года, № 575 // Кавказ. – 1870. – № 151. – С. 1.
Дополнительные файлы