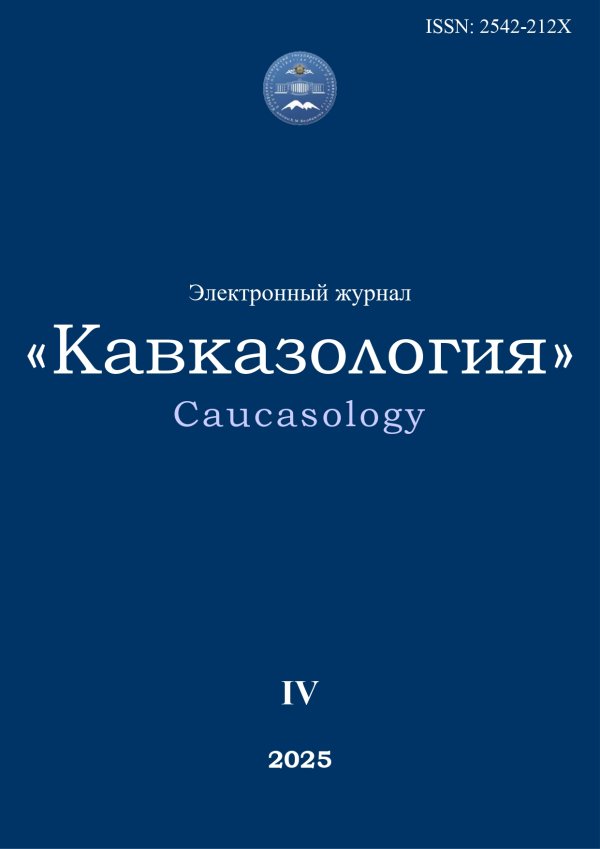Модернизация поэтической традиции в балкарской литературе 1920-1930-х годов (К.Б. Мечиев, С.О. Шахмурзаев)
- Авторы: Бауаев К.К.1
-
Учреждения:
- Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербеко-ва
- Выпуск: № 2 (2025)
- Страницы: 189-202
- Раздел: Литература народов Российской Федерации (литература народов Северного Кавказа)
- Статья получена: 05.07.2025
- Статья опубликована: 15.12.2025
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/299313
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2025-2-189-202
- EDN: https://elibrary.ru/QGAOPU
- ID: 299313
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Работа содержит аналитическую информацию о процессах эстетической унификации и национальной идентичности северо-кавказских литератур начала ХХ в. В центре внимания – размышления над природой идеологических факторов, повлиявших на деление национальных литератур на «традиционные» и «новописьменные». На материале поэтических произведений К. Мечиева, С. Шахмурзаева анализу подвергаются проблема преемственности и изолированности балкарской литературы, процессы модернизации национальной авторской поэзии 1920–1930 гг. Показано, что в условиях резкого расширения тематического и проблемного полей молодой советской поэзии, наблюдавшегося даже во время ужесточения культурной политики государства балкарские поэты сознательно и целенаправленно выстраивали в своих произведениях новую систему образных презентаций, основанную не только на традиционных сензитивных структурах, но и – в большей мере – на рефлективных схемах денотативного, обобщенно-понятийного характера.Автор приходит к выводу о том, что физическая наполненность образов балкарской поэзии, их материальность, исходящая из перцептивных ресурсов самого языка, в конце 30-х гг. ХХ в. определяет параметры поэтических представлений большинства авторов. Она присуща даже тем из них, чей индивидуальный стиль, пафосность и концептуалистика полностью определялись эталонами идеологического порядка и формировались в границах социалистической отвлеченной эмблематики.
Ключевые слова
Полный текст
История балкарской поэзии практически идеально вписывается в координаты так называемой теории «ускоренного развития» [Гачев 1989: 3-4]. Советские литераторы – учёные и критики – уверенно относили балкарскую художественную словесность к разряду новописьменных, что, конечно же, имело свои очевидные основания. Однако некоторая коррекция сложившихся в советское время воззрений, все-таки, необходима. В рамках социалистической доктрины, естественно, не учитывались многие существенные обстоятельства. На протяжении длительной временной дистанции, с появлением все новых и новых поколений писателей и ученых, реверансы в сторону политической и идеологической необходимости приобретали системный характер, все более и более искажая картину актуального состояния и эволюции национального словесного творчества.
Так, первым из базовых постулатов фактологии балкарской литературы можно принимать несомненный приоритет Кязима Мечиева, как основоположника и первопроходца национальной художественной словесности. Этот тезис никогда и никем не оспаривался, по крайней мере, в советскую эпоху, что, однако, объяснялось не только эстетическим качеством и уровнем одаренности первого официального балкарского поэта. Кязим Мечиев, помимо всего прочего, идеально вписывался в каноническую картину духовного роста масс населения с приходом советской власти, вписывался в схему развития культурного сознания и эстетического мышления в стране победившего социализма [Бауаев 2015: 237]. В целях создания эталонного образца национального поэта, рожденного новым строем, биография Мечиева подвергалась коррекции и идеологическому ретушированию. Это не было бы столь существенно с точки зрения реального контекста балкарской литературы довоенного периода – мы не видим особых принципиальных отличий эволюционного характера между текстами авторов-выходцев из различных социальных слоев. Однако, помимо идеологически обоснованных исправлений творческой судьбы и биографии Кязима Мечиева, литературоведение соцреализма позволяло себе купирование системных институциональных этапов литературного движения и, соответственно, без оглядки вымарывало принципиальные моменты действительной истории национальной литературы.
Именно поэтому в своем классическом виде – классическом с точки зрения теории соцреализма – история балкарской художественной словесности выглядит как некий процесс с единовременным зарождением и поступательным линейным движением в границах единой системы идеологии, концептуалогии, философского осмысления окружающего. Как результат – мы имеем творчество Кязима Мечиева в качестве исходной точки. Творчество великого поэта однозначно социально-идеологического плана, ориентированное на оправдание и восхваление нового строя, на освещение несправедливости общества дооктябрьского периода. Между тем это далеко не так.
Начнем с того, что творчество самого Кязима Мечиева не было единообразным и столь ортодоксально одобряемым в идеологическом аспекте. Огромное количество его текстов духовного содержания советским литературоведением попросту умалчивалось, игнорировалось и никак не учитывалось в формировании общей картины национального литературного контекста. К тому же, с точки зрения поэтики, наследие первого балкарского автора носит явные следы нетривиального для Советского Союза и советской литературы образного мышления, образной атрибутации. Вопрос этот требует дополнительного исследования, однако уже сейчас появились работы (Кучуковой З.А. «Карачаево-Балкарская вертикаль». Нальчик, 2015. Бауаев К.К. «Эволюционная специфика балкарской поэзии: типология апперцептивных версий». Махачкала, 2017, Биттирова Т.Ш. «Кязим Мечиев: духовно – нравственные поиски и художественный мир поэта». Нальчик, 2023. Узденова Ф.Т. «Мечиев Кязим Беккиевич». Нальчик, 2003.), доказывающие, что исходным базисным основанием апперцептивных представлений великого уроженца Безенги были каноны и стандарты арузного, восточного поэтического стихосложения.
Судя по некоторым текстам, К. Мечиев достаточно хорошо знал технику восточного аруза. В некоторых своих произведениях он буквально следует классическим формулам и жанровым параметрам восточной поэтики. Можно полагать, что из всех разновидностей аруза Мечиеву ближе всего был арабский канон, так как еще до первого своего хаджа балкарский поэт, вне всякого сомнения, был знаком с произведениями арабских авторов, хотя бы, в религиозных исламских жанрах. Как известно, несмотря на свое происхождение из семьи ремесленников, Кязим Мечиев достаточно рано начал обучаться в духовных учреждениях и был знаком с арабской культурой. Некоторые исследователи утверждают напрямую, что Мечиев неплохо ориентировался и в светской литературе Востока, будучи ознакомленным с ней одним из своих учителей – Чепеллеу-эфенди [Узденова 2003: 77].
Необходимо констатировать, что великий балкарский поэт, в целом, действительно неплохо знал арузную технику стихосложения. В ряде своих произведений он демонстрирует точное следование требованиям ордера, и, как показано в указанных выше работах, речь могла идти не только о системе образного представления и поэтических фигурах, но и об уверенном владений структурой, композицией и концептуалистикой крупных форм. Нет никакого сомнения в том, что Кязим Мечиев еще в молодости пытался освоить арузную технику, что видно, хотя бы, по нескольким его текстам, выстроенным в соответствии с требованиями персидского ордера стихосложения. В частности, некоторые его стихи представляют собой рубаи в чистом виде без всяких скидок на культурную и формальную адаптацию:
Тау башында тау болмаз,
Жангыз терекден бау болмаз.
Къылыч жара сау болса да,
Сюймеклик жара сау болмаз [Мечиев 1987: 5].
//--//
На вершине горы – горы не будет.
Из одного дерева хлева не выстроишь,
Если рана от клинка и зарастает,
От любовной раны не выздоровеешь [перевод: Бауаев К.К.] – напомним, что это известнейшее стихотворение датируется 1890 годом.
В этот же период в текстах поэта можно отследить образцы такой сугубо восточной традиционной формы, как параллелизм, правда, характеризующийся большим объёмом, меньшей компактностью и четкостью, чем в аутентичных прототипах на арабском языке и фарси. По всей видимости, сугубо техническая недостаточность вынуждала балкарского стихотворца прибегать к распространенным, точнее, расширенным модификациям параллелизма, в основе которых находились чисто грамматические характеристики балкарского языка. Поэт попросту не встраивал свою художественную сентенцию в эталонный бейтовый размер, увеличивая его, как минимум, в два раза:
Атанг келди да гюрбежиге,
Атына кишен ишлетди.
Аны биргесине юйюне
Мени жюрегими да элтди.
//--//
Сюеме – кишеним жарасын,
Жюрегим да юйюнгде къалсын.
Атанг эмилик атын тыяр,
Сени уа не хазна тыялсын! [Мечиев 1987: 6]
//--//
Пришёл в кузню твой отец
Заказал своей лошади путы.
С ними вместе домой
Отнёс и моё сердце.
//--//
Хочу, чтоб путы подошли,
Чтобы и сердце моё в твоём доме осталось.
Отец твой свою необъезженную лошадь остановит
Но вряд ли остановит тебя! [перевод: Бауаев К.К.]
Формирование поэтического мышления Саида Шахмурзаева проходило совершенно по-другому, его творческий путь и вся биография доказывают: это был совершенно иной психотип, более ориентированый не на выражение собственного субъективного мира, а на коррекцию и преобразование окружающего. Хотя Саид Шахмурзаев также учился в медресе и получил достойное духовное образование, он изучал Коран, прошел все центры мусульманского и светского образования – от школ в чегемском ушелье Эль-Тюбю, Актопраке до Кёнделена, Учкулана, Ногая (Эркин-Шахара), Буйнакска, Кизляра и Симферополя (педтехникум), приобрёл не только знания, но и духовную мудрость, до определенного момента он никак не реализовал себя в качестве особо выделенной единицы общества в ментальном и социальном смысле. Вероятней всего достаточно стабильная обстановка балкарского этносоциума последней четверти XIX века не была той средой, которая инициировала бы природные потенции такой личности, как Шахмурзаев. Полем его реализации был поиск и фиксация духовных и творческих локаций общественно-креативного характера, это был прирожденный просветитель, человек-первопроходец с выраженной потребностью освоения и интерпретации тех или иных информационных ареалов, желательно – не затронутых до него. Если бы Саид Османович и был бы досконально знаком с техникой арузного стихосложения, она бы вряд ли привлекла его – прежде всего, как система выражения внутренних рефлексивных движений, более всего адаптированная к выражению собственного «я». Вся жизнь Саида Шахмурзаева демонстрирует его неистребимую тягу к социально значимым проектам. Реализация его как личности, была возможна лишь в сфере интеллектуальных и морально-волевых усилий, направленных во внешний мир. Именно этим объясняется его активность в принятии и воплощении масштабных проектов новой власти после 1917 г., обращенных к модификаций таких сфер, как образование, целеустановки общества, коррекция и совершенствование информационного пространства этноса. В 1924 г. Саид Османович сделал свой первый шаг в просветительстве, создав балкарский алфавит и взяв за основу латиницу.
Даже в одной из самых значительных работ Саида Шахмурзаева – его знаменитом топонимическом словаре – бесспорно заметна врождённая, исконная экстравертность автора. Написанный совместно с Дж.Н. Коковым, «Словарь» представляет нам совершенно очевидную модель общих усилий, в рамках которой Саид Шахмурзаев взял на себя фиксацию тезауруса топонимики Балкарии, а Коков – объяснение и толкование найденных лексем. По всей видимости, балкарскому поэту единственной и достойной задачей при работе над словарем виделось закрепление топонимического глоссария как такового. Эта часть нагрузки настолько увлекала писателя, что дальнейшая доработка в смысле толкования и определения генезиса топонимического глоссария Шахмурзаева уже практически не интересовала, ведь даже поверхностный обзор словарных статей со всей убедительностью показывает некорректность некоторых и даже многих из них. Остаточное влияние расхожих сублимативных теорий, сформулированных в период выселения балкарского народа, сказалось на толковании многих топонимов Дж.Коковым – иногда даже в поразительно показательных случаях, таких, как например, «ыфцых» (перевал), отнесенных к заимствованием из осетинского языка. Абсолютно прозрачное карачаево-балкарское «ау+чыкъ», имеющее бесспорный перевод «выход на спуск на ту сторону», толкуется в словаре, как осетинское «перевал» в основе которого почему-то лежит корень «афцаг», означающий «верхние позвонки спинного хребта» [Коков, Шахмурзаев 1970: 76].
Достаточно легко читаемый характер работы, точнее специализации авторов «Словаря» вполне доказательно говорит нам о ментальных приоритетах С.О. Шахмурзаева, всегда стремившегося к моделям креативного охвата окружающего, к формированию новых областей осмысления и логического анализа и зачастую пренебрегавшего моментами реализации субъективного «я» и, тем более, возможностями самовыражения в части презентации уникальных черт собственной личности. Саид Шахмурзаев, со всей определенностью, был человеком, обращенным к обществу.
Понятно, что подобный тип личности не имел достаточного интереса к структурам литературного самовыражения, предполагающим акцентированное внимание к тонким эволюциям собственной души. Посему Саида Шахмурзаева не должны были интересовать и, де-факто, не интересовали системы арузного стихосложения, как, впрочем, и восточные поэтические практики в целом. Это был слишком деятельный характер, деятельный настолько, что ему никоим образом не грозило глубокое погружение в лирическое самовыражение. Саиду Шахмурзаеву требовалась яркая, выраженная внешняя причина, которая служила бы вызовом его внутренним ресурсам, причина, на которую он должен был бы ответить непосредственно социально ориентированным образом. В этом аспекте видится очень показательным тот факт, что первое зафиксированное стихотворение балкарского поэта датировано 1916 годом [Теппеев, Биттирова 2003: 398]. Первая мировая война оказалось достаточно веской причиной для инициации и активизации его способности к художественному слову. Интересен образный строй этого текста:
Тилеграмла урулдула
Халкъгъа хапар берирге,
Петербургдан хапар келди
Биз солдатха кетерге...
//-//
«Атыгьыз!» къычыралла
Жюрегимми жаралла,
Начальникле, командирле
«Хайдагьыз!» деб айталла...
//-//
...Таракъ-таракъ эрийдиле
Тихтеннгенни бузлары,
Ызыбыздан жиляйдыл'а
Чегем элни къызлары... [Шахмурзаев 2003: 18].
//--//
Посыпались телеграммы
Народу донести вести,
Из Петербурга новость пришла,
Что мы уходим в солдаты...
//-//
«Стреляйте!» – кричат,
Сердце моё раскалывают,
Начальники, командиры
«Давайте!» – говорят-командуют...
//-//
...Бороздами-бороздами тают
Льды Тихтенген,
Вслед за нами плачут
Девушки чегемского общества... [перевод Бауаев К.К.].
Опубликованное в 1916 г. в кумыкском журнале «Тангчолпан», (Утренняя звезда), стихотворение «Слово солдата» посвящено событиям первой мировой войны и переживаниям молодых бойцов на фронте. Мы видим последовательность простых автологических определений, передающих основной ход событий и, практически, не касающихся образно-атрибутивной составляющей описаний. Это наблюдается в первой строфе, но затем автор переходит к эмотивным определениям, оснащенным даже физиологически значимыми деталями – «Стреляйте!» «Давайте!» – если, конечно, причислять к таковым свойственное балкарскому языку интонационное выделение при подаче голосовых команд, намного превышающее соответствующие показатели русской речи.
Третья строфа приведенного фрагмента отмечена наличием ярко выраженного сензитивного языкового представления. «Бороздами-бороздами тают льды Тихтенген» – для балкарца это очень яркая и достоверная картина таянья фирнового снега на большой высоте, имеющая не только визуальное наполнение, но и достаточное тактильно-осязательное содержание. Жители высокогорья прекрасно знают, что многолетний снег исчезает под лучами солнца, формируя своеобразный рельеф из продольных параллельных линий. Материализованное качество представляемого описания усугубляется семантикой примененного в оригинале слово. Оно, буквально, означает не борозду, а гребень и несет в себе оттенок ощущений актанта, что, в конечном итоге, конкретизируют апперцептивный эффект образа, внося в него конкретное иннервационное содержание.
Тяготение Шахмурзаева к конкретным параметрам и свойствам поэтических объектов в его творчестве имело свое фундаментальное обоснование и говорило о некоторых институциональных сторонах его мышления и образного воображение. Помимо всего прочего, эта черта индивидуального стиля балкарского автора была системной, многократно и регулярно проявлявшейся в его художественных текстах. Даже в том мизерном количестве произведений Шахмурзаева, что дошло до нас из его предреволюционного периода творчества, конкретика и реальная деталь описания видится постоянным стабильным маркером его поэтического высказывания таково, к примеру, стихотворение поэта «Мен быллайны сюйгенем» (Я полюбил такую):
Инчге белли, токъ ёшюнлю бир къызчыкъ,
Къар юсюнде назик аякъ къыз ызчыкъ.
//--//
Излей барыб, ол къызчыкъны табханем,
Кёргеним'лей, мен эрними къабханем...
//--//
...Жан береме сюйгениме таралыб,
Кюйе, бише бул-булума аралыб,
//--//
Дуньям къалды аман бла къаралыб,
Къар тауланы тёппелери агъарыб [Шахмурзаев 1957:20-22].
//--//
С тонкой талией, с полной грудью одна девушка,
На снегу – изящные отпечатки её девичьих следов.
//--//
Я шёл, разыскивая, и нашёл эту девочку,
Как только увидел (её), я прикусил губу...
//--//
...Отдам душу, тоскуя по своей любимой,
Сгорая, варясь, уставившись на своего соловья.
//--//
Мой мир окрасившись бедой, стал чёрным,
Снежных гор макушки побелели... . [перевод Бауаев К.К.].
В данном случае комментарии излишни. Не столь явными видится лишь один момент: «Отдам душу, тоскуя по своей любимой», но он не вполне соответствует оригиналу и поэтому кажется выстроенным в канве условно-поэтических единиц, однако балкарское слово «таралып» не означает тоску в чистом виде. Оно имеет явный семантический оттенок физического действия, сопровождаемого буквальным ущербом тому или иному предмету. Расшифровывая смысл этой лексемы, использованной Шахмурзаевым, мы должны будем согласиться с тем, что оно означает нанесение поверхностных травм. Он таков же, как и в русском «царапать», но, с точки зрения пафоса и модальности, относится, исключительно, к сфере высоких духовных переживаний.
Итак, принципы апперцепции раннего творчества Саида Шахмурзаева подразумевали достаточно близкое родство с поэтикой Кязима Мечиева, за исключением того факта, что основоположник национальной литературы был технически более оснащен, нежели его младший товарищ, лучше знал теорию аруза, соответственно, создавал тексты более-менее коррелировавшие с восточными поэтическими практиками. Во всем остальном в объеме апперцептивных навыков Мечиев и Шахмурзаев были типологически сходными авторами, произведения которых выстраивались, в основном, из автологических единиц конкретного содержания с частыми включениями материализованной и даже физиологически значимой эстетической рефлексии.
Этот момент является ключевым для понимания характера эволюции Саида Шахмурзаева в дальнейшем. В условиях социальной стабильности балкарский художник, по всей видимости, не находил достаточного ресурса вдохновения, из чего можно сделать заключение о его малой степени интегрированности в систему восточных поэтических учений. Аруз, несмотря на доминирующее превосходство автологических определений, все же, ориентирован на внутренние душевные эмоциональные движения субъекта. Рациональность и понятийное мышление – природа образности арабской и персидской поэтики и возросших на их основании тюркских поэтических практик.
Однако, надо понимать, что условность и отсутствие материального наполнения арузной образности не идет от избегания эстетической доктриной Востока реальных объектов. Иллюзорность таковых является следствием чрезвычайной развитости традиционных осмыслении и интерпретаций в рамках аруза. Теоретическая и художественная мысль Персии и арабских стран очень сильно опередила изыскания европейских мыслителей и поэтов, дойдя в своих нормативных и рекомендательных составляющих даже до упорядочения графики при написании стихотворного текста. Некоторые из поэтических фигур, описываемых теоретиками арабской и персидской литератур, напрямую посвящены анализу визуальных несоответствий, временами детализированных до такой степени что, например, разницу в фигурах «мукатта» и «мувассал» можно обнаружить только в начертании букв и лигатур [Рашид Ад-Дин Ватват 1985: 18].
Условно-понятийный характер описаний восточных авторов следовал не из абстрактности используемых и включенных в текст объектов. Наоборот, список пользуемых в произведениях понятий весьма короток, и намного чаще мы сталкиваемся с конкретикой реальных предметов, обогащенных, однако, настолько плотными ассоциативными выходами, настолько многочисленными апелляциями к единицам культурного характера, что они воспринимаются, как сугубо эстетические, умозрительные сущности, близкие по своему информационному наполнению абстрактно-рациональным категориям.
И это очень важный момент в попытке понимания роли и значения Саида Шахмурзаева в истории балкарской художественной словесности. Будучи менее погруженным в пространство арузной поэтики, нежели Кязим Мечиев, Саид Шахмурзаев был носителем совершенно другой структуры поэтического образа и модели художественной рефлексии. Восточная поэтика, повторимся, предполагала углубленное внимание к тонким движениям души автора, она базировалась на обращении субъекта к самому себе, что нашло выражение даже в соответствующих традиционных фигурах аруза, эстетическая легитимность тахаллуса говорит в этом смысле о многом. Сопутствующим эффектом подобной системы отражения мира было повышенное требование к эмоциональной, то есть, в данном случае, ассоциативной компоненте образа. И это оборачивалось формированием селективного механизма, ограничивающего проникновение в сферу эстетически допустимого значительной части объектов реального окружения. По сути дела, любой арузный текст весьма скуден описываемыми объектами, несмотря на их явную материальную наполненность.
Говоря иначе, традиционная восточная поэтика тяготеет к тому способу отражения, который не предполагает возможности резкого массированного внедрения в эстетическое сознание нового тезауруса объектов. Поэтика Востока консервативна в силу особенностей своих рефлективных алгоритмов. И если Кязим Мечиев формировался в ламинарной среде, сохранявшей заметные параметры традиционного балкарского общества, сразу после отмены крепостного права, то Саид Шахмурзаев вступил в сознательную жизнь на этапе начальной модернизации этносоциума. Более низкий уровень освоения техники арузного письма Шахмурзаева, в первую очередь, говорит не об особенностях его образного мышления и способности к восприятию, а прежде всего об информационной среде среднестатистического жителя Балкарии на исходе позапрошлого столетия.
Процессы социальной и экономической модернизации на Северном Кавказе, в частности на территории Балкарии, фактически совпали со временем социальной и гражданской зрелости Саида Шахмурзаева – конец XIX-первое десятилетие XX вв. [Дзагов 2010: 265]. Атрибутика и антураж жизни в горах значительно изменились: огромное количество новых объектов и понятий стало фактом повседневной жизни, изменились традиционная мотивация и аксиология народа. Вспомним показательное описание внешности любимой девушки у балкарского поэта – совершенно невозможная у его предтечи и учителя К.Б. Мечиева.
В отсутствии такой прочной и органической связи с эстетикой и образностью аруза, какими отмечено творчество Мечиева, тенденция к расширению, прежде всего, объемному, количественному сферы эстетического, сферы объектов, допустимых к художественному осмыслению в текстах, для Шахмурзаева была определяющей. Мы не знаем, в какой степени ограничения конфессионального характера, полученные им в процессе обучения, сковывали развития мировоззрения уроженца Чегема. Но, несомненно, некое сопротивление на ментальном уровне имело место быть.
В условиях ограничений, инициированных властными верхами, модернизационных процессов и сохранении патриархального уклада жизни [Боров 2007: 265], внутренние барьеры психологического характера, безусловно, сказались на творческой активности писателя. Так как основным посылом и ресурсом его эстетического взгляда на мир была тяга к познанию нового, стремление к фиксации инновационных полей интеллектуальной деятельности, низкий уровень трансформационных процессов в экономике, в социальной и культурной жизни Балкарии обусловил и соответствующий уровень творческой активности. В то время, как интенсивность создания поэтических текстов его старшими товарищами вошла в свой пиковый режим, Саид Шахмурзаев резко снизил объёмы работы в сфере художественной словесности. Так, по крайней мере, следует из доступной нам хронологизации его наследия.
При этом следует обратить внимание на тот факт, что апперцептивные принципы художественного мышления Шахмурзаева в этот период – конец XIX-начало XX веков – практически совпадали с параметрами эстетических воззрений К. Мечиева. Оба они, естественно, в большей или меньшей степени следовали практикам народной словесности, оба были неплохо знакомы с традициями восточной поэтики, оба не избегали конкретики и материальной наполненности образного представления свойственного карачаево-балкарскому языку в целом. Здесь, по всей видимости, следует отметить, что присутствие сензитивности в национальных текстах можно наблюдать даже в самых архаичных фольклорных произведениях («...Он разозлится, его веки набухнут //...его зубы-кетмени высекут искры // ...В крепости орлиные крылья рассыпятся // От схватки (боя) клинков воздух загорится») [Нарты… 1994: 63].
Характер эстетической рефлексии, соблюдаемый в произведениях двух балкарских авторов единообразен. Это приблизительное равенство указанных институирующих компонент с небольшими концептуальными расхождениями – уже тогда Шахмурзаева интересовали масштабные общественно значимые темы и проблемы, в границах которых он разворачивал свою поэтическую мысль. Простейшее сравнение текстов двух балкарских художников в этом смысле вполне иллюстративно:
Къул – къалтырай эшикде,
Хыбырт тону – тешикли.
//--//
Таш юйюнде от этмей,
Ашаргъа ашы жетмей.
//--//
Ишлейд, белин тюзетмей,
Къыйынлыкъ андан кетмей [Мечиев 1989: 136].
//--//
Слуга – дрожит на улице,
Его сыромятный полушубок дыряв.
//--//
В каменном доме не разведён огонь,
Еды у него не хватает.
//--//
Работает, не разгибая спины (поясницы),
Бедность от него не уходит [перевод Бауаев К.К.].
Это строки Кязима Мечиева, из стихотворения «Къар жауады» (Снег идет), созданные им в 1886 г. В том же апперцептивном ключе написано одно из дореволюционных стихотворений Саида Шахмурзавева:
...Патронла ишлеучю эдим
Казармада олтуруб,
Тенглериме къараучедим
Кёзлерими толтуруб.
--//--
Пелиуан кеме келеди
Толкъун сууда къан отха,
Насыблы бала мен болсам,
Тюшмез эдим солдатха... [Шахмурзаев 1957: 19].
--//--/
... Я делал, бывало, патроны,
Сидя в казарме.
Смотрел на своих товарищей,
Наполнив глаза (слезами).
--//--
Сильный корабль подходит
В волнистой воде к кровавому огню,
Если бы я был удачлив (счастлив)
Не попал бы я в солдаты... [перевод Бауаев К.К.].
Несмотря на то, что эти тексты разделяют два десятилетия, в классификационно-хронологическом плане они принадлежат одному эволюционному периоду развития балкарской национальной поэзии, и закономерно отмечены единством образной системы, рефлекторных алгоритмов и моделей представления. Даже резюмирующий вывод каждого из отрывков представляет из себя понятийный вывод, данный на фоне автологических определений и конкретных описаний объектов. У Мечиева предваряющим антуражем являются дырявый сыромятный полушубок, потухший очаг, нехватка еды, работа на износ, а итоговая часть воплощена в «от него не уходящей бедности» – с показательным рационально-понятийным объектом «бедность» в качестве организующий единицы концевого образа из, как минимум, двух строф. Аналогичную картину наблюдаем во фрагменте, принадлежащем перу Шахмурзаева – изготовление патронов, казарма, глаза, полные слез, волны и горящая вода. Ударная точка эпизода – сослагательное «не попал бы я» вкупе с красноречивой в своей иллюзорности «удачей».
Речь шла о формировании авторской литературы балкарского народа, и в этом смысле, Кязим Мечиев действительно предстает перед нами первым балкарским автором, работавшим в сфере светской литературы и признаваемым таковым своими компатриотами. Авторитет Мечиева был столь высок, что он полностью вытеснил из народной памяти всех предыдущих стихотворцев, таких как Абайханов (по причине исключительного интереса к религиозной тематике), других легендарных певцов XVI-XVII веков: Хуболова, Мокаева, Жаникаева, Шаваева – в силу единообразия и унифицированности их творчества, не выходившего за рамки словесной традиции и фольклорной техники. Несмотря на существенные отличительные и уникальные черты поэтики первых балкарских поэтов, они объединены, как уже отмечалось, неким стилевым единством, позволяющим говорить о становлении монолитного потока балкарской литературы.
Однако история распорядилась иначе: после 1917 года поле духовности и ментальности этноса, его традиционная культура и цивилизационные навыки подверглись сильнейшему воздействию как со стороны русского социума, так и со стороны идеологических структур вновь образованного государства. В информационном плане произошла радикальная смена объектного окружения национальных авторов, их аксиологических установок и мотивации творчества.
Об авторах
Казим Каллетович Бауаев
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербеко-ва
Автор, ответственный за переписку.
Email: kazim_bauaev@mail.ru
Список литературы
- Бауаев К.К. Критерии «новописменности» и авторское самосознание // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2. – С. 237.
- Боров А.Х. Северный Кавказ в российском цивилизационном процессе (проблемы социально-культурного синтеза). – Нальчик: КБГУ, 2007. – 297 с.
- Гачев Г.Д. Неминуемое. Ускоренное развитие литературы. – М.: Худо-жественная литература, 1989. – 439 с.
- Дзагов Р.Н. Модернизационные процессы в Кабарде и Балкарии в конце XIX – начале XX века: факторы воздействия и тенденции развития // Исторический вестник. Вып. IX. – Нальчик: КБИГИ. 2010. – С. 257-270.
- Коков Дж. Н., Шахмурзаев С.О. Балкарский топоними-ческий словарь. – Нальчик: Эльбрус, 1970. – 170 с.
- Мечиев К.Б. Стихи и поэмы. – Нальчик: Эльбрус, 1987. – 100 с.
- Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. – М.: Восточная литература, 1994. – 654 с.
- Рашид Ад-Дин Ватват. Сады волшебства в тонкостях поэзии. – М.: Наука. 1985. – 149 с.
- Теппеев А.М., Биттирова Т.Ш. Шахмурзаев С.О. // Писа-тели Кабардино-Балкарии XIX – конец 80-х гг. XX вв. Биобиблиографический словарь. –Нальчик: КБИГИ, Эль-Фа. 2003. – С. 397–400.
- Узденова Ф.Т. Мечиев Кязим Беккиевич // Писатели Кабардино-Балкарии XIX - конец 80-х гг. XX вв. Биобиблиографический словарь. – Нальчик. КБИГИ, Эль-Фа. 2003. – С. 281–285.
- Шахмурзаев С.О. Я Сырыйна (Свирельна балк. яз.). – Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное изд-во, 1957. – 228 с.
Дополнительные файлы