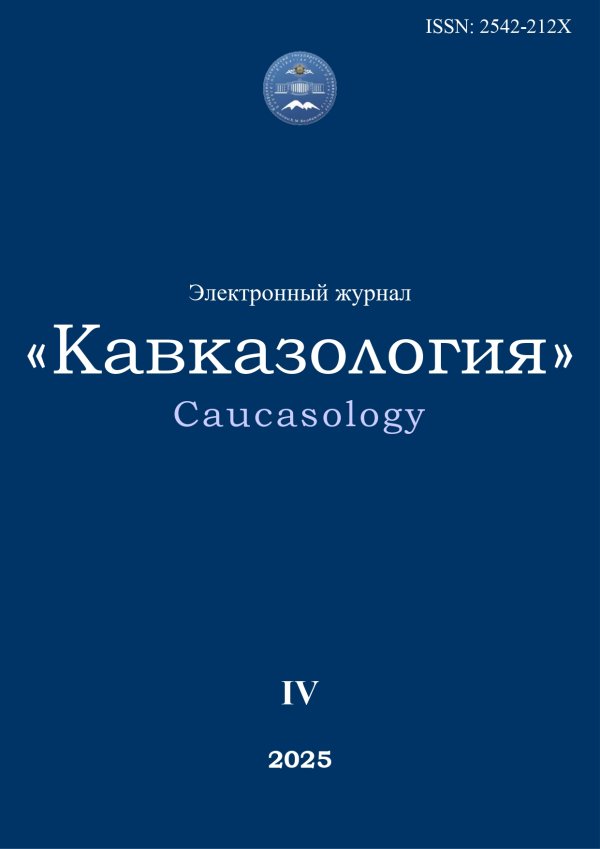«Функциональный статус лексем с аффиксами -у//-уэ//-эу в кабардино-черкесском языке».
- Авторы: Хашхожева З.Т.1
-
Учреждения:
- Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
- Выпуск: № 2 (2025)
- Страницы: 266-277
- Раздел: Языки народов Российской Федерации (языки народов Северного Кавказа)
- Статья получена: 05.07.2025
- Статья опубликована: 15.12.2025
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/299319
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2025-2-266-277
- EDN: https://elibrary.ru/YGKTIM
- ID: 299319
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена одной из актуальных проблем адыгского языкознания, вызывающей научные споры до настоящего времени - определению функционального статуса и уточнению генезиса кабардино-черкесских образований на -у//-уэ//-эу. В кабардино-черкесском языке в силу своей полифункциональности словоформы с участием аффикса -у//-уэ//-эу с грамматической точки зрения могут относиться к различным классам слов.Исследователи адыгских языков высказывались различно относительно функциональной нагрузки и генезиса форманта -у//-уэ//-эу.В статье на основе анализа языкового материала аргументировано показывается, что в кабардино-черкесском языке аффикс -у//-уэ//-эу следует признать словообразовательным, формообразующим и словоизменительным элементом, вносящим в предложение широкий спектр значений. Наряду с рассмотрением его словообразовательных, формообразующих и словоизменительных функций в работе представлена история изучения вопроса и генезиса форманта -у//-уэ//-эу с изложением различных взглядов исследователей-адыговедов на данную проблему.
Полный текст
Известно, что в истории адыгского языкознания ученые пытались определить генезис и грамматический статус форманта -у//-уэ//-эу. Однако среди специалистов до сих пор нет полного единства в понимании сущности форм на – у//-уэ//-эу.
Элемент -у//-уэ//-эу в кабардино-черкесском языке обладает полифункциональностью: грамматически словоформы, содержащие этот аффикс, могут принадлежать к различным классам слов. Трудности вопроса обусловлены не только полифункциональностью описываемого форманта -у//-уэ//-эу, но и отсутствием общей теории падежа в теоретическом языкознании.
Обращаясь к основным этапам изучения элемента -у//-уэ//-эу в языке, можно утверждать, что многие вопросы как синхронного, так и диахронного анализа не получили освещения.
Ш.Б. Ногма в работе «Начальные правила кабардинской грамматики» первым обратил внимание на форму имени с -у(э). Но, учитывая лишь только семантику слова, взятого в отрыве от формы, он -у(э) включил в парадигму именного склонения как один из вариантов «творительного падежа» [Ногма 1959: 61].
Вместе с тем, следует отметить, что Ш.Б. Ногма выделил элемент у/уэ в качестве основного способа образования деепричастия в адыгских языках: дэIэпыкъурэпэт, дэIэпыкъууэ, дэIэпыкъууэрэ – «помогая» [Ногма 1959: 85]
Л. Люлье относил, форму на -уэ//-у к наречиям. Он оставил вне поля зрения обстоятельственный падеж [Люлье 1846: 12].
Л.Г. Лопатинский считал, что -уэ//-у функционально соответствует русскому творительному предикативному, и наречия образуются посредством суффикса го, означающего понятия «как будто», «подобно» и происшедшего от архаичной формы горэ [Лопатинский 1891: 37].
Н.Ф. Яковлев в своих исследованиях анализировал некоторые словоизменительные и словообразовательные функции суффикса -у//-уэ//-эу, подчеркивая, что его падежная функция преобладает над другими значениями и, следовательно, больше соответствует именной словоформе с аффиксом -у//-уэ//-эу [Яковлев 1948: 313].
Г.Ф. Турчанинов и М. Цагов также указывали на словообразовательный потенциал элемента -уэ//-у, отмечая, что словоформы с значением уподобительности и превратительности образуются с помощью этого элемента [Турчанинов, Цагов 1940: 59].
Х.У. Эльбердов отрицал словообразовательные функции данного элемента в именах, рассматривая его только в целях словоизменения, т.е. как показателя обстоятельственного падежа. Здесь Эльбердов ссылается на грузинский язык, где, по его мнению, аффикс обстоятельственного падежа д//ад также используется в целях формоизменения [Эльбердов 1963: 61].
А.К. Шагиров, возражая в данном вопросе Х.У. Эльбердову, исключил форму –эу, -у(э) из системы склонения. По его мнению, рассматриваемая форма представляет собой отыменный статический глагол с инфинитным значением. С его помощью в адыгских языках формируются наречия и деепричастия, а также способ «согласования» имени с суффиксом -у//-уэ//-эу с другим именем, т.е. падежное оформление определяемого и определяющего, «не характерное» для адыгских языков, и расположения компонентов атрибутивного сочетания (пыIэр фIыцIэу схуащIащ / фIыцIэу схуащIащ пыIэр «шапку сделали мне черной»). Исходя из этого, делается определенный вывод: адыгское имя с суффиксом -у//-уэ//-эу не форма падежа, а предикативная форма» [Шагиров 1961: 46-72].
«На наш взгляд, – пишет А.К. Шагиров, – здесь мы имеем дело не с именной формой, а с глагольной – с формой отыменного статического глагола. Это такой же статический глагол, каким является, скажем, цIыхущ «человек есть», но статический не финитной (определенной, законченной) формы, а инфинитной (неопределенной, незаконченной)» [Шагиров 1953: 80].
Относительно способности аффикса -у//-уэ//-эу выражать значения выделения, А. Шагиров отмечает, что в предложениях типа Чырбышыр унэу ящI «Кирпич превращают (в) дом» выделение достигается семантикой лишь самого предмета [Шагиров 1961: 57].
Выражение превращения предмета считается одним из основных функций формы на -у//-уэ//-эу при глаголах, близких по значению к превратительности. Также выражение профессии, должности входит в функциональную нагрузку обстоятельственного падежа. По мнению А. Шагирова, суффикс -уэ//-у выражает профессию или должность лишь постольку, поскольку оформляемое им имя представляет собой название профессии или должности. Следовательно, профессия или должность выражается не при помощи суффикса –уэ//-у, а именем [Шагиров 1961: 57].
Б.Х. Балкаров, который рассматривал функцию суффикса -уэ//-у в историко-сравнительном плане, стоял на точке зрения, что тождественность между словообразовательным -уэ//-у формантом обстоятельственного падежа –уэ//-у материально в плане диахроническом налицо [Балкаров 1950: 106].
Также в адыговедческой литературе нет единого мнения по вопросу генезиса -у//-уэ//-эу. О происхождении форманта имеется много объяснений и предположений. Основным вопросом здесь становится взаимоотношение аффикса -у//-уэ//-эу и –гуэ, т.е. вопрос о первичности и вторичности рассматриваемых формантов – какой производный, или что к чему восходит.
Аффикс –у//-уэ в адыгском языкознании в свою очередь увязывается с суффиксом –гуэ.
Л.Г. Лопатинский считал, что «формант -у(э) в кабардинском языке восходит к неопределенному местоимению гуэрэ «кто-то, что-то», а –у считает лишь особенностью закубанских кабардинцев. Он исходил из формы -гуэ — фонетического варианта исследуемого форманта. Становление рассматриваемого аффикса представляется Л. Лопатинским в следующем виде: гуэрэ – гуэ – у(э), тем самым считая его исходной, более архаичной формой [Лопатинский 1891: 35].
Напротив, Кумахов М.А. считает, что нет никаких оснований для возведения форманта -у(э) к местоимению гуэрэ «кто-то, что-то» и недостаточно обоснованным сопоставление рассматриваемого падежного форманта с элементом у- в бжедугских словах удэ, удыджэ «туда», удырэр «(тот) другой», ур «тот». Более убедительным он считает подход Г.В. Рогава, т.е. сближение адыгского форматива -(э)у, -у(э) с абхазским формативом -уа в деепричастных формах типа дыца-уа «он идя» [Рогава 1956: 53].
М.А. Кумахов поддерживал генетическую связь адыгского -(э) у, -у(э) с абхазским -уа в плане фонетическом и функциональном, ссылаясь на то, что посредством разбираемого элемента в адыгских языках, как и в абхазском, образуются деепричастия. Ср. каб. кIуэ-уэ «(он) идя» [Кумахов 1989: 271].
Большинство ученых-адыговедов разделяют точку зрения Лопатинского, согласно которой аффикс –гуэ авляется первичным, т.е. более архаичным вариантом [Турчанинов, Цагов 1940: 149; Эльбердов 1959; Гяургиев 1963; Урусов 1980].
Г.В. Рогава рассматривал элемент -гуэ как новообразование, а суффикс –уэ его исходной формой [Рогава 1956: 101].
В работе Б.Х. Балкарова «Значение и употребление -уэ//-у в кабардинском языке» отмечается, что -уэ//-у ← гуэ и что первоначальное назначение –гуэ – формоизменяющая роль, и только позже - гуэ стал функционировать как словообразовательный суффикс [Балкаров 1950: 108].
В связи с изложенным выше ставится вопрос о первичности и вторичности исследуемого форманта.
Мы выражаем свою точку зрения, не претендуя на исчерпывающее решение вопроса. Адыгские языки не обладают долгой письменной традицией, что затрудняет формулирование определенных суждений относительно исторических процессов в языке. Тем не менее, факт зафиксированных образований на -гуэ в трудах И.А. Гюльденштедта, Ш.Б. Ногма, К. Атажукина, Л.Г. Лопатинского и других исследователей позволяет предположить, что словообразовательная функция -гуэ представляет собой реликт в современном кабардино-черкесском языке. Отсутствие этого элемента в адыгейском языке указывает на то, что он не существовал в период общеадыгского языкового единства. Так же вероятно, что форма на -гуэ могла появиться как новообразование в кабардино-черкесском языке после распада этого единства [Хашхожева 2007: 279].
Что касается вопроса о первичной функции форманта -у//-уэ//-эу, следует полагать, что он исторически глагольный, а не именной. Об этом свидетельствует функционирование -у//-уэ//-эу в формах абсолютива: щысу матхэ «сидя пишет».
Транспозиция образований на -у//-уэ//-эу в слова других частей речи представляется следующим образом: сначала подверглись функционально-семантической адвербиализации – дахэу матхэ «красиво пишет», лишь потом стал функционировать в именах существительных – дохутыру йоджэ «учится на доктора».
Кратко излагая разные мнения исследователей об элементе -уэ//-у//-эу, можно их обобщить следующим образом: Элемент -у//-уэ//-эу рассматривается как словообразовательный, а не формоизменяющий (Л.Г. Лопатинский, Л. Люлье, А.К. Шагиров); Элемент -у//-уэ//-эу интерпретируется как формоизменяющий, а не словообразовательный (Х.У. Эльбердов); Элемент -у//-уэ//-эу рассматривается, как и словообразовательный, и формоизменяющий (Г.В. Рогова, Н.Ф. Яковлев, Б.Х. Балкаров, Д. Ашхамаф и др.).
В рамках данного дискуссионного вопроса нам кажется более обоснованной и объективной позиция третьей группы ученых.
В кабардинском языке аффикс -у//-уэ существует в системе словообразования, где он служит для образования наречия. Посредством этого высокопродуктивного суффикса образуются определительные наречия от именных основ: кIэщIу «коротко», куэду «много», къабзэу «чисто». Отличительной характеристикой наречий от прилагательных является их изменения по степеням сравнения, как и прилагательные: нэхъ кIэщIу пыупщIын «отрезать короче», нэхъ куэду къэщэхун «покупать больше», нэхъ къабзэу жьыщIын «стирать чище». Существуют наречия, образованные от слоевых числительных с помощью суффикса -у//-уэ: тIуащIэу «в два слоя», плIащIэу «в четыре слоя».
Также довольно широко используют наречия, образованные удвоением основ качественных прилагательных, местоимений и существительных: тIэкIу-тIэкIуу «понемногу», дахэ-дахэу «по-хорошему», хуабжь-хуабжьу «быстро», уэр-уэру «ты сам», езыр-езыру «он сам».
Суффикс –у//-уэ образует не только наречие, но и деепричастие, которое совмещает в себе признаки глагола и наречия. Словообразовательный суффикс присоединяется непосредственно к основе глагола: лажьэу «работая», щысу «сидя», псалъэу «разговаривая». К формам на –у//-уэ близка деепричастная форма на –урэ//-уэрэ.: жиIэурэ «говоря», игъэщIагъуэурэ «удивляясь».
Элемент -рэ вносит в деепричастие значение темпоральности действия, т.е. длитальности, повторяемости добавочного действия: И пхъум жриIэурэ и нысэм иреIуэкI (Псалъэжь) «Говоря дочери, намекает снохе».
Отыменные образования на –эу, -у(э) способны выступить как инфинитные формы статического глагола.
Словоформы, включающие суффиксы -эу, -у/(э), с грамматической точки зрения относятся к разным парадигматическим классам слов. Ср., например, омонимичные образования в кабардинском языке: Ар егъэджакIуэу мэлажьэ «Он работает учителем» - Ар егъэджакIуэу пIэрэ? «Учитель ли он?».
В первой конструкции образование егъэджакIуэу «учитель» является падежной (именной) формой, во второй конструкции образование егъэджакIуэу «учитель» представляет собой форму статического глагола 3-го лица. Хотя разбираемые формы рассматриваются как идентичные образования, между ними имеются существенные различия. В данном случае в 3-м лице статического глагола субъект выражен нулевой морфемой, что и приводит к нейтрализации именных и глагольных форм.
Имеются, однако, более трудные случаи разграничения форм имени и глагола. Так, конструкции егъэджакIуэу сыщытащ «я был учителем», сыегъэджакIуэу щытащ «я был учителем» существенно различаются грамматически. Конструкция егъэджакIуэу сыщытащ состоит из дополнения и сказуемого, а сыегъэджакIуэу щытащ состоит из полнозначного слова и вспомогательного глагола.
Нельзя считать случайным образование с помощью суффикса -у//-уэ деепричастий в системе глагола и наречий в системе прилагательного. Наречие и деепричастие имеют общие черты не только с формальной стороны, но и в их роли в предложении.
Даже в специальной литературе по кабардинскому языку рассматривают деепричастие и наречие как одну грамматическую категорию [Турчанинов, Цагов 1940: 153].
Бесспорно, что они имеют много общих черт, и в языке существует группа наречий соотносительных с деепричастием. Они отличаются от деепричастий семантически и не имеют такие грамматические категории глагола, как лицо, число и др.
Деепричастные формы, подвергаясь адвербиализации, утрачивают способность согласоваться с субъектом в лице и числе: Сэ хэкIуэтауэ сыкъэсыжащ. – «Я вернулся поздно».
Следует особо остановиться на способе образования обстоятельственного падежа причастий. Причастия образуют форму обстоятельственного падежа с помощью форманта –у//-уэ: къафэу «танцуя» от причастия къафэр «танцующий», псалъэу «разговаривая» от причастия псалъэр «разговаривающий».
С помощью форматива –у//-уэ образуются не только обстоятельственный падеж причастия в синтаксической позиции определения, но и другие формы глагола, по форме очень близкие к деепричастию.
По мнению Х.Ш. Урусова, деепричастие или деепричастный оборот выполняют функцию определения: Сэ сыхуейщ джатэ, мыкIыхьу, мыкIэщIу, бий жыжьэр къыщышынэу, бий гъунэгъур хигъащIэу (Н.). «Мне нужен меч, не длинный, не короткий, поражающий близкого врага, (меч), которого боится далекий враг». [Урыс 1994: 102].
Как уже отмечалось, наличие в языке таких синтаксических конструкций-омонимов усложняет определение их статуса.
Считаем, что наиболее надежным способом их дифференциации здесь является синтаксический критерий.
Подобные конструкции вполне употребительны в устной речи и художественной литературе, например: Дунейм зы лэжьыгъи щыIэкъым щыщIэныгъэ гуэрхэр хэмылъу (М.Б.). «Нет в природе работы без какого-либо изъяна (по форме: какого-либо изъяна не имея; по содержанию: какого-либо изъяна не имеющей)». Выделенные словоформы с элементом -у выполняющие функцию определения в данном предложении, формально напоминают деепричастия. Однако их синтаксическая роль не соответствует синтаксическим функциям, характерным для деепричастий. Таким образом словоформы рассматриваемого типа не следует считать деепричастиями, они представляют собой причастия или причастный оборот в обстоятельственном падеже [Хашхожева 2010: 247].
Собственно такие примеры подразумевает профессор А.М. Камбачоков при определении способов выражения распространенных определений: «Распространенное определение в кабардино-черкесском языке выражено… синтаксической конструкцией, являющейся по содержанию причастным, по форме – деепричастным оборотом» [Камбачоков 2016: 55].
Как уже отмечалось, наличие в языке подобных синтаксических конструкций ограничивает дефиницию каждого из вариантов. Если описываемые конструкции соотносятся с глаголом-сказуемым, они в предложении функционируют как обстоятельства: Ахьмэд жьы хъужат, фIыуэ илъагъуу и лъагъуныгъэм ифI зримыгъэкIыжа цIыхубзым щIэгупсысу, щIэбэгыу (А.Л.). «Молодые годы Ахмеда прошли, думая о своей возлюбленной и скучая по ней». В то время как в предложениях, где они соотносятся с именами, они выступают в роли определений, выраженными причастным оборотом, как, например: ГъуэлъыпIэ лъагэ гуэрхэри, я натIэхэр кIэн-кIэну зэхэлъу, жьантIэм дэтт (Къ.Хь.). «И какие-то высокие кровати, с узорчатыми спинками, стояли в глубине комнаты».
Не менее дискуссионной и сложной является проблема выполнения деепричастием или деепричастным оборотом функций дополнения в кабардино-черкесском языке. С точки зрения Х. Ш. Урусова, анализируемые типы синтаксических оборотов не следует считать деепричастными, а «словосочетаниями, в которых главным компонентом является глагол с суффиксом -у/-уэ». По словам ученого, «предложение с такой конструкцией является косвенной речью» [Урусов 1994: 44].
В данном положении не вызывает возражений тезис о том, что предложения рассматриваемого типа представляют собой косвенную речь, переделанную из прямой речи.
Однако в языке наличествуют конструкции, не имеющие форму косвенной речи, и где дополнение представлено синтаксическим оборотом, не отличающимся от деепричастного оборота: Къысхуэщ1эжкъым абы нэхърэ нэхъ гуф1эгъуэ згъэунэхуауэ (М.Б.). «Не помнится, что когда-нибудь испытала такой радости».
В грамматике «Кабардино-черкесский язык» указано, что синтаксическую позицию дополнения в кабардино-черкесском языке занимает деепричастный оборот: Игу апхуэдэу зыхуэхъуа бзылъхугъэ и пэкIэ къихуауэ ищIэжыркъым Ерстэм (КI.Т.) «Ерстем не помнит, чтобы он раньше встретил такую девушку, которая так взволновала его сердце» [Кабардино-черкесский язык 2006: 433].
Синтаксические обороты, выступающие в роли дополнения в анализируемых конструкциях, по мысли Х.У. Эльбердова, являются не деепричастными, стержневое слово в них не деепричастие, а отглагольное имя. Оно обозначает предмет посредством действия, которое формируется аффиксом -уэ//-у и напоминает по форме деепричастия. По справедливому замечанию Х.У. Эльбердова, дополнение в данном предложении выражено именем отглагольным, а не деепричастием [Эльбердов 1959: 85-86].
Таким образом, деепричастия и его обороты в языке не могут выступать в роли дополнения, а словоформы на –у//-уэ, внешне напоминающие деепричастие в роли дополнения в предложении, являются отглагольными именами существительными с предметным значением в форме обстоятельственного падежа.
В кабардино-черкесском языке посредством форматива -у//-уэ//-эу образуются обстоятельственный падеж. Обстоятельственный падеж выражает:
- Должность, профессию: Линэ дохутыру мэлажьэ «Лина работает врачом»; Мурат сымаджэщым и унафэщIу ягъэуващ «Мурата назначили заведующим отделением больницы».
- Уподобительность: Сабийр мазэ нуру маблэ «Ребенок светит словно луна».
- Относительное имя при причастиях и причастных оборотах: Унагъуэм цIыхуу исым щIэныгъэ ищхьэ яIэщ «Все члены семьи имеют высшее образование».
- Превращение во что-либо: ГъущIыр куэбжэу ягъэващ «Калитку изготовили из металла» [Кабардино-черкесский язык 2006: 97].
Аффикс обстоятельственного падежа имеет фонетические варианты, выбор из которых зависит от фонетического строения основы. В односложных основах с конечным гласным используется вариант –уэ: цIэуэ «как имя», фэуэ «как кожа, в качестве кожи». Вариантом –у оформляются многосложные основы с конечными гласными э, ы и : дагъэу «как масло», шыпсыранэу «как крапива».
В кабардино-черкесском языке употребительны имена существительные в форме обстоятельственного падежа, которые отличаются от наречий только в лексико-семантическом плане. Ср: Бостейуэ здар «то, что я сшила как платье», дахэу здащ «я сшила красиво», гъуэншэджу здар «то, что я сшила как брюки», апхуэдэу дахэу здакъым «я не так красиво сшила».
В языке имеются имена существительные в роли определения, которые по своим лексико-семантическим признакам похожи на относительные прилагательные, но морфологически не отличаются от существительных. Такие существительные-определения оформляются аффиксом –у//уэ: дыщэу Iэлъын «кольцо золотое», мывэу унэ «дом каменный».
В языке широкое распространение получили сложные (аналитические), формы вакатива, например: Сосрыкъуэ-у си къан, Сосрыкъуэ-у си нэху, Сосрыкъуэ-у си мыгъуэ (Нартхэр) «Сосруко, воспитанник мой, Сосруко, свет мой, Сосруко, горе мое»; Уэ, си анэ-у, си анэ, Уэ си анэ дыщэ (Нартхэр) «Мать моя, моя мать, моя мать золотая».
Приведенные примеры демонстрируют, что вокатив включает две формы: форму на -у и форму с нулем. Характерно, что форма на -у в составе распространенного обращения всегда предшествует форме с нулем.
В устной поэзии в распространённом обращении встречаются формы на –урэ, функционально идентичные форме на -у(э). Ср.: Нартурэ лIыхъу нэху! (Адыгэ IуэрыIуатэхэр). «Мужественный нарт!»; Нарту ди ТIотIэрэш, дзэгъэшынэ шу закъуэ! (IуэрыIуатэхэр) «Нарт (наш) Тотраш, страшилище для войнов, одинокий всадник!»
Аналитические формы обращения с формой на –у(э) употребляются в художественных произведениях, созданных под влиянием устного поэтического творчества: Казибануэ бын пэлъытэ, унэщхъейщи жагъуэ сщохъур «Казибан, дитя мое, ты грустишь, и это меня огорчает»; Йэй ди Дахэнагъуэу дахащэ, насып дыгъэпсыр тхегъадзэ! «О, наша красивейшая Даханаго, освети нас лучами счастья!» (А.З.)
Итак, в кабардино-черкесском языке аффикс -у//-уэ//-эу может выступать:
– как формант обстоятельного падежа: тхылъу «книга», шэуэ «молоко»;
– как деепричастный суффикс: кIуауэ «пойдя», къывэмыплъу «не глядя на вас», еджэу «читая»;
Как суффикс наречия: дахэу «красиво», гуп-гупу «группами», езыр-езыру «самостоятельно»;
– в составе определительного сочетания – в качестве выделительного форманта, усиливающего признак определяемого компонента: ФIыцIэ-у кIэ езгъэдащ. «Черной юбку я сшила».
Присутствует в сказуемом:
– при глаголах жыIэн «говорить», тхын «писать» и др. или в сказуемом придаточного дополнительного: Ар къэкIуауэ зэхэсхащ «Я слышал, что он приехал»; ЕгъэджакIуэм жеIэж щеджа илъэсхэр хуабжьу хьэлъауэ. «Учитель рассказывает, что годы учебы были очень тяжелыми»;
– выступающем с частицей пIэрэ? «ли?»: Дохутырыр Линэу пIэрэ? «Не Лина ли доктор?»;
– с вспомогательными словами аращ «так и есть», къыщIэкIын «наверно» и др.: Фэ мыIэрысэр къыпычыжын фухауэ къыщIэкIынщ «Вы, видимо, закончили сбор яблок».
Завершая материал, посвященный определению грамматического потенциала и уточнению генезиса кабардино-черкесских образования на -у//-уэ//-эу в современном кабардино-черкесском языке, мы приходим к следующим выводам: В вопросе о грамматическом статусе образования на -у//-уэ//-эу в языках мы придерживаемся точки зрения, согласно которой аффикс -у//-уэ//-эу выполняет словообразовательные, формообразующие и словоизменительные функции.
Об авторах
Загират Талибовна Хашхожева
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Автор, ответственный за переписку.
Email: zagirat_inkaz@mail.ru
Список литературы
- Балкаров Б.Х. Значение и употребление аффикса у//уэ в кабардинском языке // Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института – Т. 5. – Нальчик: Кабардинское книжное издательство, 1950.
- Гяургиев Х.З. Наречие в кабардино-черкесском языке. – Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1963. – 132 с.
- Кабардино-черкесский язык. – Нальчик: Эль-Фа, 2006. – Т. 1. – 549 с.
- Камбачоков А.М., Хашхожева З.Т., Бетуганова Л.З. Морфологические особенности и синтаксические функции причастия, деепричастия и инфинитива в кабардино-черкесском языке. – Нальчик: Издательство Кабардино-Балкарского государственного университета, 2016. – 79 с.
- Кумахов М.А. Сравнительно-историческая грамматика адыгских (черкесских) языков. – М.: Наука, 1989. – 384 с.
- Лопатинский Л.Г. Краткая кабардинская грамматика // «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа». – XII. – Отд. II. – Тифлис, 1891. – 47 с.
- Люлье Л.Я. Словарь русско-черкесский или адигский с краткой грамматикой сего последнего языка, одобренный С.-Петербургской академией наук. – Одесса: Городская типография, 1846. – 26 с.
- Ногма Ш.Б. Филологические труды. Т. 1. – Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1959. – 200 с.
- Рогава Г.В. К вопросу о структуре именных основ и категории грамматических классов в адыгских (черкесских) языках. – Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1956. – 154 с.
- Турчанинов Г.Ф., Цагов М. Грамматика кабардинского языка. – М.: Издательство АН СССР, 1940. – 160 с.
- Урусов Х.Ш. Кабардинская грамматика. Синтаксис, пунктуация. – Нальчик: Эльбрус, 1994. – 212 с.
- Урусов Х.Ш. Морфемика адыгских языков. – Нальчик: Эльбрус, 1980. – 402 с.
- Хашхожева З.Т. Некоторые способы образования деепричастия в кабардино-черкесском языке // Известия российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Аспирантские тетради. – Санкт-Петербург: Издательство Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, 2007. – № 19 (45). – С. 278-284.
- Хашхожева З.Т. Синтаксис кабардино-черкесского деепричастия // Национальные образы мира в художественной культуре. Материалы международной научной конференции. – Нальчик: Издательство Кабардино-Балкарского государственного университета, 2010. – С. 243-248.
- Шагиров А.К. Сравнительная характеристика системы склонения в адыгских языках // Вопросы изучения иберийско-кавказских языков. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961 – 283 с.
- Шагиров А.К. О системе склонения в кабардинском языке // Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института– Т. 8. – Нальчик: Кабардинское книжное издательство, 1953. – С. 79-80.
- Эльбердов Х.У. Некоторые спорные вопросы грамматики кабардинского языка. – Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1959. – 138 с.
- Эльбердов Х.У. О частях речи в кабардинском языке // Вопросы описательных грамматик» языков Северного Кавказа и Дагестана. – Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное изд-во, 1963. – С. 60-63.
Дополнительные файлы