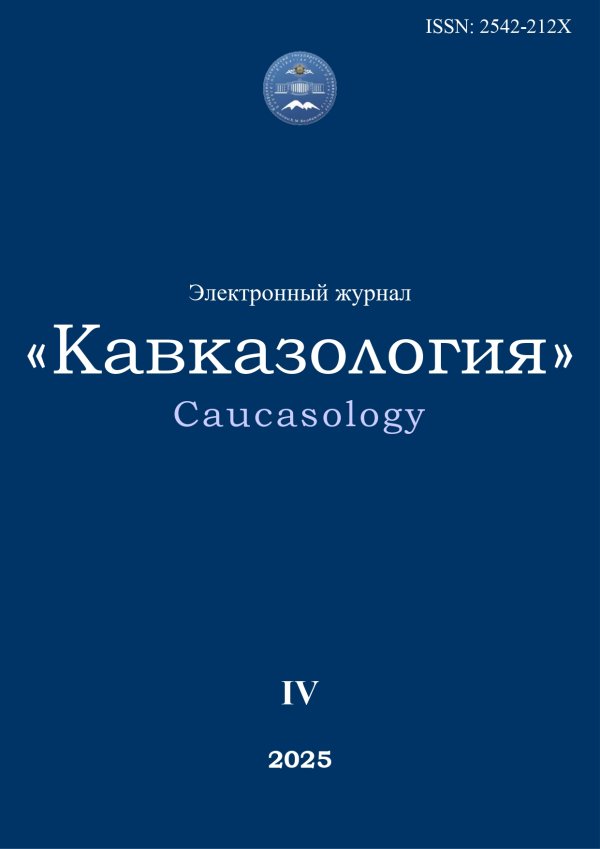Кабардинский полицейский (милицейский) детектив (на материале произведений Рашида Кешокова и Александра Сарахова)
- Авторы: Хашир К.О.1
-
Учреждения:
- Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
- Выпуск: № 3 (2025)
- Страницы: 366-376
- Раздел: Литература народов Российской Федерации (литература народов Северного Кавказа)
- Статья получена: 01.10.2025
- Статья опубликована: 15.12.2025
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/316379
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2025-3-366-376
- EDN: https://elibrary.ru/SRECQQ
- ID: 316379
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Детективный жанр в кабардинском литературоведении недостаточно изучен, что обусловливает актуальность представленного исследования. На материале произведений писателей и вместе с тем сотрудников правоохранительных органов Рашида Кешокова (1907–1975) и Александра Сарахова (1934–2022) рассмотрены особенности кабардинского полицейского (милицейского) детектива, названы характерные для данного жанра литературные приемы (главные герои – официальные представители органов правопорядка, работа ведется в команде, важно следовать процедурам и др.), отображена его связь с национальным менталитетом (описание обрядов и обычаев, характерные только для кавказского общества фигуры, внутренний кодекс чести следователей и др.). Оба автора показали, что детектив в кабардинской литературе может успешно сочетать увлекательный сюжет с серьезными темами, национальный колорит – с универсальными мотивами борьбы закона с преступлением.
Ключевые слова
Полный текст
Детективный жанр включает в себя долгую историю эволюции форматов и тем, его границы до сих пор расширяются. Считается, что основу для него заложил Эдгар Аллан По, в ХIХ в. явивший миру героя-сыщика Огюста Дюпена. В то же время, хотя он был первым автором, рискнувшим вступить на неизведанную территорию детективных рассказов, именно сэр Артур Конан Дойл сделал их чрезвычайно популярными.
Их герои – Огюст Дюпен и Шерлок Холмс – гениальны, несколько эксцентричны и единственные способны решить загадку, в отличие от более приземленных служителей закона. В целом, классический детектив славится героями-индивидуалистами, не имеющими прямого отношения к правоохранительным органам. В то же время еще одним пионером жанра был Уилки Коллинз, а в его романе «Лунный камень» сыщик Ричард Кафф выступает как официальный представитель полиции, и его можно назвать предшественником героев полицейского (милицейского) романа.
В ХХ в. полицейский (милицейский) роман, выводящий на первый план расследование преступлений представителями органов правопорядка и сочетающий в себе черты детектива и производственного романа, получил широкое распространение. В то же время нет единого мнения о месте данного жанра в криминальной литературе:
«Криминальные жанры давно уже являются популярным объектом исследования. Однако при том огромном количестве работ, которые им посвящены <…>, вопрос об их разграничении в рамках существующей жанровой системы остается пока открытым» [Кириленко, Федунина 2010: 17].
Литературоведы Н.Н. Кириленко и О.В. Федунина утверждают, что «несмотря на то, что детектив и полицейский роман являются основными жанрами криминальной литературы и в основе их обоих лежит сюжет расследования, их разграничение совершенно необходимо в силу того, что они имеют больше структурных и содержательных различий, чем сходства» [Кириленко, Федунина 2010: 29], и в данной работе мы выделим черты, позволяющие назвать кабардинские детективы именно полицейскими (милицейскими) романами.
В целом, исследователи сходятся во мнении, что полицейский (милицейский) роман – это подвид детектива, полагающийся на реалистичное и аутентичное представление органов правопорядка, их работы, а также жизни. Именно данный жанр представлен в кабардинской литературе, он связан с именами Рашида Пшемаховича Кешокова (1907–1975) и Александра Аюбовича Сарахова (1934–2022). Выбор данного типа детектива неслучаен, ведь оба писателя посвятили множество лет работе в следственных органах и использовали полученный опыт при написании произведений. Так, Рашид Пшемахович пишет:
«Обдумывая план будущей книги, я решил изменить лишь фамилии героев и названия населенных пунктов. В основу романа положены действительные события. Во всем же, что касается внутреннего мира персонажей, мотивов их поведения, я оставлял за собой право на вымысел» [Кешоков 1978: 4].
То же касается и работ Александра Аюбовича, на что указывает исследовательница кабардинской литературы И.А. Кажарова:
«Одна из черт, присущих детективам А. Сарахова – ориентированность на повествование о криминальных происшествиях, имевших место в реальности» [Кажарова 2019: 184].
Автор тяготеет к документализму, стремится к наиболее подлинному отображению действительности, во время описания судебных заседаний даже приводит и далее поясняет реальные статьи уголовного кодекса. Например, в рассказе «Сколько бы ниточка ни вилась…» прокурор, ожидающий вынесения приговора, использует время для беседы на правовые темы с присутствующими в судебном зале людьми:
«Статья 89, – говорил он, – устанавливает уголовную ответственность за хищение государственного или общественного имущества путем кражи. Особенностью кражи является ее тайный характер. Закон различает четыре вида кражи социалистической собственности…» [Сарахов 1985: 29].
Полицейский (милицейский) роман предполагает не только другой тип детектива, но и иную технику расследования, отличную от той, что была у детективов прошлых традиций. В отличие от классического детектива главным героем здесь выступает официальный представитель правопорядка, который полагается на ведомственные процедуры полиции (милиции), а также на собственный опыт, накопленный за годы службы. Так, Жунид Шукаев, главный герой романов Р. Кешокова «По следам карабаира» (1969), «Кольцо старого шейха» (1975) и «Двойной пароль» (написан в 1970, издан в 2014) начинает как двадцатипятилетний выпускник московской специальной школы милиции, но за годы работы успевает возмужать и обрести бесценный следовательский опыт. Преступники, пойманные Шукаевым в первой книге серии, во второй оказываются на свободе и вновь дают о себе знать, но выучивший их уловки следователь выводит злодеев на чистую воду. Кешоков сформировал единый детективный мир и выстроил сквозной сюжет: каждое новое дело героя тесно связано с прежними.
Образ Жунида Шукаева заслуживает особого внимания. Он профессиональный сыщик, сотрудник советской милиции, беспредельно преданный долгу, человек честный, смелый, находчивый и вместе с тем крайне скромный – своего рода народный герой на страже закона. Шукаев отлично знает местные реалии, пользуется уважением жителей Кавказа, переводит слова плохо говорящих на русском языке свидетелей и умеет учитывать национальные традиции в ходе расследования. В образе Шукаева отражен синтез профессиональной этики (верность присяге, принципиальность) и национального характера: герой воплощает лучшие черты кабардинского джигита – честь, отвагу, тягу к справедливости, направленные на благо общества. Кешоков через своего героя показывает, как традиционные нормы могут органично дополнять современную законность.
В то же время для произведений А. Сарахова не характерно наличие основного главного героя, кочующего из рассказа в рассказ, автор часто меняет героев-следователей, вводит множество новых имен (начальник уголовного розыска Жигунов, инспектор Пошолов, эксперт-криминалист Иругов и др.):
«Несомненно, многочисленность сыщиков оправдывается реальными особенностями организации работы правоохранительных органов. В этом контексте обращает на себя внимание еще одна причина ввода новых лиц – смена следователей» [Кажарова 2019: 188].
Ярким примером подобной смены следователей может послужить история Леонида Баркизова из повести «Карточный долг»: честный и принципиальный Баркизов не сумел закрыть глаза на деяния высокопоставленных браконьеров, за что и был уволен со службы. Его место занял Салих Таукенов, не ставший бороться за правду до конца. Осознание несправедливости тяготит читателей:
«Баркизову было тягостно на душе. Он никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как сейчас. Кучка проходимцев праздновала свою победу. Это сильнее угнетало. Сколько несправедливости еще! Где же она, правда?» [Сарахов 1990: 88].
А. Сарахов высвечивает и темные стороны правоохранительных органов, показывает «правду жизни»: «Справедливость скрывалась в тумане местничества, куначества и круговой поруки» [Сарахов 1990: 88]. Только в самом конце повести, в последних строках мы узнаем о том, что Баркизову все же удалось вернуться на службу благодаря политическим изменениям в стране.
В романах Рашида Кешокова мы также можем столкнуться с нелестным изображением некоторых сотрудников правоохранительных органов, оба автора не боятся показать полицейские (милицейские) изъяны. Так, один из первых героев, с которыми мы знакомимся в романе «По следам карабаира», – это непосредственный начальник Жунида Шукаева – коррумпированный Тигран Ивасьян, промышляющий контрабандой, помогающий мошенникам и бандитам. Выясняется, что даже высшие чины в органах, созданных для сохранения порядка, нарушают закон, бывают мелочны, трусливы, завистливы, и в целом не походят на героев и защитников людей. Как верно отмечает А. Сарахов:
«Совесть не продается и не покупается, граждане браконьеры, – сказал внушительным тоном лейтенант Вячеслав Попов. – Потерявший совесть в милиции служить не может. Это уже не человек» [Сарахов 1990: 55–56].
Однако Кешоковым показан и пример того, как можно быть на грани правонарушения, выбирать между выгодой и совестью, но суметь сделать верные выводы, справиться с искушением и стать сильнее: так, следователь Вадим Дараев из своего тщеславия и близости к Ивасьяну решает, что можно оставить дело Афипского грабежа без дополнительного расследования с риском посадить невиновных, но в конце концов осознает свои ошибки и исправляет их:
«Как получилось, – стучало у него в висках, – что я, Вадим Дараев, которому несколько лет назад многие пророчили блестящую будущность, вдруг оказался на одной доске с ограниченным и завистливым Ивасьяном? Почему мне в какое-то время показалось, что нужно быть именно таким, как он?» [Кешоков 2019: 106–107].
Более того, впоследствии Дараев становится близким другом Жунида Шукаева:
«С Вадимом Акимовичем они сблизились за последнее время. И главную роль в этом сыграл не Жунид, который не слишком-то легко сходился с людьми, а сам Дараев. Он сильно изменился. <…> Как-то они разговорились. О прошлом, о себе, о своих семьях. Жунид умел слушать, а Дараев любил говорить. Словом, они почти подружились. Теперь им предстояло вместе работать» [Кешоков 2019: 118].
В то время как классические детективы-любители полагаются в основном на логику, рационализацию и научные объяснения, полицейские (милицейские) обязаны также следовать определенным процедурам. Данный момент предполагает, что детективы в полицейском (милицейском) романе почти всегда расследуют преступления в команде, и даже если главный герой присутствует, он никогда не раскрывает преступления единолично. Так, Шукаев работает не один, а с коллегами, такими как Вадим Дараев и Арсен Сутуров. Также слаженно работают герои и в произведениях Сарахова:
«Следователь Баркизов, не теряя времени, приступил к организации осмотра места происшествия, пригласив двоих понятых из числа собравшихся соседей. Криминалист Иругов высвечивал, высматривал местность, искал следы, щелкал фотоаппаратом, мигая фотовспышкой. Жигунов расспросил домочадцев о количестве нападавших и мысленно прикинул план розыска преступников» [Сарахов 1990: 4].
«Жигунов и Пошолов, давно привыкшие с полуслова понимать задание, сразу горячо принялись за дело. В пути они советовались, спорили, строили планы» [Сарахов 1990: 9].
Можно отметить, что кабардинский детектив тяготеет к реализму: преступления берутся из реальной жизни, расследования описаны достоверно, а концовки не всегда бывают благополучными, если того требует «правда жизни». В то же время сохраняется и воспитательная функция, важная для советской и национальной литературы: каждое произведение несет мысль о противостоянии добра и зла, о необходимости верности долгу. В произведениях А. Сарахова можно увидеть рассуждения о том, как губительно бывает пренебрежение моралью, и особенно символично название его сборника «Расплата»:
«В жизни так устроено, что за все надо платить. Но плата бывает самой разнообразной. Встречается, например, плата карточного долга. Дико звучит, но встречается такое еще кое-где. Встречается только среди пьяниц, тунеядцев. Бывает плата и подороже – плата свободой, здоровьем, а нередко жизнью. Бессмысленная плата. Так расплачиваются люди за свои ошибки, за нежелание идти в ногу с другими, за конфликт с законом, неуважительное к нему отношение. Плата за бесцельную жизнь» [Сарахов 1990: 28].
Такая плата была отдана героем Сарахова Емзагом Кушназоковым. Емзаг – пьяница, учинивший разгром в семье, избивший жену, сжегший дом и в итоге умерший на больничной койке: «
Кушназоков расплачивается теперь за свои ошибки. Он даже исповедался передо мной, когда я посетил его в больнице... До неузнаваемости изменился этот человек. Кается, но уже поздно. Весь желтый, изможденный, хилый. Лежит одинокий, всеми покинутый. Тяжела его одинокая старость…» [Сарахов 1990: 29].
Следователь Баркизов дополняет:
«Да, за все надо платить. Он сам виноват во всем. Ничто даром не проходит. Жизнь не прощает такие ошибки». [Сарахов 1990: 30].
В то же время есть и другой пример раскаяния: Семен Дуденко – подросток, который еще в прологе романа «По следу карабаира» оказывается косвенно замешанным в краже, кается и благодаря помощи Шукаева, разглядевшего в нем внутреннюю доброту, выбирает верный путь и также начинает трудиться во благо народа. В следующих книгах помощь «рыжика», как его окрестил главный герой, бывает бесценна при поимке преступников. Автор показывает, как важна вовремя протянутая рука помощи, Жунид берет Семена под крыло, тем самым вдохновляет его на изменения:
«Народный суд учел данные Шукаева и поведение Семена, и Дуденко решено было не наказывать. Через несколько месяцев после суда, по ходатайству управления, в чем немалую роль сыграло вмешательство Жунида, «рыжика» зачислили курсантом в Военно-кавалерийскую школу» [Кешоков 2019: 107–108].
Часто герои кабардинского полицейского (милицейского) романа сами противопоставляют себя и свою работу расследованиям, что вели классические детективы. Они, как правило, подсвечивают то, как же книжные приключения отличаются от суровой и более приземленной реальности. Так, Шукаев рассуждает:
«Еще ему подумалось, что ни в одном детективном романе не описана, пожалуй, такая будничная, иногда довольно нудная и утомительная работа. Писателей, да и читателей, наверное, привлекает другое. Сногсшибательные повороты в расследовании, неожиданные и загадочные обстоятельства, дьявольская изобретательность преступников… Стрельба из-за угла, покушения на сыщиков, двойники, как две капли воды похожие один на другого, демонически прекрасные женщины с непроницаемыми взглядами и… мало ли еще что… А на самом деле бывает совсем другое. Работа, работа и работа. Часто – скучная, изматывающая тело и нервы» [Кешоков 2019: 171–172].
Сарахов также пишет именно реальные, жизненные истории о расследованиях правоохранительных органов, а его герои порой обсуждают то, как поступил бы известнейший книжный сыщик Шерлок Холмс:
«–…Все же давайте лучше анализировать. Шерлок Холмс отличался от других глубиной логического мышления. – Доктор Ватсон тоже неплохо мыслил логически, а преступление все-таки раскрывал Холмс» [Сарахов 1990: 6].
Зачастую еще одной чертой полицейского (милицейского) романа является внимание к личной жизни героев, которая, как правило, не складывается из-за тягот службы. Исключением не стал и Жунид Шукаев, имевший трудности с женой:
«И вот сегодня он вдруг понял, что все его мечты и планы, касающиеся Зулеты и их совместной жизни, построены на песке. Словно говорят они на разных языках, совершенно не понимая друг друга» [Кешоков 2019: 87].
Взаимоотношениям Жунида с женой Зулетой посвящено много строк, их история даже косвенно становится связанной с основным расследованием: Зулета оказывается втянута в интриги супругов Ивасьянов, а одного из мошенников, с которым у нее завязываются отношения, ловят прямо в их с мужем доме. Здесь также присутствует тема раскаяния и дальнейшего изменения: если ранее героиня не интересовалась учебой и тосковала без внимания мужа, отчего и решалась на легкомысленные поступки, то потом окончила медицинское училище, осознала свои ошибки и проявила себя не только как трудолюбивая работница, но и как замечательная мать.
Сарахов же в этом вопросе отходит от стандарта: про личную жизнь героев автор практически не пишет, в целом старается не уделять пристального внимания ничему, кроме самого преступления и его расследования. Даже если в текст вводятся историко-социальные эпизоды или культурные зарисовки, они не отвлекают от детективной линии:
«У А. Сарахова минимизировано все, что лежит за пределами расследования: подробности быта, деловой и личной жизни, показ внутреннего мира, характера. Наиболее явное отступление от этого принципа – в повести «Эбарг». После короткой экспозиции, в которой сообщается о преступлении и именах подозреваемых, следует глава с подробным, основанным на документальных свидетельствах повествованием о депортации ингушского и чеченского народов, что, в свою очередь, служит «предысторией» главного преступника, «абрека поневоле» Тархана Хангиева. И, тем не менее, все это не преобразует детективную линию в социально-политическую» [Кажарова 2019: 184].
В целом, подобные отличительные особенности работ Кешокова и Сарахова можно объяснить тем, что Кешоков писал в жанре чистого полицейского (милицейского) романа, а Сарахов включал в работы и черты полицейского процедурала. М.А. Жиркова в статье «Жанровые разновидности детектива (опыт словаря)» выделяет полицейский детектив и детектив полицейской процедуры:
«Полицейский [детектив] – детективное расследование ведет официальное лицо; может быть выделен один персонаж или команда профессионалов как часть государственного аппарата. Главный герой выведен как положительный персонаж, он честен, добросовестен и предан своему делу, ведет официальное расследование. Раскрытию его характера, способностей, даже личной жизни также уделяется большое внимание. Полицейской процедуры [детектив] – роман выводит на первый план повествования работу полиции как официального государственного органа правопорядка; показана повседневная работа по обнаружению и выслеживанию преступника; не выделен главный герой, полицейская служба освещается как работа команды профессионалов. В центре повествования – описание будничной работы полицейских детективов, методики расследования преступлений соответствуют реальной жизни: наличие информаторов, допрос свидетелей, работа криминалистической лаборатории и т. п.» [Жиркова 2010: 65].
Важно также отметить национальные черты кабардинского детектива, выделить его кавказский колорит. В текстах Кешокова описываются быт и нравы горцев, пути героев пролегают через аулы и горные перевалы. Автор часто описывает местные особенности и обычаи. Например:
«С давних времен у горцев Кавказа бытует любопытный обычай. Если джигит нанес себе увечье на скачках, невзначай вывалившись из седла, получил ранение в стычке с кровником или абреком, если просто одолела его какая-нибудь неприлипчивая болезнь, – соседи и другие аульчане устраивали ему вечер увеселения» [Кешоков 2019: 346].
У Сарахова связь с родной землей и традициями проявлена неявно, национальное прослеживается в деталях: персонажи могут рассуждать о горском этикете, народной мудрости, а в повести «Эбарг» автор описывает ингушский свадебный обряд. В мировоззрении его героев традиционные ценности (честь, чувство ответственности перед обществом) могут служить моральным фундаментом для службы закону. Например, принципиальность следователя Баркизова и его нежелание мириться со злом можно расценить как проявление внутреннего кодекса чести, во многом сходного с горским «хабзэ» или адатом, но реализованного на современной правовой почве.
Национальный характер героев кабардинских детективов порой проявляется в системе ценностей и устойчивости к нравственным испытаниям. Встречаются в текстах и «оборотни в погонах», но, как правило, герои-сыщики добросовестные, сдержанные, целеустремленные – именно такие черты присущи образу порядочного кавказского мужчины, перенесенному в профессию следователя.
Также в кабардинском детективе появляются фигуры, характерные именно для кавказского общества. Например, образ «абрека» – горца-разбойника – Тархана Хангиева у А. Сарахова и Хахана Зафесова у Р. Кешокова. Встречается и местный «джегуако» – сказитель:
«Глядя на его хитроватое, добродушное лицо с глубоко запавшими умными глазами, над которыми густо нависли кустистые седые брови, на узловатые, еще сильные руки, которые ни минуты не могли находиться без движений и жестов, он сразу угадал в старике довольно распространенный на Кавказе тип сказителя, чья память буквально набита побасенками и сказками» [Кешоков 2019: 159].
Итак, Рашид Кешоков и Александр Сарахов внесли неоценимый вклад в развитие детективного жанра на кабардинской почве. Кешоков проложил путь, совместив детективную интригу с национальными особенностями и утвердив образ честного и смелого героя-сыщика, близкого народу. Сарахов же развил жанр, двинувшись в сторону еще большей документальности, отразив в нем жизненные реалии, трудности и драматизм новейшей эпохи. Оба автора показали, что детектив в кабардинской литературе может успешно сочетать увлекательный сюжет с серьезными темами, национальный колорит – с универсальными мотивами борьбы закона с преступлением.
Однако, несмотря на большую популярность, детективный жанр в кабардинском литературоведении недостаточно изучен и не получил широкого развития. Возможно, необходимость в детективе, который часто связан с городской средой и современными формами преступности, была менее актуальной в условиях традиционного кабардинского общества. Также детектив воспринимался через призму стереотипов как низкий жанр, чуждый национальной литературе:
«Выходит, что непопулярность детектива в кабардинской литературе может объясняться тем, что в национальной культуре народов Северного Кавказа массовый уровень письменной художественности не проявлен, а это обстоятельство дополнительно усугубляется некоторыми стереотипами восприятия самого феномена массового искусства, не говоря уже о стереотипах восприятия детективного жанра» [Кажарова 2019: 182].
Мы согласны с Г. Честертоном, выступившим в защиту детектива, считающегося «плохим» и низким жанром:
«Когда сыщик в приключенческом полицейском романе с безрассудной отвагой заходит в воровской притон и противостоит в одиночку ножам и кулакам бандитов, это наверняка побуждает нас помнить, что оригинальная и поэтическая фигура — это блюститель социальной справедливости... <…> Романтика полицейской службы оборачивается, таким образом, романтикой всего человечества. Она основана на том факте, что нравственность представляет собой самый тайный и смелый из заговоров. Она напоминает нам: вся эта бесшумная и незаметная полицейская деятельность, что регулирует нашу жизнь и защищает нас, является всего лишь донкихотством, которому сопутствует успех» [Честертон 1990: 19].
Детектив занял достойное место в кабардинской культуре благодаря усилиям Рашида Кешокова и Александра Сарахова, которые были не только талантливыми писателями, но и отважными следователями, героями, не только словом, но и делом доказывавшими, как важен тернистый и непростой путь защиты людей и справедливости.
Об авторах
Кара Оскаровна Хашир
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Автор, ответственный за переписку.
Email: cara.khashir@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3426-9166
SPIN-код: 2540-4077
Список литературы
-
Жиркова М.А. Жанровые разновидности детектива (опыт словаря) // Art Logos. – 2018. – № 2 (4). – С. 58–69. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovye-raznovidnosti-detektiva-opyt-slovarya (дата обращения: 25.06.2025). Кажарова И.А. Детектив: к проблеме вариативности основного события и персонажей (на материале повестей А. Сарахова) // Электронный журнал «Кавказология». – 2019. – №2. – С. 176–192. doi: 10.31143/2542-212X-2019-2-176-192 Кешоков Р.П. По следам карабаира. Роман. – Москва: Современник, 1978. – 334 с. Кешоков Р.П. По следам карабаира: Роман. – Рязань: Издатель Митин А.С., 2019. – 400 с.: ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка). Кириленко Н.Н., Федунина О.В. Классический детектив и полицейский роман: к проблеме разграничения жанров // Новый филологический вестник. – 2010. – № 3 (14). – С. 17–32. URL: http://slovorggu.ru/nfv2010_3_14_pdf/02Kirilenko_Fedunina.pdf (дата обращения: 25.06.2025). Сарахов А.А. Сколько бы ниточка ни вилась... – Нальчик: Эльбрус, 1985. – 104 с. Сарахов А.А. Расплата: Повесть. – Нальчик: Эльбрус, 1990. – 136 с. Честертон Г.К. Как сделать детектив. / Пер. с англ. В. Воронина – М.: Радуга, 1990. – 320 с.
Дополнительные файлы