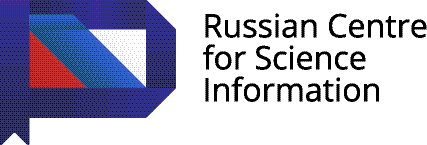Potential vectors of migration activity in the Central Caucasus in the second half of the XVIII-th century: ethnosocial aspect
- Authors: Kozhev Z.A.1
-
Affiliations:
- Institute for the Humanities Research – Affiliated Kabardian-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
- Issue: № 4
- Pages: 45-60
- Section: Medieval and Modern history
- Submitted: 12.01.2026
- Published: 31.12.2025
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/364858
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2025-4-45-60
- ID: 364858
Cite item
Full Text
Abstract
From the second half of the XVIII-th century, began a process of large-scale transformation of the common system of social relations in the Central Caucasus, which involved Kabarda and its immediate social environment. The reasons were both endogenous (the crisis of feudal public institutions in Kabarda, the antagonism between the interests of the Kabardian aristocracy and the highlanders of the Central Caucasus) and exogenous in nature – change in the foreign policy status of the region, strengthening of military-political pressure, administrative regulation by the Russian Empire. The result was the actualization of migration processes as a way of resolving crisis phenomena in the system of ethnosocial relations of a hierarchical nature that connected all population groups of the region. One of the vectors of migration activity was the desire of a part of the underprivileged classes of Kabarda to organize resettlement beyond the border of the Russian Empire institutionalized in 1777-1778. The spontaneous flight of representatives of the dependent classes of Kabarda to Russian territory became another form of migration activity that threatened the demographic and socio-political stability of the region. In the border areas of the Kabardian appanage principalities with the highlanders of the Central Caucasus, local migrations also occurred, leading to changes in ethnic boundaries and the formation of uninhabited exclusion zones. By the end of the XVIII-th century, the general crisis of ethnosocial relations in the Central Caucasus initiated the Sharia movement as a way to overcome the crisis phenomena and the beginning of the migration activity of Kabardians directed to the Eastern Trans-Kuban region.
Full Text
Введение
Вторая половина XVIII в. очень важный период для осмысления основных тенденций общественно-политической эволюции народов Центрального Кавказа, происходившей в ходе, а во многом и в результате инкорпорации региона в состав Российской империи. Это период, когда еще сохранялась автономность региона и традиционная система этносоциальных отношений, сложившаяся в нем в период позднего средневековья и раннего нового времени, административный контроль со стороны России лишь начал формироваться, а первые эксцессы военного противостояния не переросли в тотальную эскалацию Кавказской войны. В это время резко возрастает количество и качество актового материала, отложившегося в российских архивах, нарративных источников, имеющих характер живых свидетельств современников, которые детально описывают динамику многих исторических процессов на Центральном Кавказе [АБКИЕА 1974: 179-280; Штедер 2016; РГАДА. Ф. 23. Д. 5 («Переписка начальников на Моздокской линии»), Д.9 («Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф.И. Фабрициана. 1779 г.»; РГАДА Ф. 192. Оп. 1. Карты Кавказа и др.].
Одним из таких процессов является начало экспоненциального роста миграционной активности, которая кардинально изменила этнодемографическую и социально-политическую карту Северного Кавказа уже в первой половине XIX в. Выделение основных векторов миграционной активности населения Центрального Кавказа, причин этносоциального характера, детерминировавших их направление и интенсивность, является задачей данного исследования. Историография данного вопроса, демонстрирует отсутствие целостного подхода в его изучении. Социальные, демографические, этнические аспекты миграционной активности в Кабарде, горских обществах Центрального Кавказа традиционно рассматривались вне общего исторического контекста процессов общественной эволюции всего региона в ходе его инкорпорации в состав Российской империи, либо в отрыве друг от друга [Волкова 1974; Берозов 1980; Кажаров 2014: 570-589, 698-733 и др.].
Источниковой базой исследования являются опубликованные сборники архивных материалов [Бутков 1869; КРО 1957a; КРО 1957b; МПИО 1933; РОО 1976; РОО 1984], материалы нескольких фондов РГАДА [Ф.23 (Кавказские дела). Д. 5 («Переписка начальников на Моздокской линии»), Д. 9 («Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф.И. Фабрициана. 1779 г.»; РГАДА Ф. 192. Оп. 1. Карты Кавказа], а также нарративные источники второй половины XVIII – начала XIX вв. [АБКИЕА 1974: 179-280; Султан Хан-Гирей 2009; Штедер 2016].
Основная часть
К середине XVIII в. полиэтничное население Центрального Кавказа было объединено на базе традиционных общественных отношений в системную целостность на основе тесных экономических, социально-политических, этнокультурных отношений, имевших иерархический характер. В ее центре находилась Кабарда, фактически распадавшаяся на три политических субъекта – так называемая Большая Кабарда (Къэбэрдей), а также Талостаней (Талостэней) и Джиляхстаней (Джылэхъстэней) – Малая Кабарда русских источников [Султан Хан-Гирей 2009: 131-145]. Ее непосредственное социальное окружение составляли абазины Восточного Закубанья и разнообразные горские сообщества Центрального Кавказа от Верхней Кубани до Верхней Сунжи [МПИО 1933: 31-33; КРО 1957b: 114-115, 194-196]. По архивным данным и нарративным источникам, к середине XVIII в. пространственная дистанция между населенными пунктами феодальных уделов Кабарды и горскими обществами Центрального Кавказа была минимальной [КРО 1957b: 114-115, 194-196]. Кабардинцы стремились занять выходы из ущелий своими селениями, чтобы контролировать горцев, облагавшихся натуральными налогами за пользование сезонными пастбищами и иными угодьями на равнине. Наиболее многочисленные локальные группы северокавказских абазин – так называемые абазины-тапанта, по временам полностью инкорпорировались в состав Большой Кабарды [КРО 1957b: 114]. Эта модель взаимодействия кабардинцев с абазинами Восточного Закубанья и горцами Центрального Кавказа позволяла военно-аристократической элите Кабарды – корпорации пши-уорков, поддерживать доминирующие, лидерские позиции как внутри социума, так и в регионе в целом. Ее устойчивость основывалась на демографическом и организационном превосходстве кабардинцев над разобщенным в политическом отношении и разнородным в этнокультурном плане населением высокогорной зоны Центрального Кавказа. Правительство Российской империи в середине XVIII в. признавало легитимность иерархических связей между кабардинскими князьями и зависимыми от них горцами Центрального Кавказа. В 1753 г., во время очередного конфликта между Кабардой и Крымским ханством за право налогообложения верхнекубанских абазин, Коллегия иностранных дел сделала следующее «изъяснение» правительству Османской империи:
«Абазинцы шести родов или алтыкесек называемые … отдались в подданство оной Кабарды владельцам; и с того времени платят им подать … Хотя река Инжик (Большой Зеленчук. – З.К.), на которой... абазинцы живут, лежит за рекою Кубаном и впадает во оную, однако же чрез то принадлежности их к кабардинцам опровергнуть невозможно, ибо напротиву того – надлежит взять в разсуждение и реку Терек, о которой известно, что течение имеет в границах Всероссийской империи, и на которой с одной стороны имеются немалые российские жилища, а с другой живут подданные е.и.в. кумыки, андреевцы, аксайцы, брагунцы и чеченцы... А со всем тем в вершинах оной в горах сверх кабардинцев разные находятся народы..., которые Всероссийской империи не в подданстве, а... во владении у тех же кабардинских владельцев» [КРО 1957b: 188].
Достаточно комфортные внешнеполитические условия, в которых существовала Кабарда с момента заключения Белградского мирного договора (1739) и обретения нейтрального статуса, позволяли кабардинской аристократии сохранять доминирующие позиции в регионе, прилагая усилия лишь для поддержания устойчивости сложившегося этнодемографического и социального баланса. Динамика исторических изменений, в том числе геополитического контекста, в котором существовали народы Центрального Кавказа, во второй половине XVIII в., продемонстрировала уязвимость традиционной модели взаимодействия различных этнических и социальных страт населения. По заключению В.Х. Кажарова, с которым сложно не согласиться, Кабарда, как наиболее социально развитое и многочисленное сообщество Центрального Кавказа, находилась в состоянии стагнации:
«В XVII-XVIII вв. развитие кабардинского общества сводилось к бесконечному повторению прежних социальных образцов, демонстрируя свою неспособность к самообновлению и прогрессу. Предельная стандартизация и унификация всех сторон общественной жизни сочеталась с хроническими феодальными междоусобицами … К середине XVIII в. Кабарда оказалась в социальном и политическом тупике [Кажаров 2014: 524].
Это проявилось в общественной реакции, которая имела место в Кабарде и ее ближайшем социальном окружении в связи с объективно закономерным усилением военно-политического влияния Российской империи в регионе после основания крепости Моздок (1763). Собственно само основание этой крепости было связано с хроническими внутриполитическими конфликтами в Кабарде, которые вынудили одного из кабардинских князей Джиляхстанея – Кургоко Канчокина, принять крещение и с несколькими сотнями своих поданных переселиться в урочище Моздок [КРО 1957b: 198, 201, 203-204, 209, 211-215, 218-222]. Это была первая крупная разовая миграция кабардинского населения из традиционной, наиболее комфортной с точки зрения землепользования зоны – предгорных равнин, на степное левобережье Терека. Сам Кургоко Канчокин в этом переселении, очевидно, видел средство обретения могущественного покровителя и получение нового статуса высокопоставленного имперского подданного. Однако русское правительство расценивало основание Моздока как средство распространения своего экономического, военно-политического и идеологического влияния на Центральном Кавказе. Создание в промежутке между Моздоком и Кизляром центра миграционного притяжения для горцев Центрального Кавказа предполагалось в самом сенатском докладе Екатерине II:
«Сенат по слушании всего того определил о переселении вышеозначенных, осетинцов, киштинцов (т.е. ингушей – З.К.), кабардинцов и других из тамошних горских народов, крестица желающих, на кизлярских границах; позволяя селитца с ними же и другим охотникам из христианских народов» [КРО 1957b: 219-220].
Выбор Моздока как сборной точки миграционной активности был не случаен. Судя по более ранним источникам, это урочище еще до основания там крепости было местом притяжения всех потенциальных переселенцев из Кабарды в русские владения. Еще в ноябре 1744 г. в своем письме императрице Елизавете Петровне кабардинские князья просили возвращать
«…бегающих от нас в Кизляр и в Моздок (курсив наш – З.К.) и желающих принять христианский закон оставшихся от дедов и отцов собственных наших людей также купленных нами грузинцов и армян»; не содержать в этом урочище «строение и караул» [КРО 1957b: 122, 123].
Основание в урочище Моздок полноценной крепости, было расценено в Кабарде как территориальный захват. Кроме того, это усугубило кризисные явления в Кабарде, обострив до предела отношения между привилегированными и непривилегированными сословиями. Проблема Моздока и усилившегося потока беглых холопов, которые обрели возможность быстро получить защиту в обмен на истинное или формальное обращение в христианство, стала первым серьезным поводом для обострения кабардино-русских отношений. Кабардинские князья одновременно пытались организовать убийство Кургоки Канчокина, вели переговоры с кемиргоевцами, бесленеевцами и закубанскими ногайцами о перспективах нападения на Моздок и оказывали дипломатическое давление на Петербург [КРО 1957b: 232, 235, 236, 238-239]. Позиция кабардинской аристократии была предельно проста и апеллировала к рациональному выбору в пользу объективной заинтересованности Российской империи в своих давних союзниках на Кавказе:
«Наши кабардинские холопы не желая жить здесь в Кабарде, бегут и принимают кресчение, а потом не желая християнства паки бегут к нам в Кабарду… И хотя вы нас потеряли, токмо мы к стороне ея величества недоброжелательства не имеем, из беглых же кабардинских холопьев в Кизлярской крепости много ль находится в службе ея величества, ибо прочие беглецы к России все отпущаются во отечества свои, то есть грузинцы в Грузию, кумыченя в Кумыки, а каджара в Персию; но чрез них стороне ея величества какая прибыль имеется? …За таких, никакой пользы казенной не касающих и вовсе пропадающих, ясырей напрасно Кабарду нашу потеряете» [КРО 1957b: 236].
Однако во всех просьбах, касавшихся ликвидации Моздока и возвращения беглых холопов, кабардинскому посольству 1764 г. было отказано [КРО 1957b: 238-239]. Стихийный и достаточно массовый отток населения за пределы Кабарды продолжился. В социальном плане «беглые холопы», по архивным данным состояли из двух основных категорий – «тукашуков» (лъхукъуэщо – З.К.) или «чагар», то есть лично свободных оброчных крестьян, этнических кабардинцев, и так называемых «коджаров» – пленных, либо приобретенных покупкой иноплеменников (грузин, армян, уроженцев персидских провинций и т.д.) [КРО 1957b: 236, 269-270; Думанов 1990: 152-164]. Бегство последних, лишало своих владельцев рабочих рук и подрывало феодальную экономику Кабарды. А массовое переселение «тукашуков» или «чагар» в русские пределы, кроме того, грозило деструктивными последствиями всей системе сословных отношений и существенно ослабляло военный потенциал кабардинцев. «Тукашуки» составляли до двух третей полевого кабардинского войска, формируя простую бездоспешную кавалерию [КРО 1957a: 386, 387; КРО 1957b: 369].
Попытка кабардинских князей перевести подвластное население «на кубанскую сторону» в верховья Кумы с тем, чтобы исключить бегство в русские пределы зависимых крестьян, вызвало открытое массовое выступление непривилегированных сословий Кабарды [КРО 1957b: 269-270]. Это уже было не стихийное бегство одиночек, а организованная демонстрация открытого неповиновения самой состоятельной и многочисленной категории кабардинского крестьянства. До 10 тыс. человек расположились укрепленным лагерем в урочище Бештамак, в месте впадения в Терек Малки, построили на ней мост, обеспечивавший доступ на левобережье и коммуникацию с представителями русских властей в Моздоке [КРО 1957b: 269-270]. Массовость и организованность выступления демонстрирует степень остроты социальных противоречий в Кабарде между привилегированными и непривилегированными сословиями и потенциальную готовность к миграционной активности в направлении русского приграничья. Лидеры восставших в 1767 г. сразу дали знать русским властям, что они не готовы ни креститься, ни переселяться в Моздок или Кизляр [КРО 1957b: 270]. Их целью было вынудить кабардинскую аристократию к уступкам. Они выступали против нарушения традиционных норм эксплуатации, произвольного повышения податей, насильственного обращения в холопы членов семей и т.д. Отдельным пунктом требований восставших было условие, чтобы «имеющихся у них, чагар, собственных уже их холопей, оставили в их воле, и как владельцы, так бы и уздени в них не вступались, и единственно всех своими холопами не зачисляли» [КРО 1957: 272]. Кабардинские владельцы были вынуждены, явиться в лагерь восставших и клятвенно обещать выполнить все их требования, а переселение на Куму отложить [КРО 1957: 272-274]. Мирное разрешение конфликта стало лишь тактическим компромиссом, который не мог снять принципиальных противоречий между кабардинской аристократией и массой непривилегированных сословий. В самый острый период русско-турецкой войны 1768-1774 гг. русское правительство даже пошло на уступки кабардинской аристократии. Грамота Екатерины II 9(17) августа 1771 г. «кабардинским владельцам, узденям и всему народу» гарантировала отказ от укрывательства беглых крестьян в русских владениях, обещала денежные компенсации из казны за беглецов-христиан, но отказывала в главном – уничтожении Моздока, как точки притяжения всех недовольных существующими в Кабарде социальными практиками [КРО 1957b: 299-304]. Эта Грамота была встречена кабардинцами без энтузиазма, так как ее условия не могли разрешить объективный конфликт интересов в кабардино-русских отношениях [КРО 1957b: 304-305].
Победоносное для России окончание русско-турецкой войны 1768-1774 гг., заключение Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г. резко усилили военно-политическое влияние Российской империи на Центральном Кавказе. Учреждение на северных территориях Кабарды в непосредственной близости от основного массива кабардинского населения крепостей Азово-Моздокской кордонной линии (1777) не только максимально обострило проблему стихийной миграции в пределы России представителей зависимых сословий, но вывело ее осмысление на качественно новый уровень. Актовый материал подтверждает активизацию стихийной миграции из Кабарды в русские пределы после основания Азово-Моздокской кордонной линии. Значительную часть этих беглецов составляли недавно обращенные в неволю холопы христианского вероисповедания, в первую очередь грузины и армяне [РГАДА Ф.23. Д. 5 Ч.2: 71, 105, 129, 130, 140, 162, 163; Ч.3: 102, 109, 139об., 148, 194об; Ч.5: 283, 414, 434; Ч.6: 26, 45, 107, 109, 133, 412, 440, 526, 536, 543 и др.]. Однако значительную часть беглых из Кабарды составляли этнические кабардинцы, представители зависимых сословий [РГАДА Ф.23. Д. 5 Ч.1: 88, 126, 131, 199, 236, 245, 278, 323, 402; Ч.5: 364; Ч.8: 84, 93, 94, 179, 190, 227, 228, 232, 250, 251, 258, и др.]
В марте 1777 г. Г.А.Потемкин, собщал в Коллегию иностранных дел:
«Астраханский губернатор и кавалер Якобий представляет ко мне, что он во время осмотра границ той губернии, проезжая чрез Малую и Большую Кабарду, не оставил неприметным образом разведать сколь утеснены тамошними начальниками подвластные жители, отчего некоторые из них и открылись ему, что естли б могли они быть твердо обнадежены со стороны российской, что по переводе во оную не отданы будут они обратно нынешним владельцам их, то бы все они давно перешли…» [КРО 1957b: 320].
Через десять лет после выступления 1767 г., осенью 1777 г. во время пребывания И.В. Якоби на кордонной линии «старейшины чорного кабардинского народа от всего подвластного общества» тайно приезжали к нему, жаловались на притеснения своих владельцев и просили о ходатайстве перед русским правительством [КРО 1957b: 323]. Демонстрируемая «старшинами черного народа» нарочитая лояльность Российской империи, готовность к переселению в русские пределы, ссылки на свою личную свободу и исключительно поземельную зависимость от кабардинской аристократии не соблазнили Коллегию иностранных дел, которая вела по этому вопросу длительную переписку со своими администраторами в регионе [КРО 1957b: 320-326, 327-331]. Русское правительство, реально оценив все риски, возможные материальные и политические издержки, посчитало нецелесообразным решительно вмешиваться во внутренние социальные конфликты кабардинцев:
«Все сие с избытком показывает, что в каком бы положении ни находились черные кабардинские люди, коль мало они однако же заслуживают, чтоб за них приходить с кабардинскими владельцами в новую и жестокую остуду» [КРО 1957b: 331].
Оно не доверяло лояльности «старшин черного кабардинского народа» и вполне обосновано предполагало, что последние просто хотят использовать предоставившееся им окно возможностей, «…пришед во искушение свободы от приближения к их жилищам здешних крепостей» [КРО 1957b: 330]. Русское правительство в это время предпочло выжидательную тактику в надежде на то, что эскалация внутриполитического конфликта в Кабарде ослабит ее военный потенциал:
«…Могут и подвластные кабардинские люди произвесть бунт, владельцов своих перебить и сами врознь разойтись. Пускай все сие и случится, тут ничего не потеряется, но еще будет выигрыш, когда владельцов кабардинских убудет, или же у них подвластных действо будет собственной их судьбы» [КРО 1957b: 331]
Несмотря на отсутствие действенной поддержки со стороны русского правительства, непривилегированные сословия Кабарды проявили явную пассивность накануне и во время семимесячной русско-кабардинской войны 1779 г. В 1777 г. отказ кабардинского «чёрного народа» принять участие в нападении на строящиеся укрепления Азово-Моздокской кордонной линии сорвал планы владельцев Большой Кабарды [КРО 1957b: 324; Бутков 1869: 52]. В начале следующего 1778 г. также сорвалось нападение на крепость Павловскую кабардинских войск, которые «…кроме черни (курсив наш – З.К.) собравшись разными партиями тысяч до трех или более выступили было в степь», но, не имея возможности провести массовую мобилизацию всех наличных сил, отказались от своих намерений [КРО 1957b: 324]. В ходе семимесячной войны 1779 г. латентный конфликт и отсутствие полного доверия между кабардинской аристократией и зависимыми сословиями проявился 29 сентября в ходе битвы на Малке, решившей исход компании. Основная часть войска (около 6000 всадников) проявила явную пассивность и отступила, не предприняв даже попытки деблокировать окруженный русскими отряд, состоявший из одних князей и дворян [Бутков 1869: 52-57]. В советское время отечественная историография пыталась в духе классового детерминизма обвинить кабардинских пши-уорков в бегстве с поля боя, якобы обрекшим крестьянское ополчение на разгром, но официальный отчет о сражении Ф.И. Фабрициана и И.В. Якоби, а также мемуары очевидцев свидетельствуют о том, что ситуация была прямо противоположной [Народные наигрыши 1986: 229; Бутков 1869: 56-57; Кавказская война 2002: 25-26].
После общего обострения кабардино-русских отношений, эскалации вооруженного противостояния на Центральном Кавказе в годы антиколониального движения шейха Мансура (1785-1787) возможности организованного переселения зависимых сословий за границу русских укреплений стали эфемерны. Царские власти, напротив, проводили политику ограничения территории Кабарды правобережьем Малки и Терека. Но острота социальных противоречий в Кабарде приводила к эксцессам и массовым миграциям помимо воли русских властей и кабардинских владельцев. В конце марта 1780 г. Ф.И.Фабрициан доносил астраханскому губернатору о том, что в противодействии попыткам кабардинский аристократии сохранить свою власть путем дистанцирования от наступающей русской границы, непривилегированные сословия были готовы к самым крайним мерам:
«Малой Кабарды владельцы Тоусултановых кабаков подлинно зделали было бунт в своем народе, и хотели отдалиться на жилище в горы, а не на Кубань, и, принуждая подданных своих к тому усильно, делали им разные притеснения, а напоследок, видя их упорство и несогласие, рубили саблями и выгоняли вон. Однако ж чернь, окрепясь и храня данную в присяге клятву, не сделала им и по той строгости послушания, а, оставя жен и детей в их руках, перебралось к Моздоку более 800 человек и просили защищения от нас (курсив наш – З.К.) [КРО 1957b: 335-336].
К 1787 г. численность кабардинцев, перешедших в русские владения, в окрестности Георгиевской, Павловской крепостей и Моздока превосходила 1,5 тыс. человек [Волкова 1974: 57]. Большинство из них после длительных переговоров примирилось со своими владельцами и вернулось в пределы Кабарды в течение 1787 г. [Бутков 1869: 174]. Усиление колониального администрирования, учреждение в 1785 г. Кавказской губернии и общая военно-политическая напряженность с конца XVIII в. объективно снижали для кабардинцев привлекательность переселения за черту русских укреплений в сферу непосредственного управления России с ее более жесткими крепостными порядками.
Сохранение социального противостояния в Кабарде на фоне первых неудач антиколониальной борьбы вызвало всплеск общественно-политической активности, получившей в историографии название шариатского движения. Программа социальных преобразований на основе исламского права – шариата предполагала мобилизацию всех ресурсов, «…достижение определенных политических выгод в результате уравнения прав различных сословий внутри феодального класса» [Кажаров 2014: 602]. Ограниченность этой программы, неготовность распространить ее эгалитарные принципы на все кабардинское общество не могли снять остроту социальных противоречий в Кабарде. Основным содержанием общественного кризиса второй половины XVIII в., стимулировавшего стихийный миграционный отток населения и даже попытки организованного массового переселения за черту пограничных русских укреплений, был социальный конфликт между привилегированными и непривилегированными сословиями. Шариатское же движение широко распространяя исламские нормы в сфере уголовного и семейного права, предполагало сохранение традиционных обычно-правовых отношений между привилегированными и зависимыми сословиями: «…Всякое дело в народе решать по шариату, за исключением претензий князя с узденями, узденей с их крепостными, так как они, по желанию их, предоставлены разбирательству по древним обрядам (курсив наш. – З.К.)» [Ногмов 1994: 163].
Усиление административного контроля Российской империи, попытка введения новых судебных органов – Родовых судов и Расправ, на фоне устойчивого стремления части кабардинского общества сохранить автономность, пространственную и правовую дистанцию от институциализирующегося колониального порядка, парадоксальным образом трансформировали энергию социального творчества в новый вектор миграционной активности. В 1799-1800 гг. противники учрежденных в Кабарде подконтрольных России судебных органов во главе со своими лидерами (Адиль-Гирей Атажукин (Хатокшоко), Исхак Абуков и др.) начали переселятся в Восточное Закубанье. В долине Малого Зеленчука сформировалась первая локальная группа закубанских кабардинцев-хаджиретов численностью в 200 семей [Бутков 1869: 560-562; Султан Хан-Гирей 2009: 135; Кажаров 2014: 599-612]. Максимальная активизация западного направления миграционной активности кабардинцев падает на первые десятилетия XIX в., но все объективные условия для него созрели на протяжении второй половины XVIII в. [Султан Хан-Гирей 2009: 135-145; Кажаров 2014: 599-612].
Основание Моздока и появление перспектив получить покровительство русских властей в регионе также активизировала миграционную активность горцев Центрального Кавказа – осетин и ингушей, которые на протяжении второй половины XVIII в. последовательно пытались расширить свою этническую территорию. Горцы Осетии и Ингушетии, как и «старшины черного народа» в Кабарде, пытались выйти из-под власти своих сюзеренов или существенно ослабить их влияние, поставить под сомнение традиционную систему землепользования и налогообложения, феодальных прав и привилегий кабардинской аристократии, в первую очередь, феодальное право верховной собственности на землю. Этот социальный по содержанию конфликт осложнялся тем, что протекал в форме этнического противостояния между населением Малой Кабарды и его южными соседями.
Демографический навес горцев Осетии и вайнахских локальных родоплеменных групп Верхней Сунжи над черкесским населением Талостанея и Джиляхстанея, а также общий внутриполитический кризис в Кабарде давали горцам определенные преимущества. Вторая половина XVIII в. стала периодом начала радикального сокращения территории землепользования кабардинцев в зоне их контакта с горцами Осетии и Ингушетии. В середине ХVIII в. по данным ландкарты Кабарды С.Чичагова и пояснений к ней основные поселения Джиляхстанея располагалось по Сунже и ее притокам – Назрани и Эндерипсу, а Талостаней занимал предгорную равнину между левым берегом Терека и Сунженским хребтом [КРО 1957b: 196, 197]. На протяжении 60-70-х. годов кризисного для Кабарды XVIII в., ситуация социально-политического противостояния кабардинских феодальных владений и горцев Центрального Кавказа стала фактором, детерминировавшим значительную в масштабах региона этнодемографическую динамику.
Еще до основанием Моздока триггером в обострении кабардино-горских отношений стала деятельность Духовной комиссии, которая с 1752 г. начала миссионерскую деятельность среди осетин и ингушей, что создавало дополнительную религиозную дистанцию между ними и мусульманским населением Кабарды [МПИО 1933: 73; РОО 1974: 304, 419]. Кабардинская аристократия рассматривала проповедь христианства как инструмент усиления политического влияния России, и болезненно реагировала на это эскалацией организованного насилия против новообращенных горцев. Наиболее интенсивно, судя по источникам, разворачивался конфликт между кабардинскими князьями и ингушами. В 60-70-х годах источники фиксируют ряд крупных столкновений, в которых кабардинские феодальные войска практиковали набеги, захват скота, пленных, препятствовали ингушам использовать пашни, пастбища и сенокосы на плоскости [МПИО 1933: 152; КРО 1957b: 307; РОО 1976: 419]. На требования российских властей прекратить нападения на ингушей, кабардинцы ссылались на право войны, устоявшиеся обычаи и попытки горцев их игнорировать:
«…Ингушевский народ был издревле ими завоеван, и всегда они с них по обычаю подать брали, а ныне... не только не дают, но еще крадут у кабардинцев скот и увозят. И ... иным способом с ними зделаться не можно, окроме того, чтоб их усмирять оружием» [КРО 1957b: 308].
Несмотря на все усилия, удержаться на местах своего прежнего проживания кабардинцы не смогли. Уже в 1781 г. русский офицер Л.Л.Штедер в бывшем центре локализации владений Джиляхстанея – на правом берегу Сунжи и ее притоках, застал лишь следы старых кабардинских поселений, «…надгробные памятники, абрикосы и другие фруктовые деревья их прежних садов и т.п.» [Штедер 2016: 16-17, 31-32]. По архивным данным второй половины ХVIII в. кабардинцы были вынуждены покинуть даже междуречье Сунжи и Камбилеевки, которое начали колонизировать ингуши [РГАДА Ф.192. Оп.1. Карты Кавказа. Д. 4]. Они также активно осваивали Тарскую котловину и нижнее течение Камбилеевки [МПИО 1933: 166; Волкова 1974: 158]. Примерно в 60-х гг. ХVIII в. ингуши заняли оба берега Камбилеевки. Кроме того, они постепенно колонизировали земли на правобережье Сунжи, которые ранее покинули кабардинцы [Волкова1974: 161]. Уже по данным карты 1768 г. и источникам последней трети ХVIII в., нижнее течение рр. Асса и Фортанга вплоть до слияния с Сунжей занимали ингушские родоплеменные подразделения – галгаи, галашевцы и карабулаки [РГАДА. Ф.192. Оп.1. Карты Кавказа. Д.4].
Вся южная часть Талостанея и Джиляхстанея от предгорий Большого Кавказа до Сунженского хребта в течение 60-70-х гг. XVIII в. превратилась в зону отчуждения и безопасности, что красноречиво описал Л.Л.Штедер в 1781 г.:
«Татартупская горная цепь (Сунженский хребет – З.К.) тянется за селением в сторону Кавказа. Она замыкает здесь Сунжу и образует между Сунжой и Уругом (Урухом – З.К.) большую осетинскую равнину, одну из превосходных и плодородных местностей, по которой протекают 8 больших и некоторое количество малых рек; с помощью обработки она могла превратиться в счастливейшую местность, однако она лежит необработанной вследствие обоюдной боязни кабардинцев и горцев» [Штедер 2016: 90].
По его же данным пашни и пастбища Джиляхстанея в 1781 г. располагались между Сунженским и Терским хребтами «которые проходят параллельно друг другу с востока на запад на расстоянии 8 верст, на ровной и плодородной долине» [Штедер 2016: 90]. Но даже там кабардинцы были вынуждены строить легкие древо-земляные укрепления для того, чтобы защитить себя от внезапных нападений горцев:
«На востоке, на острие полей и пастбищ занимающиеся земледелием и пастухи воздвигли себе, с целью предотвращения нападений, небольшие легкие оборонительные земляные и деревянные сооружения. Эти укрепления, непреодолимые для любых разбойных набегов, состоят из двойного плетня, идущего по кругу, высотой выше человеческого роста, между которым на четыре фута насыпана земля и который имеет отверстия для стрельбы. Внутри по кругу устроена соломенная крыша, под которой они хранят свое семейное зерно и утварь и располагаются сами на ночлег. Узкий вход закрывается их двухколесной телегой (арбой). Для пастухов у них имеются специальные сооружения из балок, расположенных одна над другой, установленных на четырех сваях, 4 сажени над землей, которые также снабжены отверстиями для стрельбы» [Штедер 2016: 14].
Таким образом, население Талостанея и Джиляхстанея в течение второй половины ХVIII в. было оттеснено в северо-западном направлении – в излучину Терека на северные склоны Сунженского хребта. Как отмечал уже в нач. ХIХ в. Г.Ю. Клапрот, селения Малой Кабарды «подвергались набегам народов, живущих в горах» и по этой причине «отодвигались от них все более сначала к южному гребню (Сунженскому хребту. – З.К.) и наконец передвинулись на другую его сторону» [АБКИЕА 1974: 276-277].
Тем не менее, на протяжении всей второй половины XVIII в., до демографической катастрофы первых десятилетий XIX в., кратно сократившей численность кабардинцев, потенциальное стремление горцев Центрального Кавказа колонизировать часть Кабардинской равнины не могла реализоваться полностью. Русское правительство не было склонно, как и в случае социальных конфликтов в Кабарде, безусловно поддерживать устремления осетинских и ингушских общин. Учитывая традиционный характер сюзеренно-вассальных отношений кабардинцев с горцами Центрального Кавказа, правительство России осознавало, что если бы
«осетинцы на... кабардинские места выселились, они неминуемо и подвластными тамошним владельцам к немалому оных... усиливанию, учиниться были бы должны, в чем со здешней стороны и препятствовать с... означенным трактатом (Белградским договором – З.К.) было бы не сходно, а ежели бы против воли кабардинцов на их землях осетинцов поселивши со всем тем не допускать кабардинцов ими пользоваться, в таком случае с Портою Оттоманскою и до самой крайности легко дойти могло б» [РОО 1976: 399].
Даже после заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г., и формального присоединения Центрального Кавказа к России, имперское правительство, обещая свое покровительство всем горским обществам, присягнувшим на верность, рекомендовало им не нарушать своих обязательств по отношению к кабардинским владельцам [РОО 1984: 265]. Коллегия иностранных дел в письме от 13 ноября 1780 г. к командующему Кавказским корпусом князю П.С. Потемкину предписывала не помогать осетинам в самовольном занятии прилегающей к горной Осетии части Кабардинской равнины:
«Жители Малой Кабарды сим поселением в своих угодьях нужных и не были б может быть утеснены, но сказать могли б, что собственность их бесспорная отнимается насильством... А чтоб сей жалобы и нарекания избыть, то переселяя осетинцев из гор на низкие места, и надлежало бы уже оставить в полной от кабардинцев зависимости, но сим... не было б также одержано здешнее намерение касательно осетинцов, чтоб их, наконец, видеть христианами и к здешней стороне без всякого изъятия и непосредственно приверженными» [МПИО 1933: 300].
На протяжении всей второй половины XVIII в. колонизационная активность осетин на плоскости реализовывалась в рамках традиционной системы сюзеренно-вассальных и клиентских отношений с кабардинской аристократией. Уже на карте Кабарды 1744 г. на р.Урух отмечено большое село дигорских феодалов Караджаевых [КРО 1957b: 114, 196]. В ХVIII в. с согласия кабардинских владельцев на равнинных землях, примыкавших к Дигорскому ущелью, возникло еще 6 крупных дигорских селений [РГАДА. Ф. 23. Д. 9. Ч. 14. Л. 244]. В них, по сведениям Л.Л.Штедера, проживало более 3 тыс. человек или около 40 % всех дигорцев [РГАДА. Ф. 23. Д.9. Ч.14. Л. 242-244]. У выходов из ущелий на равнину рр. Ардон и Фиагдон алагирские и куртатинские осетины основали 8 небольших выселков [МПИО 1933: 161-166; Штедер 2016: 83-85]. Не позднее 60-х годов ХVIII в. в долине Терека, также стали появляться новые поселения осетин [РГАДА. Ф 192. Оп.1. Карты Кавказа. Д. 4]. Всего на предгорных равнинах в долине Терека в конце ХVIII в. проживало уже более 200 осетинских дворов [МПИО: 165-166; Берозов 1980: 43].
Ослабление политического влияния кабардинской аристократии после поражения в семимесячной войне 1779 г. позволило имперским властям юридически обязать владельцев Большой и Малой Кабарды не препятствовать осетинам и ингушам свободно использовать землю на равнинах и не требовать от них дани [Бутков 1869: 60]. Однако вплоть до конца XVIII в. политика России, направленная на ослабление политической власти и влияния Иналидов Кабарды «пресечением их связей с соседними народами... и отнятием доходов, приобретаемых от иноплеменных народов силою их оружия еще в давности покоренных», не имела ресурсных возможностей для реализации [Бутков 1869: 61].
Заключение
Таким образом, миграционная активность населения Центрального Кавказа на протяжении второй половины XVIII в. имела несколько ярко выраженных векторов. Наиболее устойчивым оказалось демографическое давление горцев Осетии и Ингушетии на Малую Кабарду. Оно привело к уходу черкесского населения Джиляхстанея и Талостанея из предгорий Большого Кавказа на северные склоны Сунженского хребта и формированию малонаселенной зоны отчуждения между ним и выходами из горных ущелий. В рамках традиционной системы землепользования и связанных с ней сюзеренно-вассальных и клиентских отношений, часть Кабардинской равнины между Урухом и Верхней Сунжей была колонизована осетинами и ингушами.
Общественный кризис в Кабарде, происходивший на фоне усиления военно-политического и административного давления на нее со стороны Российской империи, основание Моздока (1763), Азово-Моздокской кордонной линии (1777), учреждение Кавказской губернии (1785), стимулировали стихийные миграции из Кабарды представителей несвободных и непривилегированных сословий на подконтрольную России территорию. Попытки организованного массового переселения части непривилегированных сословий Кабарды за черту русских пограничных укреплений не встретили поддержки у колониальной администрации и были нейтрализованы усилиями кабардинской аристократии. К концу XVIII в., в противовес данному вектору миграционной активности, в целях создания пространственной и правовой дистанции между кабардинским обществом и институциализирующейся системой имперского администрирования, в Кабарде начал формироваться новый, элитарный по социальному составу, вектор миграционной активности в направлении Восточного Закубанья.
About the authors
Zaurbek A. Kozhev
Institute for the Humanities Research – Affiliated Kabardian-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: zaurbek_k@mail.ru
Candidate of Historical Sciences, Head of the Department of Medieval and Modern History at the Institute of History and Archaeology of the Kabardian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences Russian Federation
References
Supplementary files