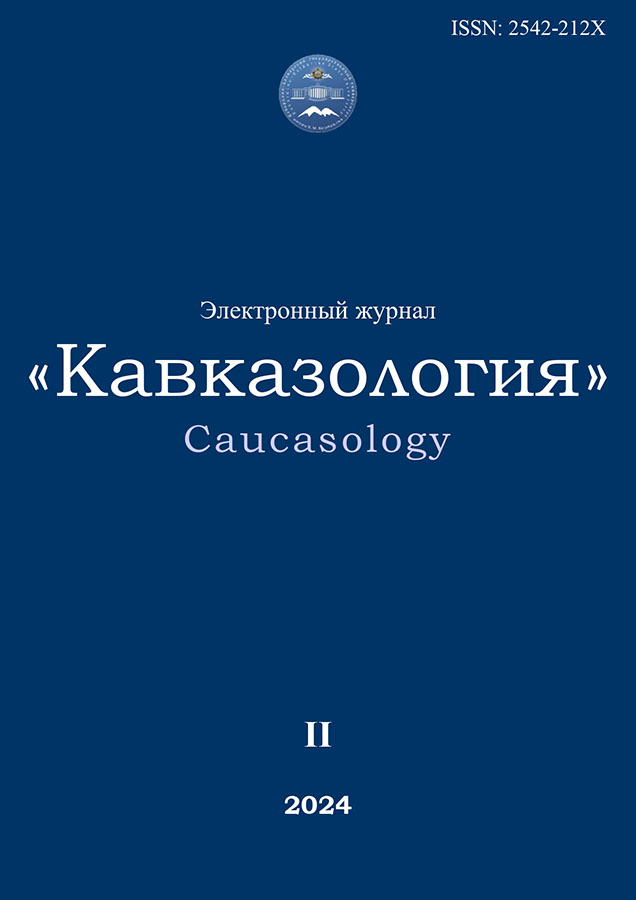From imperial to soviet school education: problems of the formation of a labor school in the Kuban in 1920
- Авторлар: Yakhutl Y.A.1
-
Мекемелер:
- Kuban State University
- Шығарылым: № 2 (2024)
- Беттер: 63-83
- Бөлім: Recent history
- ##submission.dateSubmitted##: 29.04.2025
- ##submission.datePublished##: 15.12.2024
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/289928
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2024-2-63-83
- EDN: https://elibrary.ru/CIRRSB
- ID: 289928
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
The cultural growth of the Soviet multinational people resulted from the purposeful work of the RCP(b) – VKP(b) to eliminate the illiteracy of the population and organize universal education for school-age children. The policy of the Bolsheviks in the 1920s provided Soviet citizens with access to free education and the right of national minorities to study in their native language. The country faced internal and external challenges that required the diversion of serious state resources, but the field of education remained a priority for the Communist Party and was provided with state support. Understanding the Soviet experience of organizing school education in the conditions of the economic crisis of the early 1920s and the socialist modernization of the 1930s remains an urgent topic on the example of the not always successful results of educational reforms in the post-Soviet period. The concept of social justice, which was at the heart of the Soviet school, allowed Russian science to become the leading one in the world. USSR formed school education based on the traditional Russian educational concept and those innovations that were implemented by the Bolsheviks in the 1920 s and 1930 s. At the same time, it should be noted that the organization and functioning of the Soviet school pursued clearly expressed ideological goals.
Негізгі сөздер
Толық мәтін
Введение
В каждой стране мира функционирует собственная исторически сложившаяся образовательная система. В России тоже накоплен исторический опыт успешного развития образовательной сферы. Были успехи в имперский период истории страны, но следует отметить советскую эпоху, которая отличается наивысшими достижениями в образовании, науке и культуре. С 1918 г. начинается школьная реформа Советской власти, и на протяжении 1920-х гг. она продолжается в соответствии с поставленными задачами. Новая концепция развития СССР в конце 1920-х гг. и «Великий перелом» положили конец реформаторству в сфере образования, открыв новую страницу в истории страны и образовании. Идеологизированность образования в РСФСР – СССР, основа которой была заложена ещё в 1920-е гг., не может служить основанием для отрицания достижений образовательной и воспитательной концепции советской школы. Опыт и достижения советских времён могут быть использованы в современной России, поскольку через три десятилетия после распада СССР снова появились предпосылки для превращения неграмотности взрослых в социально значимую проблему. Согласно оценкам экспертов Международной Хельсинкской группы, в России на начало 2000‑х гг. было около 2 млн детей школьного возраста, не посещающих школы [Глущенко 2015: 254], при том, что образование, наука и культура населения являются важнейшей частью внутренней политики государства.
Обращаясь к истории России начала XX в. мы отмечаем появление большого количества политических партий, которые отличались по своим целями и идеологическим принципам, но их объединяла одна тема – ликвидация неграмотности и доступное образование. События октября 1917 г., когда власть в результате революции перешла к большевикам, стали отправной точкой для решения вопросов всеобщего образования и формирования советской (светской) образовательной среды. Политика ликвидации неграмотности среди населения и создание советской школы преследовала цель с одной стороны, формирование полноценной грамотной личности, активно участвующего в общественно-политических событиях страны, а с другой – подготовку квалифицированных кадров социалистической экономики. РКП(б) предстояло преодолеть кризис неграмотности взрослого населения и детей школьного возраста, особенно в сельской местности.
На первом этапе кампании усилия большевиков были направлены не только на обучение, но и политическое образование населения. Большевики обоснованно ставили задачу распространения своей идеологии как приоритетной, способной сформировать социальную базу советской власти. Следовательно, кампания борьбы с неграмотностью сочеталась с политическим просвещением населения. Это отмечали большевики в официальных документах, когда политико-просветительские учреждения стали активными участниками борьбы за ликвидацию неграмотности. Таким образом, ликвидация неграмотности – это не только возможность получить изначальную степень грамотности, но и решать широкий круг культурных и политических задач. Этому были подчинены первые декреты советской власти: 26 октября 1917 г. – «Об образовании народного комиссариата по просвещению и назначении народным комиссаром А.В. Луначарского» и 9 ноября – «Об учреждении государственной комиссии по просвещению» [Народное образование… 1974: 7, 9], в результате чего Государственной комиссии перешли функции дореволюционного Министерства народного просвещения. Декретом СНК РСФСР от 26 июня 1918 г. «Об организации дела народного образования в Российской республике» [Декрет… 1942a: 621–625] были учреждены отделы народного образования, в ведении которых были дошкольное, школьное и внешкольное обучение. Первичным звеном, формирующейся советской образовательной структуры стали сельские отделы народного образования на уровне поселений, основной задачей которых была поддержка и развитие школьного образования, и ликвидация неграмотности на уровне деревни, станицы.
Советская образовательная система с момента её функционирования постоянно реформировалась как организационно, так и содержательно, отвечая запросам социалистического строительства – в этом было её преимущество и одновременно недостаток. Эта трансформация нашла своё отражение в историографии темы. В советской историографии основы изучения народного просвещения и ликвидации неграмотности были заложены ещё В.И. Лениным [Ленин 1977a: 116–117; Ленин 1977b: 155–175]. Большевики рассматривали борьбу с неграмотностью как неотъемлемое условие строительства социализма, а в более поздний период – как часть культурной революции. Публикации исследователей советского периода освещали проблемы школьного образования с точки зрения партийного руководства. При однопартийной системе данный подход был оправдан, так как не было иной альтернативы. Школа была не только образовательным, но и идеологическим инструментом, поэтому политика большевиков в этом вопросе была вполне логичной и отвечала интересам страны. Историографию проблемы ликвидации неграмотности взрослого населения и организации школьного образования в РСФСР – СССР в 1920–1930-х гг. условно можно разделить на три этапа. Хронологические рамки этапов исследования данной темы обусловлены политическими событиями в стране. Первый этап, 1920-е – середина 1930-х гг., представлен трудами, воспоминаниями государственных деятелей и непосредственных участников кампании по ликвидации неграмотности. Их объединяет единый подход в оценке государственной политики в области образования [Крупская 1924; Крупская 1960; Эпштейн 1926; Вейкшан 1928; Луначарский 1927; Луначарский 1958; Пинкевич 1927; Авербах 1929; Белькович 1938; Бройдо 1929; Веселов 1932]. С середины 1930-х г. до 1980-х г. можно рассматривать как второй этап историографии данной проблемы. Он отмечен вовлечением широкого круга архивных материалов в научный оборот, а также изучением проблемы ликвидации неграмотности в контексте культурного строительства в СССР [Куманев 1967; Куманев 1973; Кольцов 1960]. В 1948 г. вышел обобщающий труд по истории советской школьной системы ««Очерки по истории советской школы РСФСР за 30 лет» [Константинов, Медынский 1948]. Эта работа сформулировала основные оценки школьной политики 1918–1920-х гг. Во второй половине 1980-х гг. публикуются работы, посвящённые начальному этапу формирования советской школы в 1920–1930-х гг., в которых изучается опыт трудовой школы, партийного руководства, проблемы внедрения новых образовательных программ, оценка роли учителей по патриотическому воспитанию школьников и др. Исследователи обозначили ряд дискуссионных вопросов, но в целом, положительно оценивали результаты деятельности советской школы в предвоенные годы [Веселов 1987; Клицаков 1988; Моносзон 1987; Очерки истории… 1986; Плясовских 1987; Худоминский 1986]. В постсоветской историографии советского школьного образования произошли значительные изменения в первую очередь, это попытка отойти от беспроблемного освещения темы и активное использования концепции модернизации образования. Исследователи изучают историю школьного образования СССР исходя из роли реформ и их влияния на модернизационные процессы в обществе. По мнению Э.Д. Днепрова, реформы решали две группы задач: политические, социально-экономические, а также образовательные и педагогические [Днепров 1994; Днепров 1998]. Исследователи обращают внимание, что реформы в советском образовании часто сменялись контрреформами [Вяземский, Стрелова 1999]. Но это не наносило урон образовательной среде, а выступало своеобразным стабилизирующим фактом в ходе неравномерного развития процесса модернизации России [Алмаев 2020]. Они решали вопросы защиты национальной педагогической системы, сохранения культурной преемственности [Богуславский 2014; Богуславский 2016]. В целом, анализируя причины неудач реформ в образовании, исследователи акцентируют внимание на декларативном характере, отсутствии достаточного финансирования, а также поспешности их проведения. Постсоветский период характеризуется не только ослаблением идеологической зависимости исследователей, но возможностью включить в научный оборот новые архивные материалы и ростом количества исследований по данной теме [Земляная, Павлычева 2011; Белова 2015; Ходырев 2013; Иванова 2013; Рожков 2013]. Часть исследователей продолжают изучать историю школьного образования в рамках традиционной проблематики, но появилось и новое направление – исследования истории советского детства. Оно основано на новых видах источников, в том числе личного происхождения. Данная тема стала активно изучаться с конца 1990-х – начала 2000-х гг. [Астафьев, Годовова 2022]
Цель – изучить особенности формирования единой трудовой школы и ликвидации неграмотности взрослого населения в начале 1920-х гг. на примере Кубани.
Из истории школьного образования российской империи начала XX столетия
Школьное образование в Европе прошло сложный, но содержательный исторический путь, в ходе которой сформировалась континентальная образовательная среда со своими традициями и научными направлениями. Составной частью этого процесса была и российская система образования. Однако неравномерность социально-экономического и политического развития европейских государств оказало существенное влияние на содержание и процесс формирования национальных школ. Первыми ввели обязательное обучение Австрия (1774 г.), Франция (1848 г., 1850 г.) и Англия (1886 г.). Наибольших успехов в развитии школьного и профессионального образования добилась Германия. По количеству грамотных к концу XIX в. она была одной из первых стран Европы: в 1884 г. неграмотных 1,27 %, в 1885 г. – 1,21 %, в 1890 г. – 0,51 %, в 1894 г. – 0,24 % [Соловьев 1930: 28]. Такие результаты были достигнуты за счёт администрирования школьного образования.
В начале XX в. большинство населения России не умело читать и писать. Итоги первой переписи населения, прошедшая в 1897 г., свидетельствовали о том, что 39 % взрослого населения империи были неграмотными. Перед правительством России стояли задачи по обеспечению устойчивого развития экономики и подготовки квалифицированных кадров, следовательно, необходимо было повышать образовательный уровень населения, развивать высшее образование и вести подготовку специалистов для промышленности. Первые инициативы в Российской империи по всеобщему обучению появились при Александре II. Однако, введение обязательного обучения возможно было только обеспечив её общедоступность для всего населения страны. Такими возможностями Российская империя не обладала. Лишь 3 мая 1908 г. приняли закон о всеобщем обучении, но в полном объёме он так и не был утверждён Государственной Думой. В 1909–1913 гг. предпринимались усилия по развитию образования, но отсутствие достоверных данных не позволяют объективно оценить их результаты. По мнению советских исследователей, при росте затрат Российской империи на просвещение в сумме 46 млн р. в 1907 г. и 137 млн р. в 1913 г., расходы в расчёте на одного человека составляли лишь 80 коп. в год [Дейнеко 1957: 40]. Школьная сеть планировалась так, чтобы радиус обслуживания учащихся не превышал трёх километров. Каждый учитель должен был обслуживать не более 50 школьников [Чугунов 1960: 13].
На фоне революционных событий 1905–1907 гг. передовая интеллигенция, признавая наличие значительной социальной дифференциации в обществе, предлагала внести изменения в организацию школьного образования на принципах бесплатности и доступности [Чарнолускiй 1909: 77, 79]. Особо подчёркивалась необходимость исключения религиозных уроков из курса общественной школы, признавая это личным делом каждого гражданина [Чарнолускiй 1909: 65]. К началу Первой мировой войны по сравнению с концом XIX в. уровень грамотности повысился до 27 % [Сычева, Сысолятина 2021: 84]. Однако в ходе Первой мировой и Гражданской войны положение дел с общим уровнем образования и грамотности населения в стране опять стало ухудшаться [Глущенко 2015: 249]. Перед началом Первой мировой войны в России проживало до 182 млн чел. – это одно из первых мест в мире по населению. Однако Россия уступала ведущим мировым державам по основным показателям развития образования. Отличительной чертой российского образования была её сословность и многотипность. Школьные переписи в России были проведены 20 марта 1880 г., 1 января 1894 г. и 18 января 1911 г. Их итоги свидетельствовали о заметном отставании империи от европейских стран по количеству школ на душу населения. По данным 1911 г. в России на 1 000 жителей приходилось 39 учеников, в то время как в Германии – 157, Франции – 152, Великобритании – 147 учеников. Кроме того, Россия по расходам на народное образование из расчёта на одного жителя превосходила только Испанию [Павлова 2017: 115]. Россия начала XX в. значительно отставала от США, как одного из передовых государств в реализации концепции всеобщего образования населения. В США учащиеся составляли 19,4 % населения – в России только 3,85 %. Из 22 государств Европы Россия занимала последнее место по количеству учеников на 100 жителей [Чеховъ 1912: 142].
Существовало и другое мнение относительно перспектив развития народного образования в России. Некоторые исследователи считали, что Октябрьская революция 1917 г. помешала успешному развитию образования [Чугунов 1960: 14]. Однако эти утверждения не соответствуют статистическим данным, которые использовали не только советские, но и дореволюционные исследователи [Пыхалов 2011: 196]. К началу Первой мировой войны на территории России работали 101 917 начальных и 1 654 неполных средних школ, 1 953 средних школ с общим число учащихся 7 896 249 чел. Число учащихся в начальных школах России за период с 1911 г. по 1913 г. выросло на 606 010 чел. [Константинов, Медынский 1948: 6]. В 1914/15 учебном году число детей, обучавшихся в начальных школах, составляло 51 % по отношению ко всему детскому населению 8–11 летнего возраста. К 1916 г. в Российской империи было около 140 тыс. школ разных типов [Сапрыкин 2009: 57]. Но в большинстве национальных окраин Российской империи народы не имели национальной школы и были лишены доступа к образованию.
Школьная система была построена на принципах сословности. Каждое сословие имело свои специальные школы. Крестьяне и рабочие, как правило, получали образование в школах с 3–4 годичным курсом обучения, в двухклассных начальных школах или высших начальных училищах. Для привилегированных сословий были открыты гимназии, реальные и коммерческие училища. Система образования делилась на 2 части: первая, система элементарного образования и вторая, система среднего и высшего образования.
Отмечая наличие нерешённых вопросов и низкий образовательный уровень населения империи, дореволюционная школа обладала рядом достижений и преимуществ по сравнению с единой трудовой школой 1920-х гг., а именно, установленные точные сроки начала и конца учебного года и его деление на четверти, классно-урочная система и предметное построение учебных программ, а также установленные критерии оценки знаний.
Единая трудовая школа – монополия государства в народном образовании
В начале 1920-х гг. советскому государству в сфере образования предстояло решить комплекс безотлагательных задач. Наряду с ликвидацией неграмотности взрослого населения Советская власть приступила к перестройке народного образования. Первые декреты большевиков провозгласили новые принципы и методы учебно-воспитательной деятельности и сформировали единую систему школьного обучения, стараясь использовать передовые для того времени идеи русских и зарубежных педагогов. Законодательная деятельность РКП(б) и СНК РСФСР на начальном этапе реформ, основанная на мобилизационных принципах, преследовала цель ликвидацию неграмотности взрослого населения и полный охват детей школьным образованием. Следует учитывать, что организация системы образования и просвещения взрослых в России на государственном уровне предпринималась впервые с одновременной разработкой её теоретических и методических основ. Кроме того, шли острые дискуссии по вопросам учебно-воспитательной, методической работы и статуса национальных школ в общегосударственной системе образования. Советская власть формировала единую трудовую школу на основе новых идеологических и организационно-правовых принципов.
Специфика кампании по борьбе с неграмотностью в начале 1920-х гг. состоит не только в её масштабах и темпах, но и в том, насколько она культурно, идеологически и психологически была связана с общим характером и направленностью перемен, происходивших в обществе [Глущенко 2015: 254]. Знаковым решением советского правительства стало отделение школы от церкви на основании Постановления Народного Комиссариата Просвещения от 15 декабря 1917 г. Постановлением Совнаркома от 21 января 1918 г. преподавание религиозных вероучений в государственных и общественных, а также частных учебных заведениях и исполнение религиозных обрядов в школах было запрещено. 30 сентября 1918 г. ВЦИК утвердил «Положение об единой трудовой школе РСФСР. Это решение привело к полному разрыву с предыдущей традицией образования. Положение» подробно и детально описывало организационные, содержательные и идеологические аспекты единой трудовой школы. Эти решения определили на долгие годы политику советской власти в отношении школьного образования. Главным достижением на данном этапе, при отсутствии государственных ресурсов, стало провозглашение бесплатности и всеобщности обучения.
После восстановления советской власти на территории Кубани весной 1920 г. областной Ревком приступил к реализации планов единой трудовой школы. 23 марта 1920 г. В. Черный возглавил отдел народного образования Кубанского исполнительного комитета. Постановление о назначении подписал Председатель временного Кубанского Исполнительного Комитета А. Лиманский [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 6. Л. 1, 3, 4]. Штат отделов народного образования Кубанского края и Черноморской губернии утвердили в количестве 6 чел. [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 9. Л. 21] Областной отдел образования осуществлял руководство школьными и дошкольными учреждениями, местными органами образования, исполнял декреты и приказы НКП РСФСР. В его ведении находились школы I и II ступени, интернаты, опытно-показательные школы, детские колонии, детские площадки, школы-коммуны и подростковые клубы. Коллегия отдела рассматривала вопросы планирования, отчёты отдела и его подразделений и формировала общую политику в сфере народного образования Кубани. Внешкольное дело включало организацию работы изб-читален, библиотек, школ для взрослых, народных домов, клубов для взрослых и подростков, народных университетов, пунктов ликвидации неграмотности, детских домов, а также охрану детства. Штат местных отделов образования состоял из заведующего отдела, инспектора, заведующего политпросветом и ликвидатора неграмотности. Отдельно утвердили штат районных инспекторов: в Краснодарском, Славянском, Кавказском, Майкопском отделах по 6 чел., а в Новороссийском и Ейском отделе по 5 чел. В октябре 1922 г. руководителем областного отдела образования назначили М.А. Алексинского [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 73. Л. 11, 47]. Окончательно структура областного отдела народного образования сформировалась в апреле 1922 г., когда создали юридический отдел [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 111. Л. 10].
2 апреля 1920 г. школьный подотдел Кубанского областного отдела народного образования издал приказ № 7, который положил начало региональной реформы образования. В приказе было отмечено, что школьное образование формируется на основе принципов трудовой и интернациональной школы. Отказались от итоговых экзаменов, выдачи аттестатов и свидетельств об окончании курсов обучения. Взамен выдавали справки об окончании курсов. Школьное образование стало бесплатным. После того как содержание приказа стало известно большей части населения области оно вызывало возмущение и отрицание принципов единой трудовой школы.
Кубано-Черноморский областной отдел образования на основании декрета СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 2 февраля 1918 г. [Декрет… 1942b: 286–287] принял 21 мая 1920 г. решение, в соответствии с которым было запрещено преподавать религиозные учения, а учителей предметников уволить [ГАКК. Ф. Р–102. Оп. 1. Д. 14. Л. 7]. Школы получили распоряжение изъять учебники и литературу религиозного содержания, а также картины и портреты, не отвечавшие идеологии советской школы. Строго предписывали передать церкви специальную литератур или архивировать их, но не уничтожать [ГАКК. Ф. Р–108. Оп. 1. Д. 2. Л. 14]. Вместо старых символов империи в классах появились тексты интернационала и Конституции РСФСР. Государственная комиссия по просвещению ещё в феврале 1918 г. отмечала, что, предоставляя каждому гражданину полную свободу в выборе вероисповедания, государство оставляет за собой право запретить преподавание религиозных вероучений во всех государственных, общественных и частных учебных заведениях, находящихся в ведении НКП РСФСР [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 195. Л. 11].
Изменения в управлении общеобразовательными учреждениями с восстановлением Советской власти в регионе происходили на фоне ухудшения деятельности общеобразовательных школ. В чрезвычайных условиях противостояния с бело-зелёными формированиями школьные здания продолжали использоваться для размещения частей РККА и хранения собранного продовольствия в период продразвёрстки.
Одним из главных направлений деятельности областного отдела образования стало проведение широкой агитационно-пропагандистской работы среди учителей, а именно, организацию мероприятий по ознакомлению с основами советской единой трудовой школы. Этот вопрос активно обсуждали в Екатеринодаре с 28 апреля по 5 мая на I съезде заведующих отдельскими отделами народного образования. Продолжение обсуждения темы единой трудовой школы состоялось 17–19 июня на втором совещание заведующих отделами народного образования [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 198. Л. 16]. Первый съезд работников просвещения Екатеринодарского отдела состоялся 14–19 июля 1920 г., на котором рассматривали переход к единой трудовой школе и план мероприятий к новому учебному году. Летом 1920 г. областной отдел народного образования работал по двум основным приоритетным вопросам: первое, разъяснить содержание школьной реформы и второе, поиск материальных ресурсов для возобновления учебных занятий. Надежда была только на собственные возможности и дополнительную мобилизация средств населения, сельских обществ и профессиональных союзов.
По решению областного отдела образования, к преподаванию в школах I ступени допустили специалистов, окончивших учительские семинарии, двухгодичные или одногодичные педагогические курсы, а также средние учебные заведения и выдержавшие экзамен на звание народного учителя. Могли преподавать школьные работники, не имеющие специальной подготовки, но с общим педагогическим стажем не менее 7 лет. Такая кадровая политика была вызвана острым дефицитом специалистов в сфере образования. Специальным распоряжением областного отдела образования от 4 августа 1920 г. назначили перевыборы в школах I и II ступени. К ним допустили только тех учителей, которые обратились с заявлением в конкурсную комиссию и получили положительные характеристики. Школьных работников, не подавших заявления в комиссию, освобождали от занимаемых должностей. Учителя кубанских станиц находились в тяжёлом положении. Высокие цены на продукты питания и отсутствие заработной платы в течение 2–3 месяцев ставили их на грань выживания. В некоторых населённых пунктах области булка хлеба стоила 400 р., кувшин молока 100 р. и т.д. Ответственные работники народного образования Кубано-Черноморской области оценивали ситуацию как критическую: «Общий крик учителей – дайте нам хлеба или пустите из школы…, мы уйдём в степь батраками, там нас хоть накормят» [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 205. Л. 103 об.]. Кроме того, школьные работники не получали мануфактуры, обуви, а приобретать их на свои средства они не имели возможности.
Учебные занятия проходили лишь 50 % учебных дней. Занятия в школах отменяли из-за отсутствия дров, нехватки одежды, обуви у учащихся, учебной литературы и канцелярских принадлежностей. Так, руководство школьного образования Баталпашинского отдела в своих сообщениях отмечало негативное влияние бело-зелёных отрядов и, что «сельское население требует немедленного перевоспитания». Но даже в таких условиях, когда шли боевые действия, 15 июля 1920 г. организовали первую конференцию руководителей станичных отделов образования. Участники конференции вынуждены были признать, что большая часть школ не готова начать учебные занятия и необходимо провести регистрацию учителей, назначить перевыборы школьных работников и решить хозяйственные вопросы. К середине сентября 1920 г. отдел образования организовал работу 149 школ I ступени (6 не работали) и 21 школы II ступени (3 не работали), в которых обучалось 8 128 чел. [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 205. Л. 5, 97 об.]
Чтобы обеспечить работу образовательных учреждений необходимо было привлечь значительное число школьных работников, имевших опыт работы и педагогическую подготовку. Кроме того, учителя должны были быть лояльными по отношению к советской власти и придерживаться в своей работе идеологических установок РКП(б). Областной отдел народного образования принимает решение об организации курсов переподготовки для преподавателей общеобразовательных школ с учётом новых требований, изложенных в положении о единой трудовой школе. Создали комиссию по разработке новых школьных программ. Одновременно решали хозяйственные вопросы: обеспечивали школы топливом и проводили текущий ремонт школьных зданий. Но даже испытывая организационно-правовые и хозяйственные трудности, областному Ревкому вместе с отделом образования удалось организовать первые учительские курсы, на которых изучали основы трудовой школы, Конституцию РСФСР, содержание внешней политики правительства, а также расширяли знания по методике преподавания. Только за летний период 1920 г. для работников школы I ступени организовали курсы в г. Екатеринодаре, Майкопе, Анапе, Ейске и ст-це Баталпашинской. Создали 15 специальных комиссий для подготовки новых учебных планов. Приказом областного отдела образования в школах учредили педагогические советы, в состав которых вошли родители учеников и представители местного населения. Но главным было то, что в школах вводили принципы трудового воспитания и самообслуживания. Школы получали трудовой инвентарь, выделяли земельные участки – трудовое воспитание учащихся в советской школе приобретало конкретные очертания. При том, что областное руководство признавало: «У нас почти нет школьных работников, психологически воспринявших идею трудовой Советской школы, у нас нет знающих, знакомых с методом работы в трудовой школе, с её требованиями и программой. Перед нами стоит огромная стена косности и непонимания наших задач значительной части омещанившегося, лишённого пролетарского чутья населения, наши школы не оборудованы, тесны, количество их чрезвычайно мало» [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 200. Л. 16 об.].
В сложных условиях роста противостояния большевиков и местного населения Кубано-Черноморской области летом – осенью 1920 г. удалось провести первичный медицинский осмотр учащихся школ и организовать снабжение учащихся одеждой и обувью. В первой половине 1920 г. предпринимаются попытки создать школы-коммуны и школы-колонии, но они не увенчались успехом.
Весной 1920 г. на территории Кубано-Черноморской области по данным отдела народного образования было 1 564 школы, но сведения о количестве учащихся отсутствовали. Основные усилия Кубано-Черноморского ревкома были направлены на возрождение школьного образования в станицах и сёлах области. Работа осложнялась тем, что уже с лета 1920 на Кубани активизировались бело-зелёные отряды. Политические сводки партийных и советских структур свидетельствовали о критической ситуации на местах: «бандиты» захватывали исполкомы, расстреливали советских работников и членов партии большевиков. «Приходится снова и снова налаживать разрушенное, посылать новых людей и т. д.» [ГАКК. Ф. Р–102. Оп. 1. Д. 119. Л. 20]. Но даже в условиях политического кризиса работа по организации школьного образования не прерывалась [ГАКК. Ф. Р–102. Оп. 1. Д. 14. Л. 1]. 7 августа 1920 г. в Кавказском отделе открылся первый съезд по народному образованию, в котором приняли участие до 150 чел. Но дискуссия шла не по вопросам формирования новой советской школьной системы, а по тем проблемам, которые были актуальными для сельских жителей, а именно, продовольственный вопрос, замена денежных знаков и др. Как отмечали инспектора областного отдела народного образования, которые активно посещали такие съезды, на них обсуждали в основном экономические проблемы текущего момента. В Кавказском отделе в 238 школах училось 24 947 учеников. При поверке выяснилось, что до 50 % учащихся не посещают школы. Большое количество пропусков учебных занятий было связано с состоянием здоровья детей. Выборочная проверка по 10 школам показала, что ученики часто болеют тифом, малярией, чесоткой, оспой, корью, дифтерией, скарлатиной и др. Учебные занятия также прекращали в связи с реквизицией школьных зданий (31,2 %), из-за отсутствия топлива (37 %) и военных действий (30 %). Аналогичная ситуация сложилась в Сочинском округе, где ревком 19 мая 1920 г. утвердил отдел народного образования во главе с Самохваловой [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 195. Л. 11]. Весной 1920 г. в Новороссийском округе работали 106 школ, в которых обучали не более 500 чел. Отдел образования признавал, что не имеет точной информации о количестве учащихся в школах округа. С июля 1920 г. образовательные учреждения округа разделили на школы I и II ступени. Так, в Новороссийском округе открыли 67 школ I ступени и 14 школ II ступени, в том числе в г. Новороссийске 24 школы I ступени и 10 – II ступени. Провели регистрацию учителей, которые на новых условиях приступили к исполнению своих обязанностей. Однако не все учителя прошли конкурс, школы по-прежнему испытывали дефицит в педагогических кадрах. В школах I ступени не хватало 57 учителей, а в школах II ступени – 29. Областной продовольственный комитет, учитываю сложную ситуацию с продовольственным, выделял школам округа продукты питания (яиц – 6 000 шт., макарон – 100 пуд, сахара – 46 пуд.) и одежду (ткани – 7567 аршин, детской обуви – 567 пар). Внешкольная работа не проводилась из-за отсутствия средств и кадров, в том числе ликвидация неграмотности взрослого населения. В округе с учётом городского населения было выявлено 2 760 неграмотных граждан, при том, что не один из них не посещал пункты ликвидации неграмотности. Только в 21 школе для взрослых обучали 530 чел. [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 211. Л. 21, 21 об., 38]
Темрюкский отдел народного образования организовали в апреле 1920 г. при непосредственном участии политотдела 9-й Армии. В декабре того же года окончательно сформировали штат и структуру отдела. К началу реформ в Темрюкском отделе были учтены: реальное училище, женская гимназия, мужское высшее начальное училище, женское высшее начальное училище, 2-х классное мужское профессиональнее отделение им. Гоголя, 2-х классное женское профессиональнее отделение, ремесленное мужское училище и частное подготовительное училище (собственник Макарова), а также несколько одно классных училищ. Точные сведения о количестве учеников и учителей отсутствовали. И только в сентябре, к началу учебного года, удалось провести реорганизацию образовательных учреждений, разделив школы на I (12) и II (4) ступени, в которых приступили к обучению 3 000 учащихся. Частное подготовительное училище закрыли [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 236. Л. 40]. Для содержания станичных школ отдела в ноябре создали «Комитеты взаимодействия», но их возможности были ограничены. Например, попытки организовать работу «Комитета» в г. Темрюке оказались безуспешными. В городе вынуждены были закрыть все учебные заведения из-за отсутствия продовольствия. К началу 1921 г. в Темрюкском отеле работали 67 школ I ступени (в 63 школах занятия вели на русском языке, в 2 – на украинском языке, в 2– на греческом языке, в 1 – на немецком языке) и 9 школ II ступени. В школах II ступени занятия проводили только на русском языке. Общее количество учащихся в школах I и II ступени составляло (начало 1921 г.) 6 479 чел.: в I – 5 846 учеников, во II – 633 ученика. В учебном процессе было задействовано 308 учителей. Однако, за первые шесть месяцев 1921 г. было проведено лишь 93 учебных дней из-за отсутствия топлива в зимний период и низкой посещаемости учеников, которые в большинстве представляли беднейшую часть сельского населения.
Очередной этап формирования единой трудовой школы начался решением о переводе школьных учреждений на финансирование из местного бюджета, что привело к кризису реформы образования.
Большевики старались демонстрировать преимущества советской власти, но встречали молчаливое сопротивление сельского населения. Школы не работали, преподаватели не знали, как реализовать принципы единой трудовой школы. Делегаты Кубано-Черноморского областного съезда отдельских подотелов народного образования, который проходил 24 июня 1921 г., признавали, что учителя повсеместно голодают, теряют сознание на уроках и т.д. Руководители местных органов образования в выступлениях предлагали приравнять учителей к рабочим и соответственно организовать их продовольственное обеспечение [ГАКК. Ф. Р–108. Оп. 1. Д. 17. Л. 102, 106]. Местные ревкомы требовали от сельских обществ не только представить кандидатуру учителя школы, но и обеспечить его продуктами питания. Реализовать эти предложения было сложно в условиях военно-политического противостояния на Кубани и Черноморье. К тому же, в регионе не было достаточного количества продовольствия, сказались последствия Первой мировой и Гражданской войны.
Региональная и местные органы власти не могли оказать необходимую материальную помощь образовательным учреждениям, поэтому часть ответственности за их содержание легла на сельские общества. Но, несомненно, главная проблема была в кадрах, которые не отвечали требованиям единой трудовой школы. По мнению областной партийной организации, классовый и сословный состав преподавателей оказывал неблагоприятное влияние на содержание учебного процесса. Необходимо было организовать обучение на педагогических курсах по новой программе, а также определиться с руководящим составом местных отделов образования. На каждого руководителя отдела образования была составлена характеристика. Из 16 руководителей отделов народного образования требованиям соответствовали только двое. Все они были назначены в период с апреля по май 1920 г. и не обладали должным опытом работы, и только один из них, профессор Подтягин, заведующий отделом Майкопского района имел специальное образование [ГАКК. Ф. Р–102. Оп. 1. Д. 119. Л. 25, 28].
Кубано-Черноморская область отличалась многонациональным составом населения, поэтому организация обучения в национальных школах была одной из приоритетных задач. По состоянию на начало 1921 г. в области проживали около 150 тыс. армян, 80 тыс. греков, 2 тыс. поляков и 27 тыс. немцев, латышей и эстонцев. На балансе областного отдела народного образования находилось 120 украинских классов, 70 горских (черкесских), эстонских, польских, 35 немецких, 25 армянских и 20 греческих [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 198. Л. 8]. Количество национальных школ в каждом населённом пункте было пропорционально количеству жителей той или иной национальности. Областной отдел народного образования для решения кадрового вопроса в национальных школах организовал специальные курсы. В дополнение к принятому решению, 21 февраля 1921 г. Областной комитет по проведению всеобщей повинности при Кубчерисполкоме издал приказ № 253 о возвращении преподавателей национальных школ на свои рабочие места [ГАКК. Ф. Р–108. Оп. 1. Д. 22. Л. 10]. Все национальности области получили право открыть школы и организовать обучение на родном языке при условии комплектования классов в количестве 25 учеников. Для координации их деятельности в структуре областного отдела народного образования учредили подотдел просвещения для национальных меньшинств. Однако, ни все национальные школы получали государственную поддержку. Ещё в имперский период в Кубанском крае было запрещено обучение на родном языке, поэтому национальные школы содержались за счёт благотворительных взносов. Только после Октябрьской революции национальные школы получили государственное финансирование. Но основное внимание уделили развитию школ на украинском языке, их материальной поддержке, обеспечению литературой и педагогическими кадрами. Вот что писал в своём отчёте заведующий горской инспекцией С.Х. Сиюхов, который посетил 10 аулов: «Острая нужда во всём. Во многих школах нет парт, досок, пособий, учебников. Учителя русского языка в большинстве гонимые голодом из города в село, за небольшим исключением, горской школы не знают, делом не интересуются, хандрят и бесплодно мечтают о молочных реках и кисельных берегах…» [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 235. Л. 121 а].
Формирование основ советской школы в Кубано-Черноморской области начинается в 1920/21 учебном году в сложных условиях переходного периода от Гражданской войны к мирной жизни. За период с апреля по декабрь 1920 г. удалось ликвидировать разно ведомственность общеобразовательных учебных заведений, организовать совместное обучение девочек и мальчиков и создать централизованное руководство областной школьной системой. Этим процессом руководила местная областная партийная организация большевиков, поэтому образовательная сфера постепенно переходила под контроль партийно-советских органов.
Выводы
По признанию руководства областной партийной организации, отсутствие подготовленных кадров было одной из главных причин, препятствовавших советскому строительству, следовательно, и решению вопроса школьного образования. Ликвидация неграмотности и организация школьного образования была сферой ответственности местных советских органов, поэтому кадровый вопрос для них оставался актуальным весь период 1920-х гг.
После установления советской власти в регионе были приняты меры для улучшения материальной базы школьного образования, открыты ликпункты и школы малограмотности. Эти учреждения обеспечили планами, инструкциями, а также специалистами, для которых организовали курсы повышения квалификации. Организационно-правовое сопровождение реформы образования в начале 1920-х гг. обеспечивали партийные и советские органы.
Вместе с тем, за 1920/21 учебный год не произошло существенных изменений в структуре школьного образования области. Статистические отчёты свидетельствовали о неустойчивости процесса формирования единой трудовой школы. Местные структуры образования находились на стадии формирования и не обладали достаточными средствами и подготовленными кадрами.
На территории области функционировали примерно 900 школ – эти данные были озвучены на I съезде Советов солдатских, рабочих, крестьянских и казачьих депутатов в январе 1921 г., но установить полный контроль за их учебным процессом не удалось. Первоочередной задачей была ликвидация неграмотности среди взрослого населения Кубани и Черноморья, которая составляла примерно 60 %, поэтому все усилия направили на организацию учёта данной категории населения [ГАКК. Ф. Р–102. Оп. 1. Д. 152. Л. 28, 112, 112 об.]. Призывы и планы ликвидировать неграмотность в области к 1922 г. были неосуществимы. Этот лозунг не противоречил общей идее политики военного коммунизма, в основе которой была мобилизационная концепция, позволявшая достичь поставленных целей. В данном случае руководство области переоценило свои возможности. Военно-коммунистических методов было недостаточно для решения проблемы образования детей школьного возраста и ликвидации неграмотности взрослого населения.
Лето 1920 г. было отмечено началом острого военно-политического противостояния большевиков с сельским населением Кубани, что оказало существенное влияние на процесс формирования структуры региональной единой трудовой школы. Вместе с тем, областной организации большевиков удалось выявить наиболее важные аспекты предстоящих преобразований, учесть особенности кадрового состава учителей кубанской школы, сформировать органы управления народного образования и определить содержание учебно-воспитательной и методической работы. Особенностью этого этапа трансформации школьного образования было несоответствие между заявленными обещаниями государства и реальными возможностями. Переход образовательных учреждений на финансирование из местного бюджета с сентября 1921 г. оказал не только негативное влияние на школьную реформу, преодолеть который удалось в 1923 г., но стал своеобразным рубежом первого этапа становления единой трудовой школы на Кубани.
Авторлар туралы
Yuri Yakhutl
Kuban State University
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: a075ca@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6750-4110
Professor of the Department, doctor of historical sciences, associate professor
Ресей, KrasnodarӘдебиет тізімі
- ALMAEV R.Z. Sovetskoe shkol'noe obrazovanie v istoriograficheskikh diskussiyakh postsovetskogo perioda [Soviet school education in the historiographical discussions of the post-Soviet pe-riod]. IN: Prepodavatel' XX vek. – 2020. – № 2. – P. 279–287. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovetskoe-shkolnoe-obrazovanie-v-istoriograficheskih-diskussiyah-postsovetskogo-perioda (date of access: 27.04.2024). (In Russ.).
- ASTAF'EV D.A., GODOVOVA E.V. Istoriografiya istorii shkol'noi povsednevnosti [Histori-ography of the history of school everyday life]. IN: Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriya, pedagogika, filologiya. – 2022. – Vol. 28. – № 1. – P. 8–23. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriografiya-istorii-sovetskoy-shkolnoy-povsednevnosti (date of access: 27.04.2024). (In Russ.).
- AVERBAKH L.L. Na putyakh kul'turnoi revolyutsii [On the path of the Cultural Revolution]. – Moscow: Moskovskii rabochii, 1929. – 200 p. (In Russ.).
- BEL'KOVICH N. Sotsial'no-kul'turnoe stroitel'stvo v SSSR [Socio-cultural construction in the USSR]. – Moscow: Krest'yanskaya gazeta, 1938. – 32 p. (In Russ.).
- BELOVA M.G. Povsednevnaya zhizn' uchitelei [The daily life of teachers] / Edited by M.Yu. Martynova. – Moscow: IEA RAN, 2015. – 228 p. (In Russ.).
- BOGUSLAVSKII M.V. Kontseptual'nye osnovy konservativno-traditsionnoi strategii razvitiya rossiiskogo obrazovaniya [The conceptual foundations of the conservative and traditional strategy for the development of Russian education]. IN: Gumanitarnye nauki i obrazovanie. – 2016. – № 1 (25). – P. 17–21. (In Russ.).
- BOGUSLAVSKII M.V. Metodologicheskie podkhody k analizu protsessa sotsiokul'turnoi modernizatsii rossiiskogo obrazovaniya [Methodological approaches to the analysis of the process of socio-cultural modernization of Russian education]. IN: Osovskie pedagogicheskie chteniya «Obra-zovanie v sovremennom mire: novoe vremya — novye resheniya». – 2014. – № 1. – P. 18–28. (In Russ.).
- BROIDO G.I. V ataku protiv negramotnosti i beskul'tur'ya. (Saratovskii opyt) [In an attack against illiteracy and lack of culture. (Saratov experience)]. – Moscow; Tsentr. sovet o-va «Doloi negramotnost'»; Leningrad: Gosud. izd-vo, 1929. – 112 p. (In Russ.).
- CHARNOLUSKII V. Osnovnye voprosy organizatsii shkoly v" Rossii [The main issues of the organization of the school in Russia.]. – St. Petersburg: Znanie, 1909. – 131 p. (In Russ.).
- CHEKHOV" N.V. Narodnoe obrazovanie v" Rossii s 60-kh" godov" XIX veka [Public educa-tion in Russia since the 60s of the XIX century]. – Moscow: «Pol'za» V. Antik i K°, 1912. – 224 p. (In Russ.).
- CHUGUNOV T.K. Narodnoe obrazovanie v Sovetskom Soyuze i Rossii [Public education in the Soviet Union and Russia]. – Myunkhen: Tsentral'noe ob"edinenie politicheskikh emigrantov iz SSSR (TsOPE). – 36 p. (In Russ.).
- DEINEKO M.M. 40 let narodnogo obrazovaniya v SSSR [40 years of public education in the USSR]. – Moscow: Uchebno-metodicheskoe izdatel'stvo, 1957. – 276 p. (In Russ.).
- Dekret SNK RSFSR «Ob otdelenii tserkvi ot gosudarstva i shkoly ot tserkvi» 23 yanvarya (5 fevralya) 1918 g. [Decree of the Council of People's Commissars of the RSFSR "On the separation of Church from state and school from church" on January 23 (February 5) 1918]. IN: Sobranie uza-konenii i rasporyazhenii rabochego i krest'yanskogo pravitel'stva za 1917–1918 gg. [Collection of legalizations and orders of the workers' and Peasants' government for 1917-1918] / Upravlenie delami Sovnarkoma SSSR. — Moscow: B. i., 1942. — 1483 p. (In Russ.).
- Dekret Soveta Narodnykh Komissarov. Ob organizatsii dela narodnogo obrazovaniya v Rossiiskoi Respublike (Polozhenie) [Decree of the Council of People's Commissars. On the organization of public education in the Russian Republic (Regulations)]. IN: Sobranie uzakonenii i rasporyazhenii rabochego i krest'yanskogo pravitel'stva za 1917-1918 gg. [Collection of legalizations and orders of the workers' and Peasants' government for 1917-1918] / Upravlenie delami Sovnarkoma SSSR. — Moscow: B. i., 1942. — 1483 p. (In Russ.).
- DNEPROV E.D. Chetvertaya shkol'naya reforma v Rossii [The fourth school reform in Russia]. – Moscow: Interpraks, 1994. – 241 p. (In Russ.).
- DNEPROV E.D. Sovremennaya shkol'naya reforma v Rossii [Modern school reform in Russia]. – Moscow: Nauka, 1998. – 463 p. (In Russ.).
- EPSHTEIN M.S. Itogi I Vserossiiskogo s"ezda ODN [The results of the I All-Russian Congress of ODN]. – Moscow: Doloi negramotnost', 1926. – 13 p. (In Russ.).
- GLUSHCHENKO I.V. Sovetskii prosvetitel'skii proekt [Soviet educational project]. IN: Voprosy obrazovaniya. – 2015. – № 3. – P. 246–282. (In Russ.).
- Gosudarstvennyi arkhiv Krasnodarskogo kraya [State Archive of the Krasnodar Territory]. (In Russ.).
- IVANOVA G.M. Sotsial'nye aspekty razvitiya sovetskoi sistemy obrazovaniya v 1950–1960-e gg. [Social aspects of the development of the Soviet education system in the 1950s and 1960s.]. IN: Vestnik slavyanskikh kul'tur. – 2013. – № 3 (29). – P. 25–31. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-aspekty-razvitiya-sovetskoy-sistemy-obrazovaniyav-1950-1960-gg (date of access: 27.04.2024). (In Russ.).
- KHODYREV A.M. Istoricheskie aspekty otechestvennogo obrazovaniya v provintsii [Historical aspects of domestic education in the province]. IN: Model' kul'tury russkoi provintsii v autentichnom, istoriko-tipologicheskom i globalizatsionnom diskursakh / Edited by T.S. Zlotnikovoi, T.I. Erokhinoi, N.N. Letinoi, M.V. Novikova. – Yaroslavl: Izd-vo YaGPU, 2013. – 292 p. (In Russ.).
- KHUDOMINSKII P.V. Razvitie sistemy povysheniya kvalifikatsii pedagogicheskikh kadrov sovetskoi obshcheobrazovatel'noi shkoly (1917–1981 gg.) [Development of the system of advanced training of teaching staff of the Soviet secondary school (1917-1981)]. – Moscow: Pedagogika, 1986. – 182 p. (In Russ.).
- KLITSAKOV I.A. Obshchestvenno – politicheskaya deyatel'nost' sovetskogo uchitel'stva (1917–1937 gg.) [Socio – political activity of the Soviet teaching staff (1917-1937)]. IN: Sovetskaya pedagogika. – 1988. – № 9. – P. 91–96. (In Russ.).
- KOL'TSOV A.V. Kul'turnoe stroitel'stvo v RSFSR v gody pervoi pyatiletki (1928–1932) [Cultural construction in the RSFSR during the First Five-Year Plan (1928-1932)]. – Moscow, Leningrad: Izd-vo AN SSSR. Leningr. otdelenie, 1960. – 208 p. (In Russ.).
- KONSTANTINOV N.A., MEDYNSKII E.N. Ocherki po istorii sovetskoi shkoly RSFSR za 30 let [Essays on the history of the Soviet school of the RSFSR for 30 years]. – Moscow: Ministerstvo prosveshchenie RSFSR, 1948. – 472 p. (In Russ.).
- KRUPSKAYA N.K. Likvidatsiya negramotnosti v derevne [Elimination of illiteracy in the vil-lage]. IN: Kommunisticheskoe prosveshchenie. – 1924. – № 3/4. – P. 125–135. (In Russ.).
- KRUPSKAYA N.K. Pedagogicheskie sochineniya: v 10 t. [Pedagogical essays: in 10 vol.]– Moscow: Izdatel'stvo Akademii pedagogicheskikh nauk, 1960. – Vol. 9: Likvidatsiya negramotnosti i malogramotnosti. – 839 p. (In Russ.).
- KUMANEV V.A. Revolyutsiya i prosveshchenie mass [Revolution and enlightenment of the masses]. – Moscow: Nauka, 1973. – 334 p. (In Russ.).
- KUMANEV V.A. Sotsializm i vsenarodnaya gramotnost': likvidatsiya massovoi negramotnosti v SSSR [Socialism and national literacy: the elimination of mass illiteracy in the USSR]. – Mos-cow: Nauka, 1967. – 328 p. (In Russ.).
- LENIN V.I. Novaya ekonomicheskaya politika i zadachi politprosvetov. Doklad na II Vserossiiskom s"ezde politprosvetov [The new economic policy and the tasks of political circles. Report at the II All-Russian Congress of Political enlightenment]. IN: Lenin V. I. Polnoe sobranie sochinenii [Full composition of writings]. – Moscow: Politizdat, 1977. – Vol. 44. – 725 p. (In Russ.).
- LENIN V.I. Proekt programmy. Punkt programmy v oblasti narodnogo prosveshcheniya [The draft program. The point of the program in the field of public education]. IN: Lenin V. I. Polnoe sobranie sochinenii [Full composition of writings]. – Moscow: Politizdat, 1977. – Vol. 38. – 579 p. (In Russ.).
- LUNACHARSKII A.V. Desyat' let kul'turnogo stroitel'stva v strane rabochikh i krest'yan. Doklad na Vtoroi sessii TsIK Soyuza SSR 4-go sozyva v Leningrade 16 oktyabrya 1927 goda [Ten years of cultural construction in the country of workers and peasants. Report at the Second Session of the Central Executive Committee of the USSR of the 4th convocation in Leningrad on October 16, 1927]. – Moscow: Gosizdat, 1927. – 136 p. (In Russ.).
- LUNACHARSKII A.V. O narodnom obrazovanii: stat'i i rechi za period 1917–1929 godov [On public education: articles and speeches for the period 1917-1929]. – Moscow: Izdatel'stvo Akademii pedagogicheskikh nauk RSFSR, 1958. – 559 p. (In Russ.).
- MONOSZON E.I. Stanovlenie i razvitie sovetskoi pedagogiki, 1917–1987: kniga dlya uchitelya [The formation and development of Soviet pedagogy, 1917-1987: a book for teachers]. – Moscow: Prosveshchenie, 1987. – 220 p. (In Russ.).
- Narodnoe obrazovanie v SSSR. Obshcheobrazovatel'naya shkola. Sbornik dokumentov. 1917–1973 gg. [Public education in the USSR. Secondary school. Collection of documents. 1917-1973] / Edited by A.A. Abakumov, N.P. Kuzin i dr. – Moscow: Pedagogika, 1974. – 560 p. (In Russ.).
- Ocherki istorii pedagogicheskoi nauki v SSSR (1917–1980) [Essays on the history of pedagogical science in the USSR (1917-1980)] / Edited by N. P. Kuzina, M. N. Kolmakovoi. – Moscow: Pedagogika, 1986. – 284 p. (In Russ.).
- PAVLOVA A.N. Materialy shkol'noi perepisi 1911 goda kak istochnik dlya izucheniya sostoyaniya obrazovaniya nerusskikh narodov vostochnoi chasti Rossii v nachale XX veka [Materials of the school census of 1911 as a source for studying the state of education of non-Russian peoples of the eastern part of Russia at the beginning of the XX century]. IN: Vestnik Chuvashskogo universi-teta. – 2017. – № 2. – P. 115–120. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-shkolnoy-perepisi-1911-goda-kak-istochnik-dlya-izucheniya-sostoyaniya-obrazovaniya-nerusskih-narodov-vostochnoy-chasti-rossii (date of access: 27.04.2024). (In Russ.).
- PINKEVICH A.P. Sovetskaya pedagogika za desyat' let (1917–1927) [Soviet pedagogy in ten years (1917-1927).]. – Moscow: Rabotnik prosveshcheniya, 1927. – 146 p. (In Russ.).
- PLYASOVSKIKH V.S. Politika KPSS v oblasti narodnogo obrazovaniya: Opyt razrabotki i realizatsii [The CPSU policy in the field of public education: Experience in the development and implementation]. – Moscow: Mysl', 1987. – 454 p. (In Russ.).
- PYKHALOV I.V. Obrazovanie v Rossiiskoi imperii: fakty i mify [Education in the Russian Empire: facts and Myths]. IN: Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana). – 2011. – № 2. – P. 196–200. (In Russ.).
- ROZHKOV A.YU. Istoriya sovetskogo detstva [The history of Soviet childhood]. IN: Vestnik Permskogo universiteta. Seriya Istoriya. – 2013. – № 2 (22). – P. 126–138. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-sovetstkogo-detstva (date of access: 27.04.2024). (In Russ.).
- SAPRYKIN D.L. Obrazovatel'nyi potentsial Rossiiskoi Imperii [The educational potential of the Russian Empire.]. – Moscow: IIET RAN, 2009. – 176 p. (In Russ.).
- SOLOV'EV I.M. Vseobshchee obyazatel'noe obuchenie za granitsei [Universal compulsory education abroad]. – Moscow: Rabotnik prosveshcheniya, 1930. – 96 p. (In Russ.).
- SYCHEVA N.V., SYSOLYATINA A.A. Pravovoe obespechenie pervykh shagov sovetskoi vlasti v likvidatsii bezgramotnosti [Legal support for the first steps of the Soviet government in the elimination of illiteracy]. IN: Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universi-teta. – 2021. – № 1 (49). – P. 83–88. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-obespechenie-pervyh-shagov-sovetskoy-vlasti-v-likvidatsii-bezgramotnosti (date of access: 27.04.2024). (In Russ.).
- VEIKSHAN V.A. Sovetskaya proizvodstvenno-trudovaya shkola [The Soviet industrial and Labor School]. – Moscow: Rabotnik prosveshcheniya, 1928. – Vol. 1. – 169 p. (In Russ.).
- VESELOV D.R. Velikii Oktyabr' i stanovlenie narodnogo obrazovaniya [Great October and the formation of public education]. – Moscow: Znanie, 1987. – 62 p. (In Russ.).
- VESELOV M.O. 15 let bor'by za pogolovnuyu gramotnost' v Moskovskoi oblasti [15 years of struggle for universal literacy in the Moscow region]. – Moscow: Tip. Gosizdata, 1932. – 31 p. (In Russ.).
- VYAZEMSKII E.E., STRELOVA O.YU. Kak segodnya prepodavat' istoriyu v shkole. Posobie dlya uchitelei [How to teach history at school today. A manual for teachers]. – Moscow: Prosveshchenie, 1999. – 97 p. (In Russ.).
- ZEMLYANAYA T.B., PAVLYCHEVA O.N. Pravovoe regulirovanie obrazovatel'noi deyatel'nosti v 60–70-e gg. XX veka [Legal regulation of educational activities in the 60-70s of the XX century]. IN: Zhurnal nauchno-pedagogicheskoi informatsii. – 2011. – № 11. – P. 71–88. (In Russ.).
Қосымша файлдар