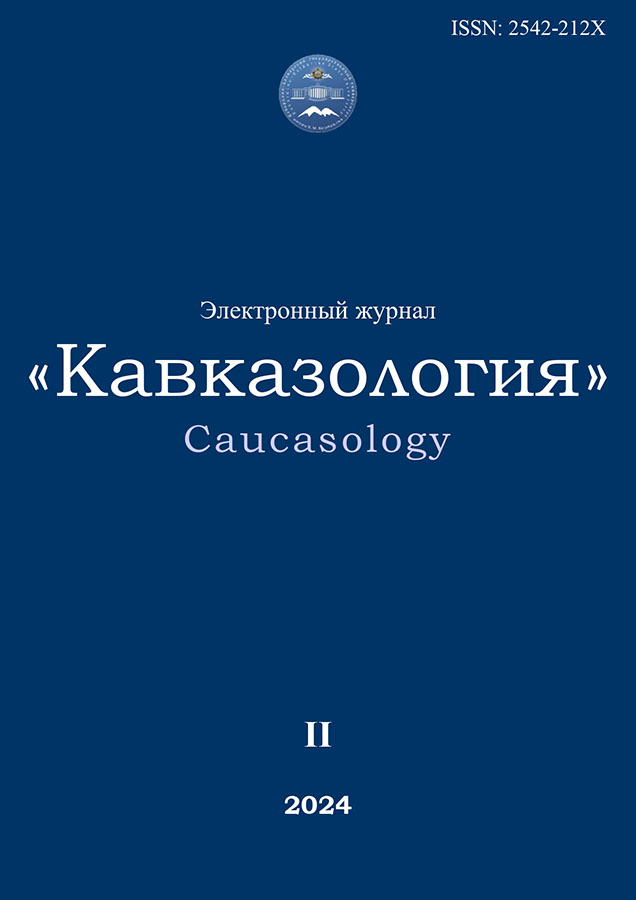Prerevolutionary historiographical sources on the administrative and legal integration of the North Caucasus to Russia in the second half of the XIX – early XX centuries
- 作者: Kuzminov P.A.1,2, Tlostanov E.Z.2
-
隶属关系:
- Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov
- Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
- 期: 编号 2 (2024)
- 页面: 222-247
- 栏目: Историография, источниковедение, методы исторического исследования
- ##submission.dateSubmitted##: 29.04.2025
- ##submission.datePublished##: 15.12.2024
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/289936
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2024-2-222-247
- EDN: https://elibrary.ru/HHGPOR
- ID: 289936
如何引用文章
全文:
详细
The article examines the legality of using pre-revolutionary authors’ works not only as historical but also as historiographical sources, drawing on materials from Russia’s administrative and legal policy in the North Caucasus in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries. This approach opens up new avenues for extracting information from previously known scientific works, because, in addition to data on the topic under study, the historiographer considers the author’s personality, level of education, intelligence, literary quality of the text, the goals of the article or book, the concepts defended, the ideological positions of the publication/publisher’s editorial board, and so on. This approach expands the informative significance of the publications under study, helps to comprehend their place among other works on the research topic.
The article assesses the study’s core concept – “historiographical source” – in regional and all-Russian historiography. The analysis of the potential of the materials presented in pre-revolutionary historiography allows the entire corpus of historiographical sources to be divided into several hierarchical groups: monographs (books), collections of documents, articles summarizing works, reviews, obituaries, reference materials, documents of local lore organizations, and so on. This article employs certain categories of historiographical sources.
The viewpoint on dividing the pre-revolutionary periodical press into two major trends: officially protected and liberal democratic. The contribution of the most prominent scientists and local historians to the development of a historiographical tradition on the investigated topic is evaluated. Materials from the pre-revolutionary periodical press are revealed, containing information about the evolution of views and scientific concepts of a number of authors, which determine the sound of the problem under discussion, bear the imprint of time, and allow a closer look at the flavor of the era under study.
全文:
Административно-правовая политика России на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале XX в. – одна из наиболее востребованных проблем современного кавказоведения, интерес к которой диктуется возрастающим вниманием современного российского общества к историческому опыту взаимодействия российского правительства с многочисленными народами империи. Тема такого исторического звучания не могла остаться незамеченной исследователями, поэтому ей посвящены десятки диссертаций, монографий, сборников документов, сотни статей, причем написаны они не только историками, но и юристами, философами, политологами, культурологами. Однако историографические итоги изучения данной темы пока не подведены. Как правило, авторы уделяли внимание предшественникам только в небольших историографических обзорах кандидатских и докторских диссертаций [Сатушиева 2003; Омаров 2004; Манкиева 2006; Джамалудинов 2012; Сердюк 2015 и др.]. В них, как правило, только указывалась информация о наличии/отсутствии материала по теме исследования в регионе, из-за чего в них отсутствует, за редким исключением, анализ концептуальных предпочтений авторов, работы которых посвящены рассматриваемой теме.
Становление новой по форме и содержанию историографической традиции/культуры, добавление новых акцентов в историографию, методологический плюрализм, вошедший в отечественную науку в начале 90-х гг. XX в. привел к всплеску научного интереса, позволил глубже реконструировать многогранное прошлое, содействовал тому, что современные региональные исследования стали уделять серьезное внимание историческим нарративам как профессиональных ученых, так и любителей истории.
Эти процессы затронули и кавказоведение. В последние годы наметился определенный сдвиг в этом направлении. Появился ряд историографических работ, в которых дана оценка дореволюционного кавказоведения и его достижений в изучении дореволюционного прошлого. Анализ имеющегося предметно-тематического наследия по исследуемой проблеме показывает, что она получила определенную концептуальную разработку в трудах А.Х. Борова [Боров 2007; Боров 2021], П.А. Кузьминова [Кузьминов 2008a; Кузьминов 2008b; Кузьминов 2009; Кузьминов 2011], М.Е. Колесниковой [Колесникова 2004; Колесникова 2011a; Колесникова 2011b; Колесникова 2012; Колесникова 2014a; Колесникова 2014b; Колесникова 2014c], А.Х. Абазова [Абазов 2017], А.А. Журтовой [Журтова, Максимчик 2017], Т.А. Колосовской [Колосовская, Ткаченко 2021] и др. Данная статья продолжает преемственность этой историографической традиции, акцентируя внимание на историографических источниках по истории административно-правовой политики России в регионе.
Объектом исследования являются достижения дореволюционного кавказоведения в изучении народов Северного Кавказа во второй половине XIX – начале XX в. Предметом исследования стали историографические источники, в которых освещались стержневые вопросы административно-правовой политики России в крае.
Изучение истории административно-правовой жизни дореволюционного Кавказа невозможно без определения четких смысловых границ дефиниции – «историографический источник», проследить развитие авторских трактовок которой необходимое условие для решения исследовательских задач.
Принципиальных теоретико-методологических отличий категорий «историографический источник» и «историографический факт» в академической науке и региональной/провинциальной историографии нет. Но если в центре исследователи заняты анализом историософских воззрений крупных ученых, посвятивших изучению проблемы многотомные издания, то в провинции, зачастую, довольствуются публикациями в прессе, небольшими статьями малоизвестных авторов, рецензиями, записками путешественников, путевыми наблюдениями, фиксирующими те или иные изменения в политике России на Кавказе.
Особенностью дореволюционного формирующегося кавказоведения было отсутствие на Кавказе, за некоторым исключением, профессионалов с историческим образованием. Здесь не было академий, университетов, научных учреждений, которые бы системно изучали историческое прошлое горцев. О качестве политики империи в регионе писали, в основном, офицеры Кавказского корпуса, чиновники, публицисты, журналисты, путешественники, которые на основе личных впечатлений, чужих рассказов, публикаций СМИ, или некоторых подборок официальных документов описывали известные им факты и события. Это налагает особый отпечаток на их работы. В них часто звучат противоречивые суждения, отсутствуют теоретические обобщения, искажаются факты.
Имеем ли мы право эти «зарисовки натуры» воспринимать как полноценный «строительный материал» науки? Отождествлять их с историографическими источниками и фактами? По нашему мнению, да.
В качестве примера отметим, что «многие исторические концепции, например концепции французской буржуазной революции конца XVIII в., – писал академик А.Л. Нарочницкий, – впервые сформулированы в публицистике, памфлетах, прессе того времени» [Нарочницкий 1973: 7]. Установлено, что эффективность развития и распространения научных взглядов и представлений определяется не только особо выдающимися исследованиями, которых, как правило, не бывает много. Тенденции развития науки обнаруживаются, зачастую, яснее в периодических изданиях, в дискуссиях, в памятниках общественной публицистики [Косминский 1963: 10]. Приводимый нами материал, очевидно, подтверждает эту мысль известного медиевиста.
Для познания «климата» и особенно «микроклимата» науки необходимо, – подчеркивал один из патриархов советского источниковедения и историографии С.О. Шмидт, – последовательно изучать рядовые историографические факты, типичные для той или иной эпохи: «забытые» имена и издания, научные общества и учреждения, систему распространения исторических представлений [Шмидт 1976: 256]. Опираясь на эти методологические обобщения советских историков в выборе историографических источников, мы предлагаем свой взгляд на изучаемую проблему.
Словосочетание «историографический источник» стало употребляться в работах историков/историографов в середине XX в., а актуализировалась проблема в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в., когда в отечественной науке состоялась известная дискуссия (г. Калинин, 1980 г.) о значения такого научного понятия как «историографический факт». Деконструкция этого концепта привела к обоснованию понятия «историографический источник», который в значительной степени обязан своим происхождением советской историографической школе, связанной с определением объектно-предметного пространства для нового суждения.
В научной литературе, посвященной историографическим источникам, предлагались различные определения для данной дефиниции: «под историографическим источником следует подразумевать любой исторический источник, содержащий данные по истории исторической науки» [Нечкина 1980: 102–103]. Или же «историографическими источниками являются те исторические источники, которые определяются предметом историографии и несут информацию о процессах, проистекающих в исторической науке и в условиях ее функционирования» [Зевелев 1987: 120] и т.д. С.О. Шмидт и его последователи утверждали, что «историографическим источником можно назвать всякий источник познания историографических явлений (фактов)» [Шмидт 1997: 185].
Итогом обсуждения проблемы стало признание большинством специалистов целесообразности расширительного толкования категории «историографический источник», которое включало в себя не только труды историков, но и другие формы исторических источников, содержащих сведения о развитии науки, что, с одной стороны, закрепило неизбежность дальнейшей эволюции данного понятия вслед за изменением предметных рамок самой историографии, но, с другой, препятствовало консолидированному определению историографического источника.
Смена научных парадигм в изучении отечественной и региональной истории, происходящая в последние десятилетия свидетельствует, что в науке формируется теоретико-методологическое разнообразие, которое требует от нынешнего поколения ученых-кавказоведов решения актуальных задач переосмысления опыта научных изысканий прошлого, анализа концептуального багажа по ряду историографических проблем и интерпретаций, а также осмысления ключевых понятий историографии.
Сегодня содержание категории «историографический источник» и его понимание обогащается новыми взглядами и приемами работы с ним, что стало серьезным поводом для продолжения научного поиска в области историографического источниковедения. В этом отношении справедливо замечание В.Д. Камынина, писавшего, что «можно долго призывать историографов к тому, чтобы «договориться о терминах», указывать на то, какой чрезмерный вред наносит разноголосица историографической науке в целом и т.д. Однако, следует обратить внимание, что каждое поколение историографов фактически проходит через один и тот же дискурс в обращении к теоретическому обоснованию понятия историографический источник» [Камынин 2014: 125].
Анализ современного историографического процесса показывает, что в науке преобладают два взаимодополняемых подхода к определению историографического источника. Первый: «историографический источник – это то, откуда извлекают информацию, пригодную для конструирования историографического процесса» [Румянцева 2015: 508].
С точки зрения второго подхода, историографическими источниками являются «произведения историков, которые реализуют функции презентации и позиционирования исторического знания» [Румянцева 2015: 509], поскольку он «ориентирует исследователей выявлять целеполагание автора исторического труда, сознательно осуществляющего акт историописания, и выполнявшего тем самым определенную функцию в социуме» [Румянцева, Маловичко 2017: 91].
По мнению М.Е. Колесниковой, «историографические источники имеют особые информационные особенности, которые передают личное отношение создавшего их автора к описываемым событиям. Вместе с тем они не только интерпретируют, но и достаточно точно воспроизводят исторические процессы или явления» [Колесникова 2014c: 317].
Главное, на наш взгляд, состоит в том, что труды провинциальных историков, любителей истории, краеведов, как и работы профессионалов исторической науки, сохраняют для потомков многогранный по форме и содержанию материал, позволяющий не только воссоздать историческое прошлое народов Северного Кавказа, но увидеть сам процесс «творения» исторической науки, поскольку ее создавали, реконструировали не только корифеи науки, но и множество разных людей в Тифлисе, Екатеринодаре, Владикавказе и др. [Колесникова 2014b: 35].
По нашему мнению, понимание историографического источника в интерпретации М.Е. Колесниковой позволяет качественнее произвести историографический анализ административно-правовых изменений на Северном Кавказе в исследуемый период.
Изучение историографических источников, представленных в дореволюционной историографии, дает возможность, вслед за А.В. Клименко, разделить корпус историографических источников на ряд групп, расположенных в иерархической последовательности: монографии (книги), сборники документов, статьи, обобщающие труды, рецензии, справочные материалы, документы краеведческих организаций и др. [Клименко 2003: 23].
В массе документальных материалов, с которыми работает историк в Северокавказском регионе, М.Е. Колесникова выделила блок историографических источников кавказоведения: тексты статей и книг провинциальных историков, историков-любителей, краеведов, краеведческие описания (историко-топографические, историко-статистические, статистико-этнографические), произведения северокавказских просветителей, общественных деятелей и писателей XIX в., справочные книжки, путеводители, составленные исследователями Северного Кавказа, работы иностранных авторов, побывавших в регионе во второй половине XIX в., некрологи, рецензии и др. [Колесникова 2014c: 317–320]. Но в отличии от вышеназванного автора, которая только перечислила фамилии краеведов, историков, просветителей, работы которых являются историографическими источниками, мы предлагаем беглый разбор их позиций в изучении административно-правовой политики в исследуемый период. Более детальный и комплексный анализ, впереди. И.С. Тахушева считает, что в круг историографических источников необходимо включить «журнальные статьи дореволюционного прошлого, которые фиксировали конкретные сюжеты жизни горцев Кавказа» [Тахушева 2024: 3].
Солидаризируясь с мнением вышеуказанных исследователей, отметим, что в данной статье использованы только отдельные виды историографических источников.
Присоединение кавказской окраины к Российской империи шло одновременно со складыванием российского кавказоведения. Так, в 1851 г. в столице Кавказского наместничества г. Тифлисе был открыт Кавказский научный отдел Императорского русского географического общества тесно связанный с российскими военными властями и непосредственный участник разработки законопроектов, касающихся управления народами Кавказа, с одной стороны, и, в то же время, активный собиратель устных источников, фольклора, с другой стороны [Мудрова 2020: 19].
В условиях Кавказской войны, офицеры Отдельного Кавказского корпуса и прикомандированные чиновники, выполняя задачи Генерального штаба, собрали значительный объем социально-экономических, этнографических, политических и военно-топографических сведений о Кавказе, отложившихся в фонде ВУА Военно-исторического архива (РГВИА) [Боров 2007: 33; М.Е. Колесникова, 2011: 181–228]. Эти материалы несли объективную информацию обо всех сторонах жизни северокавказских народов и служили для Петербурга одним из источников для принятия компетентных решений по задуманной программе административно-судебных реформ, основанных на «понимании самобытности местных народов и неэффективности военных походов по их включению в политико-правовое пространство Российской империи» [Боров 2007: 33-34].
Параллельно с военными мероприятиями шел процесс организации соответствующих научных учреждений, которые могли бы систематизировать и ввести в научный оборот большое количество источниковедческого материала. Так, 16 февраля 1864 г. начальник Главного управления кавказского наместника барон А.П. Николаи писал: «не без основания по сие время раздаются у нас жалобы на недостаток сведений об этой обширной и разнохарактерной части нашего отечества, сведений серьезных, добытых из официальных актов, которые во всех образованных странах считаются достоверными источниками» [Предписание 1864].
Для устранения этого недостатка по инициативе управленческого истеблишмента, коллективов единомышленников или отдельных энтузиастов в Тифлисе, Владикавказе, Екатеринодаре, Ставрополе, Темир-Хан-Шуре были открыты различные государственные и общественные организации, собиравшие и публиковавшие самую разнообразную информацию о горских народах. К их числу можно отнести статистические комитеты, Общество любителей изучения Кубанской области, Кубанское общество любителей изучения казачества, Терское общество любителей казачьей старины, Ставропольское общество для изучения Северо-кавказского края, Ставропольская губернская ученая архивная комиссия, редакции газет «Ставропольские губернские ведомости», «Терские ведомости», «Кубанские войсковые/областные ведомости», периодических изданий: «Сборника сведений о кавказских горцах» и многих других. Их активная просветительская и научная деятельность стала существенным фактором, оказавшим влияние на становление дореволюционной историографической школы. Однако, по справедливому замечанию М.Е. Колесниковой, достижения историописателей второй половины XIX – начала XX в. были практически не востребованы отечественной наукой в ХХ столетии [Колесникова 2011: 17].
Первыми среди исследователей, работы которых имели целью обосновать методы, способы и формы бюрократического управления на Кавказе, были представители «военно-исторической школы» (В.А. Потто, С.С. Эсадзе, И.С. Чернявский и др.), связанные с высшими эшелонами власти на Кавказе и имеющие доступ к официальным документам и архивным сведениям. Содержание их работ раскрывает важные вопросы политической истории региона, к числу которых отнесем историю становления российских органов власти сначала в Грузии, затем в Предкавказье, позднее в горах. По мнению Т.А. Колосовской и Д.С. Ткаченко [Колосовская, Ткаченко 2021: 9], именно эти авторы заложили «становой хребет» в исследовании региона, позволив персонифицировать феномен российского кавказоведения XIX в.
Н.Ф. Дубровин в своем многоплановым, восьмитомном историческом сочинении [Дубровин 1871–1888] по истории установления российского владычества на Кавказе, написанной с позиций официально-охранительной историографии, собрал обширный круг документального материала об общественно-политическом устройстве, взаимоотношениях и особенностях жизни горцев кавказской периферии, выйдя, таким образом, за рамки изначально планировавшейся военной тематики. С характерным для многих дореволюционных авторов подходом он подчеркивает значимость поставленных правительством целей установления российской администрации на присоединенных национальных окраинах страны. Этот труд, по мнению самого автора, снабжает кавказский военно-чиновничий аппарат ценными сведениями по управлению горными районами Кавказа, так как он проливает свет на характер взаимоотношений между горцами и русским населением, что для успешного управления совершенно необходимое условие [Дубровин 1871: 34].
В 1890 г. Л.А. Зиссерман издал трехтомный труд [Зиссерман 1890], посвященный жизни и деятельности наместника Кавказа, князя Александра Ивановича Барятинского. Автор представил свою работу в широком контексте политической истории региона, перечислив основные вехи биографии А.И. Барятинского в ходе проводимых военных и гражданских мероприятий наместника. Освещая его реформаторскую деятельность, в юности близкого друга императора Александра II, Зиссерман анализирует процесс административно-территориального переустройства Северного Кавказа и те закономерные трудности, сопровождавшие этот сложный, переходной этап в истории, когда активные преобразования «положили начало порядку вещей, при котором устранялись главные затруднения, препятствовавшие до сих пор достижению правительственных целей на Кавказе» [Зиссерман 1890: 93].
Представители охранительного направления В.Н. Потто, П.И. Чернявский и другие полностью поддерживали имперскую политику во всех её проявлениях. П.И. Чернявский, освещая события на Кавказе в годы правления Александра II, идеализировал политику русских властей на Кавказе [Чернявский 1898]. Вся риторика автора сводилось к утверждению, что «военные мероприятия доставили краю полное спокойствие», а «преобразования и улучшения военно-административные установили порядок, совершенство в войсках, возможную цивилизацию в туземных народах и положительное благосостояние в крае» [Чернявский 1898: 61].
В.А. Потто, который в силу обстоятельств в середине 1880-х гг. оказался отстранён от активной служебной военной деятельности, всецело посвятил себя изучению истории Кавказа и военных подразделений, активно участвующих в военных действиях против горцев. В четырехтомном историческом труде [Потто 1901-1908] собрал сведения, имеющие непреходящее значение для изучения темы отношений России и Кавказа в период, когда возросла необходимость распространения российской юрисдикции на горцев. Широко известны слова В.А. Потто, писавшего, что «дряхлеющие под знойным солнцем юга народы жаждут прохладной тени русского скипетра» [Потто 1901. Т. 1: 5].
Большой интерес представляют труды известного кавказоведа Семена Спиридоновича Эсадзе, представителя имперской бюрократии, который детально осветил формируемую систему управления в регионе с позиций военно-административной элиты на Кавказе. Его двухтомный труд [Эсадзе: 1907], посвященный истории административного управления Северным Кавказом, был одной из первых попыток глубокого осмысления этого опыта и его результатов. Труд включает в себя как равноценную по объему и значению документальную часть, так и комментарии к ней. С. Эсадзе подчеркивал сложность взаимодействия традиционных горских институтов власти с царской административной практикой. Значительное место он уделил становлению судебной системы и причинам сохранения судопроизводства по адатам и шариату. Во втором томе работы дана характеристика основных аспектов деятельности ведущих лиц российской власти и новых учреждений во время проведения реформ на Кавказе. При этом основное внимание автор уделил обоснованию необходимости установления специфической системы военно-народного управления, суть которой сводилась к сочетанию военных и гражданских принципов управленческой практики. С. Эсадзе обосновывает правильность официально-охранитель-ной оценки об «органическом единении горских народов с Россией», которое «должно было произойти посредством установления над местным населением твердой правительственной власти» [Эсадзе 1907: 448].
Важным типом историографических источников, как уже сказано, были литературные труды ученых и исследователей региона в значении синонимичном современному понятию «краеведение». С середины XIX в. эти работы становятся массовыми в познании региональной истории, поскольку «без изучения трудов ученых нет истории исторической науки, как без изучения произведений писателей нет истории литературы» [Нечкина 1985: 503]. В силу своей специфики краеведение того времени, подчеркивает Э.А. Шеуджен, стало «своеобразным интеллектуальным мостом, соединившим интересы научного поиска, практического использования полученных результатов и предметной культурно-просветительской деятельности» [Шеуджен 2014: 127].
Один из крупнейших дореволюционных исследователей Северного Кавказа и Востока, председатель Кавказской археографической комиссии, ориенталист А.П. Берже опубликовал ряд работ [Берже 1858; Берже 1879; Берже 1883], в которых была дана краткая, но достаточно точная характеристика топографической, этнографической, военно-статистической и административной информации о народах Центрального Кавказа. Несмотря на универсальный характер очерков Берже и обилие фактического материала, они представляют собой материал скорее описательного, нежели исследовательского характера. Эти работы по своему концептуальному содержанию правомерно отнести к официальному направлению в историографии, подчеркивающему значимость имперской политики на Кавказе, которая была несомненным благом для «полудиких» горских племен [Берже 1882: 345].
Значительным корпусом исторических, а в нашем понимании и одновременно историографических источников, являются опубликованные официальные письменные материалы и документы, об основных направлениях административно-правовой политики России на Северном Кавказе изучаемого периода, поскольку они отражают воленс-ноленс личность составителя, цели его публикации, допуск к архивохранилищам и др. Опубликованные собрания документальных материалов представляют собой комплекс правительственных и общественных инициатив в деле возможных вариантов модернизации всей административно-правовой системы в регионе и включают в себя законодательные акты, указы и распоряжения правительства, отражающие государственно-правовые нормы и официальную позицию властей в вопросах государственного управления.
Крупный вклад в решение проблемы системного расширения документальных исторических источников о российско-горских отношениях внесла известная Кавказская археографическая комиссия (АКАК), итогом работы которой стала публикация «богатейшего собрания разнообразных сведений по развитию на Кавказе гражданского управления и постепенного присоединения к России разных владений, образовавших собой Кавказское Наместничество в нынешних его пределах» [Предписание 1864: 3]. За 40 лет целенаправленной работы Комиссии (1864–1904 гг.), подчеркивают А.А. Журтова и А.Н. Максимчик, «было опубликовано 16057 документов, размещенных в 12 томах по истории российско-кавказских отношений XIV–XVIII вв. и российского управления краем (1799–1862 гг.)» [Журтова, Максимчик: 301–302], ставших важнейшим хрестоматийным источником административно-правовых преобразований в крае.
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ) один из важнейших источников систематизированных документов и законодательных актов для раскрытия заявленной темы. Второе и Третье собрание законов, содержит ряд актов, посвященных проблемам русско-кавказских отношений и строительству начал российской гражданственности на Кавказе с 1825-го по 1916-й гг. Группа кавказоведов, под руководством профессора Д.Ю. Шапсугова, готовит их к изданию.
Огромную ценность по истории российско-кавказских отношений представляет комплекс таких законодательных актов, как Всеподданнейшие отчеты наместников Кавказа и Главнокомандующих Кавказской армией, начальников Дагестанской, Кубанской и Терской областей, правила и инструкции для горских словесных судов Кубанской и Терской областей и др., которые опубликованы только частично и ждут своего археографа. Этот блок документальных источников емко отражает имперскую административную практику на Северном Кавказе и позволяет проанализировать государственную стратегию в отношении горцам, выявить направление и приоритеты законотворческой деятельности со стороны высших звеньев административного аппарата по отношению к горским народам, установить подсудность и иерархию судебных учреждений и правовых институтов.
Высокий научно-исследовательский потенциал данного комплекса документов/историографических источников, дает возможность оценить вклад их составителей в концептуальное осмысление российской политики на Кавказе, поскольку «в делопроизводственном материале дореволюционного времени мы всегда можем различать несколько пластов, отражающих не только иерархию бюрократического аппарата... но и реальные жизненные обстоятельства, которые так или иначе влияли на возникновение этих пластов...» [Литвак 1979: 5].
Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе (1882–1890 гг.) А.М. Дондуков-Корсаков по итогам управления регионом опубликовал семидесяти страничную записку [Дондуков-Корсаков 1890], в которой привел статистические сведения о проектах введения воинской повинности у горцев, системе гражданского управлении Кавказа и т.д. В ней он дал развернутый отчет о результатах своей деятельности и сопроводил его многочисленными предложениями по переустройству края. В качестве конечной цели предстоящих изменений князь называет «упрощение настоящей сложной административной системы управления Кавказом, возможное слияния управления с общими учреждениями империи; значительное, вследствие этих мер, сокращение расходов по Кавказу, обременяющих в настоящее время государственный бюджет» [РГИА Ф. 932. Оп. 1. Д. 392. Л. 1–1 об.]. К примеру, он охарактеризовал систему военно-народного управления, как явный анахронизм, утративший к концу XIX века свое прежнее значение, и предложил заменить ее на систему общеимперских учреждений. Автор «Записок» призывает ликвидировать пережитки Кавказской войны путем дальнейшего развития экономических отношений, гражданского образования и пропаганде «правильного» устройства быта т.е. русификации населения региона.
Историографическую значимость имеет и записка наместника И.И. Воронцова-Дашкова [Воронцов-Дашков 1907], подготовленная для императора Николая II по итогам управления краем в годы первой русской революции, которая воплощает уникальный опыт осмысления происходивших перемен на Кавказе. Автор «Записки» был не только наместником, т.е. высшим представителем российской власти в крае, но и ветераном Кавказской войны, имевшем богатый опыт управления регионом и понимающим особенности кавказской действительности. В ней он осветил социально-экономическое положение горских народов, обосновал причины обострения политической обстановки, отстаивал необходимость проведения дальнейших реформ. Он считал опасным проводить мягкую политику применительно к такому сложному и специфическому региону как Северный Кавказ и потому был сторонником увеличения полномочий у лиц, олицетворяющих собой власть в крае, «которая, сосредоточивая в себе до известной степени полномочия министров, была бы способна согласовать в своих решениях начала общегосударственной политики с местными потребностями, могла бы удовлетворять последние быстро, по возможности, в момент их возникновения, и имела бы право возбуждать перед законодательными учреждениями империи вопросы о местных нуждах, вне зависимости от личных взглядов на них представителей центрального правительства» [Воронцов-Дашков 1907: 158].
Российская историко-правовая школа занимала лидирующие позиции в европейском историографическом пространстве. Поэтому не случайно, что ее представители оставили немало работ, посвященных изучению правовой культуры в северокавказском регионе.
К их числу мы относим работы историка-правоведа В.Б. Пфафа, немца по происхождению, получившего высшее образование в Лейпциге, с 1859 г., жившего в России [Пфаф 1870]. В 1865 г. он защитил диссертацию на степень доктора права при Одесском университете по теме: «О формальных договорах древнего римского права». На Кавказе ученый жил с 1869-го по 1874 г., где служил учителем географии и истории во Владикавказской, а затем в Тифлисской гимназиях, избирался членом распорядительного общества Кавказского отдела Императорского Русского географического общества [Васильева 1975: 42]. Живя во Владикавказе, он объездил осетинские аулы, где изучил обычное право осетин и их судопроизводство, исследовал роль административных реформ, проводимых российскими властями. В сфере его исследовательских интересов – реформы аульного управления в Осетии и проблема аккультурации правовых норм горцев с не свойственного кавказскому правосознанию российских политико-правовых порядков.
К этому течению примыкают и работы Н.Ф. Грабовского [Грабовский 1876] – офицера Кабардинского округа, работавшего в административном аппарате Кабардинского округа, который проводил в Кабарде и Балкарии в жизнь правительственную политику [Кузьминов 2008: 399]. Значительный объём в своих работах он отвел деятельности кавказской администрации, ее позитивным, а иногда и негативным действиям. Опираясь на материалы судопроизводства в кабардинском округе, автор обрисовал деятельность ранних российских судебных институтов, динамику судебно-правовых реорганизаций в Кабарде с XVIII века по 60-е гг. XIX в. Первым в историографии Н.Ф. Грабовский поставил вопрос о формировании источниковой базы для изучения системы судопроизводства в крае. Признавая насильственный характер присоединения Кабарды к России, он делает вывод, что новая правовая система оказала благотворное влияние на социально-экономическое развитие Кабарды [Грабовский 1876: 200].
Интересна работа Ф.И. Леонтовича, которая служит прекрасным источником по исследованию правовой жизни горских народов Терской области [Леонтович 1882]. Составитель двухтомного труда не только обнародовал адаты горцев, но и дал их теоретико-методологическую классификацию, привел обширные комментарии к ним, теоретически обобщил нормы обычного права, проанализировал партикуляризм обычного права горцев, определил источники их формирования. Оценивая итоги вхождения Северного Кавказа в состав России, он писал, что «это сближение смягчило в значительной степени старый партикуляризм горских адатов и повело к уничтожению многих обычаев горцев, а главное – отразилось в общем ограничении в судебно-административной практике местных адатов в противовес мусульманскому праву и русскому законодательству» [Леонтович 1882: 24].
Особое место среди публикаций историко-правового направления, в которых анализируется роль и место Северного Кавказа в правовой системе России, выделим труд известного кавказоведа, профессора М.М. Ковалевского, посвящённый анализу обычного права горцев [Ковалевский 1886]. Ученый, при помощи сравнительного изучения норм права горцев, личных наблюдений и данных юридической антропологии, исследовал правовые системы горских народов, качество феодальных отношений, традиционные институты управления и права, сложившиеся в древности. В заключительном разделе своей работы он останавливается на деятельности местной администрации и последствиях присоединения Кавказа к царской России. В качестве прогрессивных итогов присоединения он назвал отмену домашнего рабства, прекращение племенных распрей, устранение многих пережитков родового быта, переселение значительной части горского населения на равнину и обеспечение их землей. Негативную сторону этой политики, Ковалевский видел в ошибочности принятия правительственного акта по укреплению в Дагестане норм адатов вместо шариата, которая «подкашивала в корне русскую просветительскую миссию на Кавказ, вела к внутренним несогласиям и усобицам» [Ковалевский 1886: 182].
Критическое отношение к созданной на Северном Кавказе правовой системе обосновал сенатор Н.М. Рейнке, инспектирующий судебные учреждения края в предреволюционные года XX века [Рейнке 1912]. Его работа, о политике кавказской администрации по созданию новой судебной системы у горцев, содержит интересные замечания о паллиативности некоторых реформаторских шагов, некомпетентности судей, отсутствии суда присяжных и практики мировых судов для населения Северного Кавказа, чрезмерную бюрократическую составляющую вовремя судопроизводства. Основной вывод автора прост: «…надо заменить современную юстицию, которая управляет жизнью горцев и подчинить их общим судебным установлениям по российскому образцу. Это важно как самих горцев, так и для их соседей – русского населения и, в конечном счете, для государства» [Рейнке 1912: 51]. Эта идея была реализована уже при советской власти, но на иной правовой основе.
В ХIХ в. первые опыты анализа политики России в крае представили просветители горских народов. Основной идейной доминантой и генерализирующей линией их творчества было желание перенять достижения европейской/российской цивилизации и, тем самым, приобщиться к мировому социально-экономическому и культурному прогрессу при сохранении самобытных черт и идентичности своих этнических обществ. Двойственный характер их отношения к результатам политики России в регионе заключался в том, что, с одной стороны, они подчеркивали предпочтительность сотрудничества с кавказской администрацией, правительством, с другой, обращали внимание на сложность интеграционного процесса по адаптации традиционных горских обществ к российским правовым реалиям.
У. Лаудаев в работе «Чеченское племя» сообщает подробные сведения об истории утверждения царской власти в Чечне [Лаудаев 1872]. Полезны сообщаемые им сведения об организации системы управления чеченским народом. Особое внимание он уделял религиозным воззрениям чеченцев, в частности, принятию ислама, что, по мнению У. Лаудаева, имело определенные негативные последствия. Как и большинство дореволюционных краеведов, автор, с одной стороны, принижает уровень политико-правового развития вайнахского этноса, а, с другой, переоценивает роль преобразований в системе управления, проведенные кавказской администрацией. Так, он высоко оценивает роль российской администрации в создании новой судебной системы утверждая, что с учреждением мехкеме заметно улучшилось традиционное судопроизводство и «при тщательном контроле русских чиновников оно сможет удовлетворять народные нужды» [Лаудаев 1872: 30].
А.Г. Ардасенов, один из плеяды российского народничества, в своем документальном очерке «Переходное состояние горцев Северного Кавказа» [Ардасенов 1896], скрупулезно изучил административно-правовые изменения, произошедшие в жизни осетин в течение XIX века. Просветитель, дважды увольнявшийся со службы «за демократические суждения» и «политическую неблагонадежность» [Васильева 1975: 127], был твердо убежден в негативных последствиях капитальной перестройки родного края в 60-е гг. XIX в., которые, по его оценке, привели к тому, что горские общества застряли в «переходном состоянии», характеризующимся экономическими проблемами и обезземеливанием населения. «Конец 60-х годов можно считать тем поворотным пунктом, с которого горцы-осетины повернулись лицом к русским, – пишет А.Г. Ардасенов, – т.е. это время проведения административно-правовых реформ, в ходе которых обозначился абрис новой системы жизнеустройства [Ардасенов 1896: 16]. Выход из этого состояния автор видит в просвещении и развитии образования у горских племен.
В.Н. Кудашев, опираясь на публикации Н.Ф. Грабовского и архивные материалы, описал судопроизводство в округе и функционирование институтов управления в контексте социально-политической истории кабардинского народа [Кудашев 1913]. При освещении взаимоотношений России и Кабарды, происходивших в период проведения административно-правовых преобразований, автор акцентировал внимание не на отрицательных сторонах такого взаимодействия, а на выгодах, получаемых от диалога двух культур. Отдельного упоминания заслуживает, используемое автором словосочетание «добровольное присоединение» [Кудашев 1913: 13]. Оно было документально аргументировано Т.Х. Кумыковым [Кумыков 1957] и вошло в повседневность советской историографии с середины 50-х годов XX века, оказав серьезное влияние на интерпретацию кабардино-русских отношений.
Таким образом, анализ даже отдельных историографических источников по дореволюционной истории административно-правовой политики на Северном Кавказе показывает, что ее осмысление в краеведении/науке связано с накапливанием документального материала, усилением влияния научной и общественной мысли, освоением идей позитивизма, проникавших не только в академическую науку, но и в кавказоведение. Опубликованные труды были важными каналами накопления исторических знаний о Кавказе, в которых затрагивались методы, способы и формы преобразовательной деятельности со стороны правительственных верхов в регионе с целью приспособить его к нуждам российского самодержавия. Анализ их содержания помогает в реконструкции содержания изучаемой эпохи, в хронологических границах которого происходило формирование первых историографических связей в работах ученых.
Значимым типом историографических источников была дореволюционная периодическая печать. Являясь одним из каналов сбора и анализа информации о происходящем на окраинах империи, она позволяет рассмотреть практически все стороны жизни общества, осветить политическую конъюнктуру того времени, проследить политическую, идеологическую или ведомственную борьбу мнений относительно путей развития северокавказского региона, выявить механизмы и способы управления царской администрацией горскими обществами, динамику и контуры перемен. Периодическая печать как уникальный комплексный источник с присущей ей жанровым разнообразием, представляет собой незаменимое средство для пропаганды различных идей и взглядов, вплоть до идеологического воздействия на общественное сознание, поскольку издатель, редактор, редакционная коллегия через издаваемую газету или журнал выражали свое мнение, полемизировали и давали оценку актуальным событиям в стране.
Период «оттепели» в общественно-политической сфере жизни России во второй половине 1850-х гг., затронул и Кавказ. Здесь «число местных региональных газет и журналов достигло 30 наименований, в которых публиковались материалы по истории и культуре горских народов» [Дамения 1996: 15], сыгравшие неоценимую роль в оформлении исследовательских интересов «провинциальной» историографии. С начала 50-х гг. XIX в. стали выходить в свет научные и просветительские труды «Кавказского отдела русского географического общества», «Кавказского общества сельского хозяйства», «Кавказского календаря» и другие издания, научно-информационный потенциал которых был весьма высок.
Основные сюжеты, затрагиваемые в полемике этих изданий, по большей части встраивались в общую канву значимых политико-социальных задач, связанных с продвижением империи на юг. В публикациях, связанных с исследуемой проблемой, делались попытки оценить позитивные/негативные стороны присоединения/завоевания горских народов, «подсказать» кавказской администрации болевые точки административных и правовых преобразований, осмыслить значимость отдельных правовых норм, горских традиций и обычаев, которые не входили в прямое противоречие с законами Российского государства. Редакционный императив стал преобладающим в интеллектуальной среде того времени, что отчетливо прослеживается в суждениях и действиях отдельных чиновников, отстаивающих необходимость имперского монолога. Не случайно Николай I писал наместнику Воронцову осенью 1846 г., что «не судите о Кавказском крае, как об отдельном государстве. Я желаю и должен стараться сливать его всеми возможными мерами с Россией, чтобы все составляло одно целое» [Цит. по: Шнайдер 2005: 83].
Анализ идейного содержания газетных и журнальных публикаций о политике империи в крае показывает, что в дореволюционных публикациях сложились два основных течения: официально-охранительное и либерально-демократическое. Признавая условность и эпистемологическую стереотипность такого деления, ведь «действительность слишком сложна и многогранна, чтобы быть уложенной в прокрустово ложе предлагаемой схемы» [Кузьминов 2009: 15], подчеркнем, что подобное сегментирование материала оправдано содержанием издаваемых статей, в которых отчетливо отражены социальные приоритеты их авторов [Васильева 1975: 6; Кузьминов 2009: 250–251], которые обосновывают возможность дифференцированного подхода к работам дореволюционных авторов в историографии в соответствии с идейно-политическими критериями эпохи.
К первому течению мы относим работы сотрудников, офицеров, журналистов, редакторов и литераторов, отражавших в своих статьях правительственную точку зрения и эксплуатирующие на страницах изданий определенные идеологемы.
Консервативную оценку по проблеме инкорпорации традиционных горских институтов управления к России мы находим в статье С. Иванова, в которой присутствует попытка изучить результаты экономического и общественного сближения горцев, казаков и русского населения [Иванов 1859]. По его мнению, этот процесс может «много содействовать к смягчению характера первых, и высказывая им выгоды цивилизованной жизни, выставить Русских, не как грозных победителей, жаждущих войны, ищущих кровопролития, но как нацию, заботящуюся об улучшении их состояния» [Цит. по: Смирнов 1958: 188].
Культуртрегерский взгляд в периодике той эпохи был широко распространен среди многих современников. Например, известный сподвижник командующего Кавказской армией А.И. Барятинского, публицист Р. Фадеев в письме редактору «Московских ведомостей» М.Н. Каткову по окончании основных боевых действий на территории Центрального Кавказа писал, что «на Кавказе место солдата займет земледелец, промышленник, торговец; вместо военных экспедиций начнутся другие экспедиции – мирные; вместо разорения мы дадим народам Кавказа цивилизацию, образованность, гражданский порядок, пути сообщения, промышленность, торговлю; мы научим его ценить всю пользу гражданского порядка, все благодеяния мира» [Фадеев 1865: 263–268].
Консервативно-охранительные мотивы мы встречаем у П. Пржецлавского [Пржецлавский 1867], который привел ценные сведения о внедрении российского судопроизводства у горцев, а также создании и функционировании системы областного управления в Дагестане [Пржецлавский 1867: 155].
К авторам либерального течения можно отнести значительную по численности группу, активно участвующей в общественной жизни региона. Они, зачастую, критично оценивали появляющиеся в СМИ официальные материалы, посвященные политике России в крае, анализировали ее достижения/промахи, использовали архивные документы, не опасались освещать социальные противоречия в эпоху реформ 60-х гг. XIX в. Изучение демократической «неофициальной» исторической мысли, отражение ее в публицистике тех лет давно привлекает внимание историков из-за своего оригинального самобытного развития и обращения к народному самосознанию, на что, в немалой степени, повлияло воздействие идей народничества.
Либеральную точку зрения о качестве административно-территориальной политики на территории северокавказской окраины мы встречаем у Н.И. Воронова, который уделяет большое внимание вопросам местного самоуправления, осуждает членов местной администрации за карьеризм, критикует откровенно колонизаторский характер некоторых мероприятий военной администрации. В одной из статей, написанной в 1864 г., Н.И. Воронов убедительно отстаивает необходимость быть более внимательным к нуждам горского населения, так как «горцы делаются нашими братьями по обществу, нашими согражданами по государству» [Воронов 1862-1864: 33]. В изучении особенностей их жизни автор видит залог их успешной интеграции в Россию.
Серия статей по управлению Кавказом была напечатана во второй половине ХIХ века известным краеведом и исследователем Ставрополья И.В. Бентковским [Бентковский 1869; Бентковский 1874; Бентковский 1883]. Помимо личных впечатлений от поездок по Северокавказскому краю, он широко использовал доступные ему архивные и статистические источники, опубликованные статьи в губернской периодике, в Тифлисе, Екатеринодаре. Работы И.В. Бентковского, по мнению М.Е. Колесноковой, отличают добросовестность, скрупулёзность и разносторонность интересов. Они значительно расширяют наши представления об особенностях функционирования административных органов управления в регионе [Колесникова 2004: 5]. Собирая статистические сведения о народах края, Бентковский первым осуществил опыт сравнения Ставропольской губернии с другими административно-территориальными единицами. Эти публикации имели определенное практическое значение, поскольку дали губернской администрации сведения о срочности будущих проблем. Автор критически оценивал административно-судебную политику на Кавказе, практическую деятельность кавказской администрации и выражал симпатию мерам гражданского и экономического характера [Бентковский 1869: 1].
Статья Н. Семенова посвящена анализу правовых устоев, на которых зиждилось судопроизводство в Терской области [Семенов 1880]. Автор освещает правовую ситуацию в области на примере деятельности Горского словесного суда, который, на его взгляд, не справлялся с возложенными на него функциями вследствие своей громоздкости и большого количества дел, поступающих на его рассмотрение. Н. Семенов ставит вопрос о необходимости замены Горского словесного суда обыкновенными судами, существующими в Российской империи. «Разбейте предметы ведения суда на соответствующие группы и одни из них передайте окружным судам, другие – мировым установлениям, третьи – сельским судам» [Семенов 1880], – пишет он в заключении.
Демократические оценки и взгляды на политику сближения России и Кавказа, несмотря на строгую цензуру того времени, можно встретить в творчестве К. Красницкого [Красницкий 1865], А.В. Комарова [Комаров 1868], Ч. Ахриева [Ахриев 1871], Я.В. Абрамова [Абрамов 1883] и др., которые возражали против военных аспектов политики присоединения горцев и связанных с насильственным изменением традиционных институтов горского общества.
В результате изучения процесса административно-правовых преобразований у народов Северного Кавказа во второй половине XIX – начале XX века были рассмотрены отдельные статьи журнальной и газетной периодики, демонстрирующие зрелость идейных воззрений, способов их репрезентативной трансляции и методологического инструментария. Приведенные работы – один из источников осмысления достижений и пределов официально-охранительной и либерально-демократической историографии.
Таким образом, изучение эвристического потенциала дореволюционного кавказоведения, опирающегося на твердый фундамент историографических источников, других форм знания об исследуемой проблеме, показывает, что данный комплекс источников, при всей их субъективности, является одним из важнейших, поскольку несет в себе отпечаток времени и информацию о развитии взглядов и научных концепций, определяет звучание обсуждаемой проблемы, позволяет детально рассмотреть колорит изучаемой эпохи и содержит «важные для современного исследователя убеждения и предпочтения, иерархию ценностей их авторов» [Маловичко 2006: 399]. Приведенный материал показывает, что изучение дореволюционных историографических источников в контексте поставленной проблемы является необходимым условием для понимания истории Северного Кавказа в интересующий нас период.
И это лишь некоторые аспекты данной темы, которая требует, безусловно, более глубокого и всестороннего исследования.
作者简介
Petr Kuzminov
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov; Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Email: petrakis_hist@bk.ru
ORCID iD: 0000-0002-5767-1484
Doctor of Science (History), Professor
俄罗斯联邦, Nalchik; NalchikEldar Tlostanov
Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: vatutin603@gmail.com
a graduate student
俄罗斯联邦, Nalchik参考
- ABAZOV A.KH. Narody Tsentral'nogo Kavkaza v politiko-pravovom prostranstve Rossii-skoi Imperii: sudebnye preobrazovaniya Kontsa XVIII – nachala ХХ v. [The peoples of the Central Cau-casus in the political and legal space of the Russian Empire: judicial transformations of the Late XVIII – early XX century]. Dis. d-ra ist. nauk. – Nal'chik: Kab.-Balk. Un-t, 2017. – 505 s. (In Russ.).
- ABRAMOV YA. Odna iz pogreshnostei nashei pozemel'noi politiki na Kavkaze [One of the errors of our land policy in the Caucasus]. In: Terek. – Vladikavkaz, 1883. – № 63. – S. 1–2. (In Russ.).
- ARDASENOV A.G. Perekhodnoe sostoyanie gortsev Severnogo Kavkaza [The transitional state of the highlanders of the North Caucasus]. – Tiflis: tip. K.P. Kozlovskogo, 1896. – 41 s. (In Russ.).
- BERZHE A.P. Kratkii obzor gorskikh plemen na Kavkaze [A brief overview of the mountain tribes in the Caucasus]. In: Kavkazskii kalendar' na 1858 god. – Tiflis: Tip. kantselyarii Namestnika Kavk., 1858. – 46 s. (In Russ.).
- BERZHE A.P. Etnograficheskoe obozrenie Kavkaza [Ethnographic Review of the Caucasus]. – SPb.: Tip. br. Panteleevykh 1879. – 36 s. (In Russ.).
- BERZHE A.P. Gornye plemena Kavkaza [Mountain tribes of the Caucasus]. In: Zhivopisnaya Rossiya. T. IKh. – SPb., 1883. – S. 562–596. (In Russ.).
- BOROV A.KH. Severnyi Kavkaz v rossiiskom tsivilizatsionnom protsesse [The North Cauca-sus in the Russian civilizational process]. – Nal'chik: Kab.-Balk. un-t, 2007. – 298 s. (In Russ.).
- Borov A.H., Muratova E.G., Kazharov A.G., Azikova Y.M. Social'no-politicheskaya organi-zatiya polietnicheskogo prostranstva: Central'ni Kavkaz I Kabardino-Balkariya v XVI-XXI vechah. [Socio-political organization of the multiethnic space: The Central Caucasus and Kabardino-Balkaria in the XVI-XXI centuries] (issues of history and historiography). Nalchik: Publishing House KBNTS RAS, 2021. – 324 s. (In Russ.).
- VORONTSOV-DASHKOV I.I. Vsepoddanneishaya zapiska po upravleniyu Kavkazskim kraem general-ad"yutanta grafa Vorontsova-Dashkova [The most comprehensive note on the admin-istration of the Caucasian Region by Adjutant General Count Vorontsov-Dashkov]. – SPb.: Gos. tip., 1907. – 164 s. (In Russ.).
- GRABOVSKII N.F. Prisoedinenie k Rossii Kabardy i bor'ba ee za nezavisimost' [Kabarda's accession to Russia and its struggle for independence]. In: Sbornik svedenii o kavkazskikh gortsakh. Vyp. IX. – Tiflis, 1876. – S. 132–231. (In Russ.).
- DAMENIYA I.KH. Istoriografiya istorii narodov Kavkaza XIX – nachala XX vv. [Historiog-raphy of the history of the peoples of the Caucasus of the XIX – early XX centuries]. – SPb.: S.-Peterb. org. o-va "Znanie" Rossii, 1996. – 69 s. (In Russ.).
- Jamaludinov M.D. istoriko-pravovie osobennosti stanovleniya rossiyskoi sistemy upravleniya na Severo-Vostochnom Kavkaze. [Historical and legal features of the formation of the Russian ad-ministrative management system in the North-Eastern Caucasus] (late XVIII – first half of the XIX centuries): Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Law. Makhachkala, 2012. – 24 s. (In Russ.).
- DUBROVIN N.F. Istoriya voiny i vladychestva russkikh na Kavkaze [The history of the war and Russian rule in the Caucasus] / [Soch.] N. Dubrovina. T. 1-6. – SPb.: tip. Dep. udelov, 1871-1888. Tom 6. – 756 s. (In Russ.).
- ZHURTOVA A.A., MAKSIMCHIK A.N. Istoriografiya rossiisko-kavkazskikh otnoshenii v XVI – XIX v.: dva podkhoda k osmysleniyu problem [Historiography of Russian-Caucasian relations in the XVI – XIX centuries: two approaches to understanding the problem]. – Vladikavkaz: SOIGSI VNTs RAN, 2017. – 440 s. (In Russ.).
- ZASSERMAN L.A. Fel'dmarshal knyaz' Aleksandr Ivanovich Baryatinskii 1815-1879 [Field Marshal Prince Alexander Ivanovich Baryatinsky 1815-1879]. V 3 t. – M.: Univ. tip., 1890. T. 2. – 458 s. (In Russ.).
- ZEVELEV A.I. Istoriograficheskoe issledovanie: metodologicheskie aspekty [Historiograph-ical research: methodological aspects]. – M.: Vyssh. shk., 1987. – 159 s. (In Russ.).
- IVANOV S.O. sblizhenii gortsev s russkimi na Kavkaze [About the rapprochement of the Highlanders with the Russians in the Caucasus]. In: Voennyi sbornik. – SPb., 1859. – T. 7. – № 6. – S. 541–549. (In Russ.).
- KAMYNIN V.D. Sovremennye podkhody k opredeleniyu soderzhaniya ponyatiya istoriogra-ficheskii istochnik i idei A.S. Lappo-Danilevskogo v oblasti istochnikovedeniya [Modern approaches to defining the content of the concept of historiographical source and the ideas of A.S. Lappo-Danilevsky in the field of source studies]. In: Dialog so vremenem. – 2014. – Vyp. 46. – S. 120–128. (In Russ.).
- KLIMENKO A.V. Predmet I zadachi istoriografii. [The subject and tasks of historiography] // Historiography of the history of Russia before 1917: Textbook for students. higher education. insti-tutions: In 2 volumes / Edited by M.Y. Lachaeva. – M.: Humanit. Ed. center VLADOS, 2003. – Vol. 1. – 384 s. (In Russ.).
- KOLESNIKOVA M.E. I.V. Bentkovski – kraeved I istorik Severnogo Kavkaza. [I.V. Bentkovsky – local historian and historian of the North Caucasus] // Russian Archives. – 2004. – No. 1. – S. 3–13. (In Russ.).
- KOLESNIKOVA M.E. Severokavkazskaya istoriografisheskaya traditiya: vtoraya polovina XVIII – nachalo XX veka. [The North Caucasian historiographical tradition: the second half of the XVIII – early XX century]. – Stavropol: Publishing House of the SSU, 2011. – 496 s. (In Russ.).
- KOLESNIKOVA M.E. Kraevedcheskie I topograficheskie opisaniya kak istoriograficheski istochnik. [Local lore and topographical descriptions as a historiographical source] // Bulletin of Stavropol State University. – 2011. – Issue 72 (1). – S. 16–25. (In Russ.).
- KOLESNIKOVA M.E. Stanovlenie severokavkazskogo istoriograficheskogo napravleniya v otechestvenom kavkazovedenii XIX – nachalo 30-h gg. XX v. [The formation of the North Caucasian historiographical trend in the Russian Caucasian studies of the XIX – early 30s of the XX century]. // New cultural and intellectual history of the Russian province (To the 65th anniversary of the birth of the professor). – Stavropol: Publishing House of the News Bureau, 2012. – S. 17–29. (In Russ.).
- KOLESNIKOVA M.E. Historiografichescie istochniki vtoroi polovini XVIII – nachala XIX v. [Historiographical sources of the second half of the XVIII – early XIX century on the history of the study of the North Caucasus] / M.E. Kolesnikova // New local history: following in the footsteps of Internet conferences, 2007–2014 / editorial board: Igor Vladimirovich Kryuchkov. – Stavropol: Publishing House of SCFU, 2014. – S. 222–224. (In Russ.).
- KOLESNIKOVA M.E. Trudi severokavkazskih issledovatelei XIX – nachala XX v. [The works of North Caucasian researchers of the XIX – early XX century. as a historical and historio-graphical source] // The scientific heritage of Professor A.P. Pronstein and current problems of the development of historical science (to the 95th anniversary of the birth of an outstanding Russian scientist): materials of the All-Russian (with international participation) scientific and practical con-ference (Rostov-on-Don, April 4–5, 2014) / Ed. M.D. Rozin, D.V. Senh, N.A. Trapsh. – Rostov-on-Don: Publishing House "Foundation for Science and Education", 2014. – S. 235–239. (In Russ.).
- KOLESNIKOVA M.E. Informationni potential istoriograficheskih istochnikov po istorii formi-rovaniya intrelectyal'nogo prostranstva Severnogo Kavkaza vo vtoroi polovine XVIII–XIX vv. [In-formation potential of historiographical sources on the history of the formation of the intellectual space of the North Caucasus in the second half of the XVIII–XIX centuries] / M.E. Kolesnikova, N.G. Bondarenko, L.V. Kryukova // Humanities, socio-economic and social sciences. – 2014. – No. 12. – Part 1. – S. 317–320. (In Russ.).
- KOVALEVSKII M.M. Sovremennyi obychai i drevnii zakon [Modern custom and ancient law]. – M.: Tipografiya V. Gattsuk, 1886. – 342 s. (In Russ.).
- KOMAROV A.V. Adaty i sudoproizvodstvo po nim: Materialy dlya statistiki Dagestan-skoi oblasti [Adats and legal proceedings on them: Materials for statistics of the Dagestan region]. In: Sbornik svedenii o kavkazskikh gortsev. – Tiflis: izd B.M., 1868. – 88 s. (In Russ.).
- KORCHAGIN A.Y., Svechnikova A.G. Severni Kavkaz: Vlast'. Sud. Pravo. [The North Cau-casus: Power. Court. Right.] Pyatigorsk: Sneg, 2010. – 320 s. (In Russ.).
- KOSMINSKY E.A. Historiographiya Srednix vekhov. [Historiography of the Middle Ages]. – M.: Publishing House of Moscow State University, 1963. – 430 s. (In Russ.).
- KRASNITSKII K. Koe-chto ob osetinskom okruge i o pravakh tuzemtsev ego [Something about the Ossetian district and the rights of its natives]. In: Gaz. «Kavkaz». – T. 1. – № 29. – 1865. – S. 161–163. (In Russ.).
- KUDASHEV V.N. Istoricheskie svedeniya o kabardinskom narode [Historical information about the Kabardian people]. – Kiev: Tipo-lit. «S.V. Kul'zhenko», 1913. – 283 s. (In Russ.).
- KUZMINOV P.A. Do-revolyutsionnaya istoriografiya krest'yanskoy reformy na Severnom Kavkaze. [Pre-revolutionary historiography of peasant reform in the North Caucasus // Caucasian Collection]. / Edited by V.V. Degoev. – M., 2008. – Vol. 5. – S. 166-200. (In Russ.).
- KUZMINOV P.A. N.F. Grabovsky – kavkazoved. [N.F. Grabovsky – kavkazovedist] // His-torical bulletin of KBIGI. – Vol. 6. – Nalchik: El-fa, 2008. – S. 399-452. (In Russ.).
- KUZ'MINOV P.A. Epokha reform 50–70-kh godov XIX v. u narodov Severnogo Kavkaza v do-revolyutsionnom kavkazovedenii [The era of reforms of the 50-70s of the XIX century among the peoples of the North Caucasus in pre-revolutionary Caucasian studies]. – Nal'chik: Kab.-Balk. un-t: El'-Fa, 2009. – 252 s. (In Russ.).
- KUMYKOV T.H. Prisoedinenie Kabardy k Rossii I ego progressivnie posledstviya. [Ka-barda's accession to Russia and its progressive consequences]. – Nalchik: Kabard.-Balkarian Publish-ing House, 1957. – 134 s. (In Russ.).
- LEONTOVICH F.I. Adaty kavkazskikh gortsev [The adats of the Caucasian highlanders]. V 2 t. – Odessa: Tipografiya P.A. Zelenogo, 1882. – T. 1. – 447 s. (In Russ.).
- MALOVICHKO S.I. Obshchestvennoe istoricheskoe myshlenie i reprezentatsii proshlo-go/nastoyashchego v periodike [Public historical thinking and representations of the past/present in the period]. In: Periodicheskaya pechat' kak istochnik intellektual'noi isto-rii: Materialy Mezhdu-narodnoi nauch. konf. – Pyatigorsk: Pyatigorckii gos. lingvistiche-skii un-t, 2006. – 399 s. (In Russ.).
- MANKIEVA H.M. Genezis pravovoi culture narodov Severnogo Kavkaza: Avtoref. diss. na soisk. uch. st. kin. [Genesis of the legal culture of the peoples of the North Caucasus: Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Philosophical Sciences]. – Rostov-on-Don, 2006. – 24 s.
- MUDROVA N.P. Deyatel'nost' Kavkazskogo otdela Imperatorskogo russkogo geografiche-skogo obshchestva po sozdaniyu korpusa ustnykh istochnikov (1851–1017 gg.) [The activities of the Caucasian Department of the Imperial Russian Geographical Society to create a corpus of oral sources (1851-1017)]: Avtoref. diss. na soisk. uch. st. kin. – Maikop: Izd-vo Margarin O.G., 2020. – 151 s. (In Russ.).
- NAROCHNITSKY A.L. O prepodavanii istoriografii v vysshei shkole. [On teaching histori-ography in higher education // Questions of History]. – 1973. – No. 6. – S. 69-72. (In Russ.).
- NECHKINA M.V. (red.). Metodologicheskie i teoreticheskie problemy istorii istoriche-skoi nauki [Methodological and theoretical problems of the history of historical science]. – Kalinin: KGU, 1980. – 142 s. (In Russ.).
- NECHKINA M.V. (red.) Ocherki istorii istoricheskoi nauki v SSSR [Essays on the history of historical science in the USSR]. V 5 t. Tom. 5. – M.: Nauka, 1985. – 605 s. (In Russ.).
- OMAROV A.I. Politics Rossii na Severo-Vostochnom Kavkaze v XIX – nachale XX veka: Avtoref. diss. na soisk. uch. st. kin. [Russia's policy in the North-Eastern Caucasus in the XIX – early XX century: Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Historical Sciences]. – Ma-khachkala, 2004. – 43 s. (In Russ.).
- Predpisanie namestnika Kavkazskogo ob uchrezhdenii Kavkazskoi arkheograficheskoi komissii pri Glavnom Upravlenii [The order of the Governor of the Caucasus on the establishment of the Caucasian Archeographic Commission at the General Directorate]. In: TsGIA RG. F. 416. Op. 3. D. 560. (In Russ.).
- PRZHETSLAVSKII P. Dagestan, ego nravy i obychai [Dagestan, its customs and customs]. In: Vestnik Evropy. T. 3. 1867. – S. 141–192. (In Russ.).
- PFAF V.B. Materialy dlya istorii osetin [Materials for the history of Ossetians]. In: SSKG. – Tiflis, 1870. – 100 s. (In Russ.).
- RUMYANTSEVA M.F. Istochnikovedenie [Source studies]: ucheb. posobie / otv. red. M.F. Rumyantseva. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». – M.: Vysshaya shkola ekonomiki. 2015. – 686 s. (In Russ.).
- RUMYANTSEVA M.F., MALOVICHKO S.I. Istochnikovedenie istoriografii kak pred-metnoe pole intellektual'noi istorii [The source study of historiography as a subject field of intellec-tual history]. Vyp. 11. – Omsk: Izd-vo. Om. gos. un-ta, 2017. – S. 77–99. (In Russ.).
- SATUSHIEVA L.H. Mehanizm realizacii adata na Severo-Zapadnom I Central'nom Kavkaze: istoriko-pravovoi analiz: XV – nachalo XX vekakh.: Avtoref. diss. na soisk. uch. st. kin. [The mecha-nism of adat implementation in the Northwestern and Central Caucasus: historical and legal analy-sis: XV - early XX century: Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Law]. – Nizhny Novgorod, 2003. – 25 s. (In Russ.).
- SERDYUK A.V. Sudebnaya reforma 1864: osobennosti realizacii na Severnom Kavkaze (vtoraya polovina XIX - nachalo XX vv.): Avtoref. diss. na soisk. uch. st. kin. [Judicial reform of 1864: features of implementation in the North Caucasus (the second half of the XIX - early XX centuries): Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Law]. – M., 2015 – 26 s. (In Russ.).
- SMIRNOV N.A. Politika Rossii na Kavkaze v XVI – XIX vekakh [Russia's Policy in the Cau-casus in the XVI – XIX centuries]. – M.: Sotsekgiz, 1958. – 244 s. (In Russ.).
- TAHUSHIVA I.S. Representatia problem istoricheskogo I etnocyltyrnogo razvitiya narodov Severnogo Kavkaza v journal'noi periodiki Rossii XIX v.: na primere stolichnix izdani «Sovremennik» I «Oteshestvennie zapiski». [Representation of the problems of historical and ethnocultural develop-ment of the peoples of the North Caucasus in Russian periodicals XIX century: on the example of the capital's publications Sovremennik and Otechestvennye Zapiski]. – Maykop: ASU, 2024. – 28 s. (In Russ.).
- FADEEV R. «Pis'ma s Kavkaza» k redaktoru «Moskovskikh Vedomostei» R. Fadeeva ["Let-ters from the Caucasus" to the editor of the Moscow Gazette R. Fadeev]. – SPb.: Otechestvennye zapiski, 1865. – T. 162. – S. 263–268. (In Russ.).
- TSAGARELI A.A. Snosheniya Rossii s Kavkazom v XVI-XVIII stoletiyakh [Russia's relations with the Caucasus in the XVI-XVIII centuries]. – SPb.: tip. V.F. Kirshbauma, 1891. – 53 s. (In Russ.).
- CHERNYAVSKII I.S. Kavkaz v techenie 25-letnego tsarstvovaniya gosudarya imperatora Aleksandra II. 1855-1880 [The Caucasus during the 25-year reign of Emperor Alexander II. 1855-1880]. – SPb.: izd. pri sodeistvii Voen.-uchen. kom. Gl. shtaba, 1898. – 61 s. (In Russ.).
- SHEUDZHEN E.A. Severokavkazskaya istoriografiya: granitsy i sootnoshenie koordiniru-yushchikh ponyatii [North Caucasian Historiography: boundaries and correlation of coordinating concepts]. In: Nauchnaya mysl' Kavkaza. – 2014. – № 1. – S. 126–134. (In Russ.).
- SCHMIDT S.O. Nekotorie voprosi istochnikovedeniyu istoriografii // Problemy istorii, ob-shestvennoi misli I istoriografii. [Some questions of historiography source studies // Problems of his-tory, public thought and historiography]. – M.: Nauka, 1976. – S. 25–38. (In Russ.).
- SHMIDT S.O. Put' istorika: izbrannye trudy po istochnikovedeniyu i istoriografii [The Path of the Historian: selected works on source studies and historiography]. – M.: RGGU, 1997. – 612 s. (In Russ.).
- SHNAIDER V.G. Rossiya i Severnyi Kavkaz v dorevolyutsionnyi period: osobennosti in-tegratsionnykh protsessov [Russia and the North Caucasus in the pre-Revolutionary period: features of integration processes]. – M.: Izd-vo RGSU «Soyuz», 2005. – 147 s. (In Russ.).
- ESADZE S. Istoricheskaya zapiska ob upravlenii Kavkazom [Historical note on the manage-ment of the Caucasus]. – Tiflis: Tipografiya Gut-tenberg, 1907. – T. 1. – 620 s. (In Russ.).
补充文件