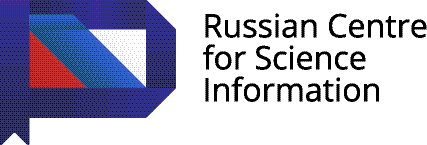Pushkin’s Three Testaments
- Authors: Esaulov I.A.1
-
Affiliations:
- A.M. Gorky Literature Institute
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 9-25
- Section: NEW RESEARCH IN ALEXANDER PUSHKIN’S WRITINGS
- URL: https://journal-vniispk.ru/2587-6090/article/view/272198
- DOI: https://doi.org/10.22204/2587-8956-2024-117-02-9-25
- ID: 272198
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines three multi-genre texts of the final year of A.S. Pushkin's life: the letter to Pyotr Chaadayev, The Captain's Daughter, and the Kamennoostrovsky Cycle. These pieces, being particularly important for the last stage of Pushkin’s history and bibliography, can be referred to as the poet’s three testaments. Although each of these works emphasizes a different aspect of the Russian national character, which, according to Pushkin, stems from the Orthodox faith, they all share a deep rootedness in national history, love for the homeland, Russia’s universality and panhumanism, and free obedience to God’s will based on the Orthodox hope for life after death. The author illustrates how this spiritual program is embodied in the mentioned texts and references citing the testimonies of Mikhail Prishvin and Fyodor Dostoevsky to demonstrate how the intuition of some literary artists in comprehending Pushkin’s central notion might surpass actual literary understanding.
Full Text
Учёные споры о том, каким был Пушкин, по-видимому, никогда не закончатся (хотя бы в силу того, что в нашем всё органически соединились многоразличные стороны русской души: характерными полюсами в недавнем прошлом являются позиции С.Г. Бочарова [1] и В.С. Непомнящего [2]). Тем не менее никем всерьёз не оспаривается вектор духовного пути национального гения — от эпикурейских проказ юности и последующих уроков «чистого афеизма» к письму П.Я. Чаадаеву, поздним прозе и лирике («Капитанской дочке» и Каменноостровскому циклу). В своей совокупности эти разножанровые свидетельства последнего года жизни Пушкина (ил. 1) и можно рассматривать, разумеется, метафорически, как три пушкинских завещания.
Ил. 1. Соколов П. Портрет А.С. Пушкина. Акварель. 1836 г. Всероссийский музей А.С. Пушкина
В письме к Чаадаеву Пушкин, полемизируя с историософскими воззрениями последнего, настаивает на особом предназначении России, подчёркивая: «клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал» [3, с. 875]. Эти строки хорошо известны. Куда меньше обращалось внимание на знаменательное совпадение: 19 октября 1836 г. датировано не только это письмо, но и пушкинское Послесловие к «Капитанской дочке». Однако же такой внимательный и глубокий пушкинский читатель, как М.М. Пришвин, записал в 1933 г. в своём Дневнике: «Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где я наладился жить, — то и другое для меня теперь археология, моя родина, непревзойдённая в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости, — моя родина — это повесть Пушкина “Капитанская дочка”» [4, с. 679]. Поразительные и небывалые строки! Какое ещё литературное произведение кто и когда мог назвать своей родиной?
Однако же наше литературоведение долгое время явно отставало от подобных писательских интуиций. К примеру, такой весьма квалифицированный учёный, как Ю.М. Лотман, ещё в 60-е гг. того же века прочитывал «Капитанскую дочку» совершенно иначе, можно сказать, противоположным образом. Пушкинская мысль понималась таким образом, что «народ и дворянская интеллигенция (“старинные дворяне”) выступают как естественные союзники в борьбе за свободу. Их противник — самодержавие» [5, с. 109]. По мнению Лотмана, «социальное примирение сторон (в пушкинской повести. — И.Е.) исключено.., в трагической борьбе обе стороны имеют свою классовую правду…»; «каждый из двух изображаемых Пушкиным миров имеет <…> свой уклад мысли, свои эстетические идеалы»; «Невозможность примирения враждующих сторон и неизбежность кровавой и истребительной гражданской войны открылась Пушкину...»; «перед ним раскрылось, что люди, живущие в социально разорванном обществе, неизбежно находятся во власти одной из двух взаимоисключающих концепций законности и справедливости»; и даже — «как дворянин, Гринёв враждебен народу» [5, с. 110–117].
Лотман не ставил вопроса о единой национальной культуре, конечно, с её вариантами, разновидностями, особенностями: для него аксиоматичным являлось представление о социально «разорванном» обществе. Это легко понять: один из накрепко усвоенных в отечественном литературоведении догматов марксизма — как раз учение об отсутствии единой национальной культуры. Поэтому особенности разных ярусов культуры всячески акцентировались: как видим, в данном случае они обрели даже статус различных — к тому же антагонистичных — «миров». Но разве в этом — на самом-то деле — смысл «Капитанской дочки»?
Обратим внимание на пушкинские эпиграфы: они книжные и фольклорные. Может показаться, что это разделение соответствует тем двум «мирам», с совершенно различными системами ценностей, которые находит в этом тексте Лотман. Княжнин, Фонвизин, Херасков, Сумароков — представители «дворянской культуры»; тогда как свадебная песня, народная песня, солдатская песня, пословицы — эти жанры характеризуют культуру «народную». Поэтому в эпиграфах как будто можно усмотреть продолжение того непримиримого конфликта, о котором пишет Лотман. Однако в Послесловии автор специально подчёркивает дистанцию между временем «записок» Гринёва и временем издания этих записок. Точки зрения рассказчика и автора различаются: то, что в «современности» рассказчика представляло собой голоса различных сторон, для Пушкина, отнюдь не теряя своей «особости», обнаружило какое-то глубинное единство. «Письменные» и «устные» эпиграфы свидетельствуют не о взаимоисключающих «правдах», являются не голосами различных «миров», но, напротив, говорят о неких константах единой, но разнообразной русской культуры.
Просторечие входит в книжность («Сладко было спознаваться / Мне, прекрасная, с тобой», — цитируется стихотворение Хераскова «Разлука»; фонвизинское «Старинные люди, мой отец» заменяется на «Старинные люди, мой батюшка»), а в солдатской песне обнаруживается «книжное» начало: «Мы в фортеции живём». Таким образом, мы имеем дело с такими границами между книжным и устным, между «дворянским» и «крестьянским», которые не разрывают общество, а напротив, соединяют, скрепляют его, свидетельствуя о существенном единстве национальной культуры. Если в «малом времени» рассказчика «дворянское» и «крестьянское» находятся в состоянии военного столкновения, то в собственно пушкинском кругозоре они видятся в ином ракурсе.
Вряд ли распад художественной ткани произведения на два пласта, а также неизбежность кровавой и истребительной гражданской войны, равно как и разорванность русского общества, могли умилённо приниматься Пришвиным в качестве его родины, непревзойдённой «в простой красоте… в доброте и мудрости...». По-видимому, Ю.М. Лотман не только что-то упустил в своём анализе пушкинского произведения, но и, исследуя текст, как-то не обратил внимания на самое главное в произведении, что было угадано и прочувствовано в процитированных нами строках Пришвина.
Подобное же взаимодействие «дворянского» и «простонародного» мы усматриваем и в этическом поле пушкинской повести, изображающей единую картину русского мира. В православный этический ореол попадают практически все пушкинские персонажи. Так, Пётр Гринёв, который проницательно «чувствовал, что любовь моя не слишком его (отца. — И.Е.) тронет и что он будет на неё смотреть, как на блажь молодого человека», после постигших Машу Миронову бедствий «знал, что отец почтёт за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество». Мы видим, что «обязанность» (т.е. долг гостеприимства) непосредственно следует за счастьем принять пострадавшую сироту. За такой готовностью стоит христианское отношение к ближнему (прямо противоположное меркантильному прагматическому расчёту на выгодную женитьбу сына).
И в самом деле родители Гринёва «видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. <...> Моя любовь уже не казалась батюшке пустой блажью; а матушка только того и желала, чтоб её Петруша женился на милой капитанской дочке». Ключевым понятием является именно благодать Божия, которая состоит в деятельной поддержке наиболее нуждающегося человека: не «обласкать бедную сироту» — значит поступить противно христианской православной совести.
Существенно, что такое поведение персонажей диктуется не юридическими (правовыми) рамками Закона, но имеет иной подтекст. Такой тип поведения, соответствующий православному типу культуры, хорошо знаком русскому читателю по его многочисленным «жизненным аналогам» (В.Е. Хализев). Подобное поведение не может быть объяснено в «законнической» системе координат: требуется иная, более сложная научная аксиология для описания этого явления.
В разбираемом пушкинском тексте даже Пугачёв, хотя и «потрясал государством», но в своём бытовом поведении, как оно представлено в пушкинской повести, пытается вписаться в аксиологию христианской морали: «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» — закричал он. «Будь он семи пядей во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?». В пушкинском художественном мире Пугачёв замечает Гринёву как «государь»: «я помиловал тебя за твою добродетель». Маша Миронова у Государыни «приехала просить милости, а не правосудия». В «Капитанской дочке» замечательна последовательная ориентация на «милость» (а не «правосудие») и «благодать Божию», равно как и отказ от «законничества» у полярных персонажей романа: Екатерины II и Пугачёва, поскольку они находятся в пределах православной аксиологии, хотя и принадлежат противоборствующим сторонам.
Чрезвычайно важен для адекватного истолкования пушкинской повести тот факт, что понятие чести входит в ту же сферу благодати, что и христианская совесть. В письме Чаадаеву пушкинские слова («клянусь честью») далеко не случайно соседствуют с историей и родиной. Вот и в «Капитанской дочке» Андрей Петрович Гринёв говорит о чести своего казнённого «пращура», которая понимается им «святынею своей совести». Его сын заявляет Пугачёву: «Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести», тем самым неразрывно сопрягая в единстве своей личности «честь» и «христианскую совесть». Понятие чести становится словно бы атрибутом благодати, но не законнического «удовлетворения»: начальный эпиграф подчёркивает «сверхзаконный» шлейф значения слова «честь».
Теперь перейдём к последнему (не законченному поэтом) его поэтическому циклу. Основываясь на пушкинских пометах римскими цифрами II, III, IV, VI над несколькими стихотворениями, написанными Пушкиным на Каменном острове летом 1836 г., Н.В. Измайлов впервые в пушкинистике назвал каменноостровские произведения лирическим циклом [6]. К настоящему времени имеется уже достаточно обширная исследовательская литература, посвящённая выяснению семантики цикла. Однако приходится согласиться с тем, что «…завещание поэта остаётся пока непрочитанным» [7, с. 150]. Подчеркнём — завещание в данном случае именно лирическое (об эпистолярном и прозаическом шла речь выше).
В цикле со- и противопоставлены те же две фундаментальные аксиологические установки, которые являются основополагающими и для «Капитанской дочки». Одновременно этот цикл соотносится с последовательностью евангельских событий, вспоминаемых на Страстной неделе: Великой среде, четвергу и пятнице. И в самом деле, стихотворение под номером II («Отцы пустынники и жены непорочны»), парафрастически передающее молитву Исаака Сирина, отсылает к Великому посту, в стихотворении III («Подражание италианскому») Пушкин обращается к участи Иуды, в стихотворении IV («Мирская власть») — к распятию Христа. Иными словами, несомненна неслучайная последовательность этих текстов и столь же несомненна их авторская приуроченность к Страстной седмице. Поэтому в наших интерпретациях мы должны не упускать главного: сам вектор пути от Смерти к Воскресению, к пасхальной победе над Смертью.
Наиболее убедительной представляется следующая последовательность Каменноостровского цикла Пушкина, состоящего из 6+1 текстов: 1. «(Из Пиндемонти)» (+ «Напрасно я бегу к Сионским высотам»); 2. «Отцы пустынники и жены непорочны»; 3. «(Подражание италианскому)»; 4. «Мирская власть»; 5. «Когда за городом, задумчив, я брожу»; 6. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
Рассматривая срединную часть цикла, С. Давыдов не вполне точно определил её следующим образом: «ни одно из них не является подлинным пушкинским произведением; они полностью или частично основаны на чужом тексте нерусского происхождения» [8, с. 103]. Дело, однако, в том, что в этих текстах «нерусского происхождения» встречаются две различные по своему происхождению культурные традиции, парафрасисом которых и является пушкинский цикл: православная, церковно-славянская и западноевропейская, итальянско-французская, католическая. Ту и другую традицию Пушкин не только «использует»: они, собственно, представляют особое соединение родного и вселенского, которое и подчеркнул Достоевский в своей Пушкинской речи.
Первое же стихотворение цикла представляет собой декларативное и воинствующе провозглашаемое автором отталкивание от правового «законничества». Тройное «не», с которого начинается этот текст, —
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова,
Я не ропщу, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать
налоги —
согласуясь с последующим усилительным — также тройным — «ни» («ни совести, ни помыслов, ни шеи») в этом стихотворении, словно рифмуется с финальным тройным «не» пушкинского «Памятника» (ил. 2.):
Ил. 2. Рукопись пушкинского «Памятника». «Русский Архив». 1881. Кн. I. № 1
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Особого рода финальное бесстрастное равнодушие («приемли равнодушно»), которым заканчивается цикл, явно согласуется с начальным «Не всё ли нам равно?» (которое, впрочем, тоже ведь можно счесть по-своему итоговым: оно завершает первую часть первого стихотворения).
Недолжные «громкие права» можно понять как частный случай того осуждаемого христианской традицией пустословия (или празднословия), к которому отсылает пушкинское цитирование «Гамлета» («Слова, слова, слова») и которое — в контексте всего Каменноостровского цикла — противопоставлено тому единому и единственному Слову, которое есть Бог, как кружение, проступающее во второй строке начального стихотворения («от коих не одна кружится голова»), заставляющее вспомнить бесовские потехи — «в поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам», противоположно иному — прямому — путь к «Сионским высотам» (эта цель становится ясной по мере развёртывания цикла). Во всяком случае, и финальные «хвалу и клевету» также ведь вполне можно расценить как такие же «слова, слова, слова», которые истинному поэту надлежит ценить «не дорого». Ведь хрестоматийно знаменитое «… не оспоривай глупца» несколько странно, как может показаться, завершающее одический «Памятник», если мы его будем рассматривать опять-таки в контексте всего цикла, имеет единственное полное семантическое соответствие только со строкой — «оспоривать налоги».
Ироническое «отказали боги» самым очевидным образом контрастирует с упоминанием Бога истинного: при этом мудрое «Бог с ними» уже готовит читателя к переходу от возможного осуждения чужой греховности к обращению к своей собственной. В целом же переход от земной суеты к «Божественным природы красотам» невозможен без оставления «олухам» (ср. уже упомянутого «глупца» из «Памятника») их упражнений в празднословии (парламентских ли, журнальных ли). Немаловажно, что гипотетическое участие (сладкая участь) в законнически-правовом регулировании жизни у Пушкина передаётся через негативно-законническое же стеснение, о-граничение, наложение ограничительных рамок на других (а не свободное собственное творчество): отсюда и глаголы «мешать», «оспоривать», подчёркивающие сомнительность для автора этой законнической «сладкой участи»). Это сфера недолжного земного, не имеющего отношения к духовному (разве только как его антитеза), ложная самость, самоутверждение (здесь вновь вспоминается оппозиция Закона и Благодати: потому и столь остранённо-равнодушно упомянуты права человека, свобода слова, независимость печати, цензурные притеснения).
Вторая часть начального стихотворения вся построена на том, чтобы как-то словесно передать «иные, лучшие», отличные от законнических, «права» (это «права» сверхзаконные, иными словами, в русской духовной традиции — благодатные), как и «иную, лучшую», нежели правовая «свобода печати» для «балагура» (который, заметим, «морочит олухов»-читателей), свободу. Инфернальное кружение в тексте сменяется душевным трепетанием. Не в законническом «правовом поле», связанном с теми или иными ограничениями, но в свободе христианской, когда человек (в первом стихотворении) не озабочен, не стеснён никакой земной локализацией, может быть реализована не правовая («свобода ихняя», как затем сказал старец Зосима Достоевского), а истинная свобода: «по прихоти своей скитаться здесь и там».
На просторах вольного скитальничества, когда скиталец (очарованный странник, как затем это сформулировал другой русский писатель) — зритель и восхищённый («трепеща радостно») созерцатель божественных красот и созданий «искусств и вдохновения», которые, как совершенно понятно, боговдохновенные: эти создания потому и стоят также рядом текстуально с божественными красотами, что истинный Создатель того и другого отнюдь не Пиндемонти, но Бог. Если в первой части сопоставлены недолжные и должные права и свободы, то в последней строке первого стихотворения впервые звучит слово счастье («Вот счастье!»). Конечно, в данном случае это земное счастье, которое, оказывается, всё-таки возможно (в отличие от убеждения, высказанного тем же автором в 1833 г.), хотя оно и здесь намеченное отнюдь не как прозаическая реальность, но как мечта. Однако последняя ли эта свобода, достигнута ли цель странничества? На этот вопрос попытаемся ответить далее. В финале же первого произведения цикла мы видим катарсическое земное умиление («Трепеща радостно в восторгах умиления»), которое предвосхищает для читателя катарсис уже иного, так сказать, порядка, которым затем и завершается Каменноостровский цикл как таковой.
Во втором стихотворении от кружения и шума сонмища празднословных витий читатель переходит к отцам пустынникам и женам непорочным, которые «сложили множество божественных молитв». Если же продумать в целом направленность движения, то мы видим переход от любования божественными (созданных Богом) красотами и вдохновленных Им же созданиям «искусств» (первое стихотворение) к великопостной молитве Ефрема Сирина.
На том же самом листе, на котором расположен автограф стихотворения «Из Пиндемонти», Пушкин набросал четыре строки другого текста: «Напрасно я бегу к Сионским высотам». Этот текст одновременно и примыкает к первому тексту цикла, и готовит переход к тексту II. Ведь речь идёт о том самом Граде небесном, который очевидным образом противопоставлен земным страстям и мирским занятиям, от которых пытается уклониться, не «оспоривая» их, лирический герой первого стихотворения. Исследователи зачастую слишком буквалистски истолковывают первое слово этого наброска. Тогда как в нём передана не бесполезность намерения избавиться от греха, а, так сказать, совершенно «нормальное» для любого христианина ощущение своей неизбывной греховности — отсюда и сокрушение сердечное.
«Грех алчный», который не только подстерегает как автора, так и любого человека на пути к «Сионским высотам», но и «гонится» за каждым «по пятам», важно ещё опознать в своём сердце: II cтихотворение (молитва) именно об этом. Персонификация греха, традиционно представленная львом (ср. «лев рыкающий»), позволяет в данном случае создать чрезвычайно выразительную картину, когда именно потому грех/лев и может настигнуть грешника/оленя, что последний как бы пропах грехом (отсюда «бег пахучий»: так «запах» греха препятствует достижению Сиона (святости: Иерусалима Небесного). «Песок сыпучий», в который уткнул свои «ноздри» лев/грех, алчущий/голодный, ибо желает догнать как раз ещё при жизни грешника/странника, дабы тот не успел достичь «Сионских высот» (спасения), не только одним штрихом живописует географическую реальность — окружение Иерусалима земного, т.е. пространственные его атрибуты, но и передаёт ощущение конечности человеческой жизни, поскольку сыпучий песок вызывает в памяти песочные часы. Итак, в пушкинском наброске убегающий «я» остро осознаёт самого себя грешником (мы видим уже не противопоставление недолжного, сковывающего личность правового вольному скитальничеству, но контраст Сионских высот и грешного «я»).
Чрезвычайно важно, что падший у Пушкина не кто-то другой, вместо него, а именно он сам. И только почувствовав себя падшим, которого настигает «грех алчный», духовно сосредоточившись на одной-единственной, повторяемой священником, молитве, возможно от катарсического умиления первого стихотворения перейти к другому умилению («но ни одна меня не умиляет»): «чтоб сердцем возлетать», подобно «отцам» и «женам», именно туда, куда и направлялся лирический герой, необходимо оживить в собственном сердце «дух смирения, терпения, любви / и целомудрия». Форма слова — о-живить (предполагающая некую мертвенность, о-мертвелость сердца падшего человека), уже имеет в себе пасхальное зерно, так как обращена к Богу («Владыко дней моих!»), только Он может помочь увидеть человеку собственные грехи.
В «Подражании италианскому» показано не предательство Иуды, как это иногда полагают (о поцелуе Иуды, да и то косвенно, упоминается лишь в последней строке), а также не его самоубийство, но инфернальное его воскрешение и посмертная судьба. Падение тела «предателя ученика» (который в буквальном смысле падший) словно предостерегает как самого автора, так и читателя от повторения этой же смертной и посмертной судьбы. Во всяком случае, намерение Иуды покончить счёты с жизнью в поэтическом космосе Пушкина (как и в христианской традиции, в том числе, в итальянском «оригинале» пушкинского парафразиса) не может быть реализовано, этот «план» — «сорвался», не случайно это первый глагол (и единственный, относящийся к собственной «активности» героя стихотворения): вполне умереть своей волей, так «наказав» самого себя за предательство Христа, не получилось! Иуда не может уйти навсегда, навечно: предав Христа, он только лишь переходит, помимо своей воли, в иной (инфернальный) мир, лишённый Спасателя и спасения, где этого героя (и одновременно «всемирного врага») встречают, так сказать, аплодисментами («радуясь и плеща»).
Воспоминание («не как Иуда») звучит на каждой православной литургии, напрашивающаяся в связи с этим аналогия не произвольна, ведь заканчивается текст не прожиганием уст предателя-ученика, а называнием (первым в цикле) Христа («…лобзавшие Христа»). Во время Страстной седмицы каждый христианин особо остро чувствует страх Божий (в данном случае этот страх и связан с посмертной судьбой Иуды, ведь целование креста может стать не только свидетельством верности, но и слишком легко — поцелуем Иуды).
В четвёртом стихотворении цикла («Мирская власть») сопоставлено суетное земное («мирское») как таковое и небесное. «Грозные часовые» отсылают к мiрской власти на земле (начиная с римских солдат, поставленных у Распятия, до сего дня), а в подтексте и к власти «князя мiра сего», того самого недолжного владыки из предыдущего текста цикла, которого теперь сменяет искупивший «род Адамов» Владыка подлинный — Царь царей. Само название стихотворения прямо отсылает не к частному эпизоду современного Пушкину миропорядка, локализованного каким-либо санкт-петербургским храмом (или даже пространством Российской империи), но изначально задаёт совершенно иную временну́ю перспективу. Каждый раз в миру происходит со-распятие Христа, и у креста («животворяща древа», в пушкинском цикле сменяющее «древо», с которого сорвался «предатель ученик») можно быть с Христом, подобно Мариигрешнице, но можно и уподобиться также упомянутым в этом тексте мучителям, терзающим плоть Христа. Однако самая, может быть, важная параллель, связующая тексты цикла в особое единство, состоит в том, что «род Адамов» (корневая форма слова народ), искуплённый казнью Христа, в следующем же тексте словно бы ожидает пасхального Воскресения, покоясь на кладбище родовом.
В шестом стихотворении цикла «все мертвецы столицы», каждый из которых уже имеет и свой собственный посмертный «памятник» («надписи и в прозе и в стихах» на них словно бы предвосхищают земные же состязания в славе, ведь это и есть те самые «слова, слова, слова», упоминаемые в таком же безблагодатном контексте в первом произведении цикла), гниют в неволе, «кое-как стеснённые рядком», тогда как чаемое автором «кладбище родовое» представляет собой, напротив того, простор, свободу от посмертного стеснения.
Мы могли бы рассматривать это произведение в рамках тривиальной «кладбищенской» тематики (суетности всего земного), если бы в тексте не имелись порождённые проблематикой пасхального цикла, прозрачные инфернальные коннотации. При этом болото, в котором как будто бы весьма прозаически «гниют все мертвецы столицы», явно отсылает читателя к упомянутой в третьем тексте геенне. Можно заметить, что так вводится и особый запах гниения. Впервые упоминание о запахе (запахе греха) можно констатировать в наброске «Напрасно я бегу…». Ведь именно передачей запаха заканчивается этот короткий текст («оленя бег пахучий»): как раз по запаху лев («ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий») и выслеживает («следит») грешника; затем — в этом же инфернальном ряду — возникает смрадный Иуда, ставший желанной «добычей смрадной» для Ада. Так что гниющие «мертвецы столицы», увы, определённо соотносятся в контексте цикла с этой «добычей». Далеко не случайно поэтому и упомянуты «могилы склизкие», нет, это вовсе не «реалистическая зарисовка» особенностей погребения в северной столице.
Если зев склизких могил публичного кладбища отсылает читателя к упомянутой в третьем стихотворении цикла «гортани геенны гладной», ожидающей Иуду, то мёртвые родового кладбища, завершая (но не вполне завершив) уготованный смертным круг (отсюда упоминания об осени, а не зиме («осеннюю порой»), и о вечере, но не ночи («в вечерней тишине»)), «в торжественном покое», как и полагается в Страстную субботу, отнюдь не «гниют», но, как уже подчёркнуто выше, «дремлют», ожидая пасхального Воскресения. Важна и молитва, которая соединяет их с живыми («проходит селянин с молитвой и со вздохом»).
У Пушкина мы видим переход от праздной болтовни о земных заслугах (не только могильные «надписи и в прозе и в стихах» могут быть соотнесены с цитируемой уже строкой из «Гамлета»: на читателя обрушивается нагромождение существительных, словно бы гвалт множества слов, их обозначающих — решётки, столбики, столбы, нарядные гробницы, урны, мавзолеи, купцы, чиновники – существительные, которые в тексте «кое-как стеснённые рядком», буквально оглушают: это также «слова, слова, слова») к «вечерней тишине», к торжественному покою, и только после этого возникает иной образ. Последняя строка пушкинского текста — «Колеблясь и шумя…» — своей динамикой уже предвосхищает будущее Воскресение, словно бы не позволяя дремлющим навечно уснуть. Поэтому первая часть стихотворения завершается безблагодатным унынием («злое на меня уныние находит»), вызывая желание «плюнуть да бежать», а вторая часть начинается с умиления («Но как же любо мне»).
В завершающем стихотворении на уровне самой его структуры обнаруживается возвращение к началу: как и в открывающем Каменноостровский цикл тексте, в первой же строфе имеется троекратное отрицание («нерукотворный», «не зарастёт», «непокорной»); как и в первом тексте, в последнем этим первоначальным отталкиванием от недолжного автор не ограничивается: в завершающей строфе мы вновь видим те же три «не» («не страшась», «не требуя», «не оспоривай»).
Заявленная в первом же тексте цикла его парафрастичность («Из Пиндемонти»), подкреплённая прямой цитатой из «Гамлета», а затем, осложняясь православной церковно-славянской традицией, проходя красной нитью через весь цикл, в последнем тексте выходит на новый уровень, будучи эксплицирована цитатой из Горация.
За без малого двести лет много было написано о странном словосочетании, избранном Пушкиным для передачи собственного парафрастического подобия горацианского «monumentum», но так и нет сколько-нибудь общепринятого мнения — почему избрана для этого Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга (ил. 3)? Воздвигнутая Монферраном в 1834 г., она не только должна была, по мысли Николая I, засвидетельствовать победу над Наполеоном, одержанную в период царствования его старшего брата, но и по замыслу несла в себе идею соперничества, хотя и не поэтического: она должна была быть непременно выше парижской Вандомской колонны, прославляющей прежние победы Наполеона.
Ил. 3. Садовников В.С. Вид Дворцовой площади и Зимнего дворца в Санкт-Петербурге (фрагмент). 1840-е гг. Государственный Эрмитаж
Однако же, помимо общей идеи состязательности, победительности, которая не может так или иначе не проступать у любого поэта, вздумавшего парафрастически передавать Горация, заявлявшего о своём превосходстве над другими, чрезвычайно важна александрийская звуковая оболочка («состязание» двух Александров): ведь как Александрийская колонна в 1834 г. отсылала зрителя к русским победам 1812 г., так введённое Пушкиным слово «Александрийского», вторгаясь в горацианский тематический комплекс, становилось последним, завершающим отзвуком александрийского стиха, которым написаны предыдущие тексты Каменностровского цикла; как колонна на Дворцовой площади, будучи самым большим в мире цельным продуктом из розового гранита, увенчалась фигурой ангела с крестом (ил. 4), так и пушкинский цикл, написанный александрийским стихом, увенчивает произведение уже другой ритмической природы (но с отсылкой к прежнему метру).
Ил. 4. Ангел на Александровской колонне
Эйдос же победительности (отсюда и слово «выше», имеющееся и у Горация, и у Державина, и у Пушкина) в пушкинском парафрастическом тексте, перерастая заданную античностью земную перспективу в соответствии с логикой последовательности пасхального цикла, передаёт иную победу — пасхальную победу над смертью.
Во всяком случае, в первой же строке пушкинского «Памятника» имеется отсылка к пророческим словам Христа о Его будущем воскресении («нерукотворный»): «треми деньми ину нерукотворену созижду» (Мк. 14: 58). Да и питерская колонна увенчивается всё-таки не фигурой победительного Александра (как вандомская колонна — фигурой Наполеона), а ангелом и крестом. Идея святости уже, так сказать, подразумевалась русским монументом: и установка колонны на пьедестал, и открытие памятника состоялось 30 августа (по юлианскому стилю) – это день перенесения мощей святого благоверного князя Александра в Санкт-Петербург, главный день его празднования. Так что, кроме «двух Александров», в сознание пушкинских современников мог входить и третий Александр. Открытие же памятника сопровождалось торжественным богослужением у подножия колонны, которое соотносилось с победным молебном русских войск в Париже в день православной Пасхи 29 марта 1814 г. Может быть, еще и поэтому, слово «столп», как много раз замечалось, не использовавшееся — до Пушкина — по отношению к Александровской колонне, но зато прямо отсылающее к православной традиции (включающее в себя и святость, и столпничество, и Церковь как «столп и утверждение Истины»), завершает первую строфу этого произведения.
Слово «умру», возникающее в начале второй строки, не только актуализирует державинское «весь я не умру», буквалистски продолжая парафрастическую традицию переложения горациевского текста, но и, будучи введено в циклический контекст Страстной седмицы, переводит читательское внимание в иной план. Последовательно, по порядку, в соседних текстах цикла осмысливаются смерть Иуды (с её потусторонней «отменой»), смерть Христа (с пасхальными коннотациями), смерть других (с различными вариантами того, что с ними будет потом), наконец, уже не других, но в ряду этих других (включая Иуду, Христа, мертвецов столицы и усопших кладбища родового), собственная будущая смерть, смерть пиита: во всяком случае, выражения «мой прах» нет ни у Ломоносова, ни у Державина.
Ни в одном парафразе Горация как до Пушкина, так и после (ср., например, поэтический опыт Брюсова) нет никаких собственно пасхальных коннотаций, в них речь идёт исключительно о сохранении в памяти потомства моей «части», поэтического инобытия моего человеческого «эго». Как справедливо подчёркивалось многими исследователями, лишь в пушкинском парафразе появляется слово душа, манифестируется глубинная связь между душой и творчеством («душа в заветной лире»). Это таинственное и небывалое соединение, кажется, намеренно помещённое Пушкиным в ту же самую строку, которая открывается буквальным повтором державинского парафраза, дабы подчеркнуть выход за пределы земного как такового, можно было бы и прочитать исключительно метафорически, но ведь душа непосредственно (и совершенно в данном случае «традиционно», если говорить о христианской, а не античной традиции) контрастирует с телесностью («прахом»): отнюдь не моя же «лира» переживёт мое бренное тело, нет, именно моя душа, хотя и «в заветной лире».
Отчего же Пушкин не написал, скажем, вечно «буду тем любезен я народу», но «долго буду»: «долго», как понятно каждому, отнюдь не означает «вечно». На вечность уповал как раз Гораций, а также Державин, верно передавший в первой же строке своего переложения его упования: «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный». Но не Пушкин. Вспомним в связи с этим финал карамзинского Предисловия к «Истории Государства Российского»: «… да цветёт Россия… по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой» [9, с. XIV].
«Милость к падшим», как и прославление свободы, в редуцированной традиции истолкования пушкинского парафраза слишком часто воспринималась в малом времени его жизни. Однако же, если мы будем рассматривать пушкинский «Памятник» как финальное стихотворение всего Каменноостровского цикла, а одновременно и как последнюю страницу его завещания, то четвёртая строфа текста приоткрывает и совсем другие смыслы. Тогда восславляемая здесь «свобода» непосредственно отсылает читателя к первому тексту цикла («иная, лучшая, потребна мне свобода»); это не свобода «права» или «печати», а, в конечном счёте, христианская свобода от греха. Падшие в этом контексте — это не только другие (у которых, по-видимому, в силу некоторого их самоослепления правами, «кружится голова»), но и в целом все люди, отягчённые грехом, опять-таки, как и я сам, за кем «грех алчный гонится», — падший («и падшего крепит неведомою силой»). Поэтому и в слове «милость» можно узреть и то, что, будучи выше Закона, заставляет вспомнить вызываемое молитвой корневое христианское умиление («но ни одна меня не умиляет, как та»). В таком случае финальные во второй и четвёртой строках этой четвёртой строфы глаголы «пробуждал» и «призывал», относимые поэтом к самому себе (и чем, собственно, он предполагает быть любезным «народу»), никак невозможно дистанцировать от другого пушкинского парафраза — молитвы Ефрема Сирина. Последнее его слово, обращённое к Богу — «о-живи» (т.е. мёртвое сделай живым, иными словами, воскреси): слово «пробуждал» в контексте цикла становится словно бы мимесисом — со стороны поэта — божественному «оживи». В предыдущем тексте цикла речь идёт о дремлющих мёртвых: семантика пробуждения от смертного сна включает в себя не только сугубо земную прагматику, но и скрытые в слове «пробуждение» сакральные коннотации.
Так что заветная лира не только прославляет самого поэта («и славен буду я»), не только восславляет свободу (в том числе с теми коннотациями, которые я отметил), но и подражает в своём творчестве Богу-творцу. Но это ещё и христианский Бог. Для того же, чтобы убедиться в христианском, а не абстрактно «общечеловеческом» значении слов «чувства добрые» и «милость к падшим», достаточно сопоставить эту часть пушкинского парафраза с горацианским инвариантом, где ничего подобного нет: античный, как и христианский, образы мира, имеют свою собственную семантику: их различие хорошо понимал Пушкин, рассуждая о христианстве как о величайшем перевороте планеты, как о «священной стихии», в которой «исчез и обновился мир».
Та высота, которая задана уже горацианским инвариантом и которую передаёт Пушкин, вслед за Ломоносовым и Державиным, — «вознёсся выше», только у него получила языковое сродство с христианским Вознесением. Потому, в частности, и «выше» даже и рукотворного монферрановского ангела с крестом, что обнаруживает другое сродство. Ведь пушкинский парафраз молитвы Ефрема Сирина текстуально выстроен особенным образом: сложили «множество божественных молитв» отцы и жены как раз для того, чтоб «сердцем возлетать во области заочны» (возлетать и вознёсся в равной степени свидетельствуют о Вознесении). Да и разве не к той же самой — нерукотворной — высоте отсылают и Сионские высоты? Речь идёт о таком Граде небесном, который в русской традиции соприроден исключительно святости: так что не нужно словно бы укорять поэта, который покаянно свидетельствует о том, что «средь дольних бурь и битв» слишком трудно падшему человеку достичь её…
Свобода (как уже было подчёркнуто, «иная, лучшая», нежели её истолковывали обычно журнальные балагуры, комментируя Пушкина) вовсе не так уж противоположна тому послушанию, которое возникает в последней строфе стихотворения (и всего цикла). Для того чтобы понять, как античная гордость этой Мельпомены-Музы (ср. исходное горацианское «Испытай же гордость, снисканную твоими заслугами») могла преобразиться в христиански-смиренное «будь послушна», недостаточно только рамок завершающего цикл текста, для этого нужно вернуться к его началу.
Воспеваемая уже в первом стихотворении цикла свобода (но свобода иная, нежели обычно представляют) соотносится не столько с человеческим, мирским, сколько как раз с «божественным» («дивясь Божественным природы красотам»). Однако же в этом начальном тексте цикла ещё имеется всё-таки некое человеческое, слишком человеческое упование на себя, на свои собственные силы. Тогда как в последнем тексте цикла мы видим существенную переакцентировку: то представление о личной свободе, о котором ведь, в сущности, и было сказано ранее «Вот счастье! Вот права…», углублялось и переосмысливалось на протяжении всего пушкинского поэтического мимесиса Страстной недели, чтобы прийти к иной формуле:
Веленью Божию, о муза, будь послушна.
Это сочетание свободы и послушания, свободное послушание, является подлинным поэтическим открытием Пушкина. Ранее в цикле оно относилось к отцам пустынникам и жёнам непорочным, однако в финале соотносится уже не только с Музой, пушкинской музой, но и, будучи финальным образом, с его собственной творческой интенцией как поэта. Таким образом, поздний Пушкин приходит к выводу, что быть послушным «велению Божию» — цель творчества.
Предполагаемая обида, о которой также идёт речь в последней строфе, может исходить от тех же самых фанатиков земных «прав» и формальных «свобод», о которых также шла речь изначально в этом цикле, объединённых в конце концов собирательным именем глупца: «И не оспоривай глупца». В конце концов, и сам биографический Пушкин отдал достаточную дань безумству «гибельной свободы», чтобы достаточно разобраться уже в её обольщениях. Если их (его) фетиши оставляют (должны оставлять!) равнодушным умудрённого жизнью поэта (ещё раз напомним примирительное «Бог с ними»), то зачем же, действительно, этого глупца, погрязшего в мирском, оспоривать? Глупец — этот тот, кто и после Воскресения Христова продолжает, как будто бы и не было этого Воскресения, чрезвычайно ценить свои собственные «громкие права»; тот, кто после Воплощённого Слова вернулся к «словам, словам, словам». Его нужно смиренно пожалеть, а никак не «оспоривать».
Но почему «не требуя венца», то есть заслуженной награды? Это ведь было бы справедливо? Так полагали и Гораций, и Ломоносов, и Державин. Увенчание поэта за его заслуги — как же без него? У Пушкина акцентируется значимое и чрезвычайно существенное умолчание о земной награде потому именно, что он уповает на иное, пасхальное, увенчание: во всяком случае, фраза «душа в заветной лире» отсылает именно к нему. Но как же мои грехи, памятуя о которых я «трепещу и проклинаю» себя самого? Покаянно вспоминает об этих грехах поэт, как мы выяснили, и в рассматриваемом цикле, но вместе с тем надеется и на милость Божию к его собственным падениями. Во всяком случае, как он сам призывал к той же милости — по отношению к падшим: «и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам» (Мф. 7: 2).
«Нерукотворный», «столп», «вознёсся», а затем, в первой же строке второй строфы «душа» — мы видим изначальную насыщенность пушкинского текста лексикой христианско-православной по своему происхождению. Финальные слова первой и второй строфы — «столп», «пиит», диалогически соотносясь с антично-римским эпиграфом «Exegi monumentum», недвусмысленно актуализируют весьма определённый вектор пушкинского парафразиса: «перевод» (и, тем самым, адаптацию, укоренение) античного культурного поля в «свою» собственную русскую «античность» – церковнославянскую языковую, а наряду с ней, и ментальную, духовную стихию. И этот «перевод» как нельзя более органично вписывается в охарактеризованную мною выше «страстную» каменноостровскую тематику.
Итак, в самом сжатом виде подытоживая, замечу, что в отличие и от горацианского инварианта, и от русских его парафрастических вариаций, в тексте пушкинского парафрасиса впервые появляется упоминание о бессмертной душе («душа в заветной лире»); «милость к падшим» в христианском контексте понимания вовсе не сводится к реалиям малого времени пушкинской эпохи, а вбирает в себя представления об умилении и грехе (воскресение грешников и есть подлинная «милость» по отношению к этим «падшим»). Наконец, обращённый к собственной музе, призыв к послушанию «велению Божию» возвращает читателя к финальным строкам первого стихотворения этого цикла: тот катарсис, который испытывал лирический герой, «трепеща радостно в восторгах умиления», может пережить теперь и читатель последнего пушкинского цикла, но уже умудрённый преодолением страстных искушений на его пути к собственному освобождению от ветхого человека в себе. Это и будет для него подлинным катарсисом, своего рода поэтическим мимесисом пасхального воскресения, переданным в этом случае как парафрастическое «преодоление» горацианской (античной) установки укоренённостью пушкинского гения в русской духовной традиции.
Сделаем и некоторые общие выводы относительно вектора пути Пушкина, учитывающие все три его «завещания». Совершенно ясно, что односторонними являются как попытки непременно вписать этого нашего «француза» в европейский культурный контекст, преимущественно инославный, так и обязательно увидеть в его произведениях сплошь «местное» православное содержание (скажем, цитируемые мною строки Пушкина об отечественной истории, «какой нам Бог дал», наше всё пишет-то по-французски…).
Ф.М. Достоевский, говоря о значении Пушкина для России, особо выделил «способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций» [10, с. 130] (ил. 5). Согласно убеждению Достоевского, «способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит её со всем народом нашим <…>, он есть и совершеннейший выразитель этой способности <…> в деятельности художника» [10, c. 131]. Напоминая о пушкинских «Сценах из Фауста», «Дон Жуане», «Пире во время чумы» и других произведениях, Достоевский, переводя его высказывания на язык литературоведения, утверждает парафрастичность Пушкина и связывает эту пушкинскую особенность с всемирностью и всечеловечностью русского народа. При этом «последнее слово», которое, как надеется Достоевский, скажет ещё народ, есть слово Христос. Это слово как раз и означает то чаемое «всемирное» — вселенское — единение во имя Христово (то «братское окончательное согласие всех племён по Христову евангельскому закону» [10, c. 148]), которое в русской культуре накрепко срослось с именем Пушкина, соединившего «чужие гении в душе своей, как родные» [10, c. 148]. Никто со времени этой речи не сказал лучше о главном в Пушкине.
Ил. 5. Рукопись А.С. Пушкина «На перевод Илиады». «Рукописи Пушкина. I. Автографы Пушкинского музея Императорского Александровского лицея». Вып. 1. Издание кн. Олега Константиновича, СПб., 1911
В стихотворениях Каменноостровского цикла соединились церковно-славянское и итало-французское (а ещё и римско-античное) культурные поля. Однако соединились не на абстрактно-«общечеловеческом» фундаменте, а на фундаменте христианско-вселенском, в его православном — для русской культуры — изводе, акцентируя пасхальный смысл этой культуры: паломничество к Пасхе как духовный путь самого поэта. В «Капитанской дочке» можно узреть не «разрыв», но соединение — на том же фундаменте — простонародного и дворянского (видимо, что-то подобное и почувствовал читатель Пушкина дворянин Пришвин, называя это своей родиной). Тот же пасхальный вектор пути — после Пушкина — можно заметить и у Гоголя с его задачей воскресения «мёртвых душ» (и тем же пасхальным вектором «Выбранных мест…») [11], и у самого Достоевского [12].
Продолжая споры о том, каким был Пушкин, уже невозможно, как это зачастую происходило ранее в нашей науке, игнорировать его твёрдое убеждение в том, что именно «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, даёт нам особенный национальный характер». В поэтике позднего Пушкина воплощаются важнейшие грани русского национального характера; при этом важно не забывать о духовном истоке его «особенности» – православии.
About the authors
Ivan A. Esaulov
A.M. Gorky Literature Institute
Author for correspondence.
Email: ivan.esaulov@icloud.com
Doctor of Philological Sciences (PhD), Professor; Project Manager of the Russian Science Foundation, Russian Literary Criticism as a Holistic Phenomenon: Pluralism of Historical Forms and Mutual Complementarity of Value-Based and Methodological Foundations (24-18-00636)
Russian Federation, MoscowReferences
- Bocharov S.G. Iz istorii ponimaniya Pushkina // Vestnik Rossiiskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda. 1999. № 1. S. 83–91 (in Russian).
- Nepomnyashchii V.S. Pushkin: Problema tselostnosti podkhoda i kategoriya konteksta (metodologicheskie zametki) // Tam zhe. S. 91–104 (in Russian).
- Pushkin A.S. Poln. sobr. soch.: V 10 t. M., 1966. T. 10. Dalee teksty Pushkina tsitiruyutsya po etomu izdaniyu (in Russian).
- Prishvin M.M. Sobr. soch.: V 8 t. M., 1986. T. 8 (in Russian).
- Lotman Yu.M. Ideinaya struktura «Kapitanskoi dochki» // On zhe. V shkole poeticheskogo slova: Pushkin, Lermontov, Gogol'. M., 1988 (in Russian).
- Izmailov N.V. Stikhotvorenie Pushkina «Mirskaya vlast'»: (vnov' naidennyi avtograf) // Izvestiya Akademii nauk SSSR. Otdelenie literatury i yazyka. M., 1954. T. XIII. Vyp. 6. S. 548–556 (in Russian).
- Surat I.Z. Pushkin: biografiya i lirika. Problemy. Razbory. Zametki. Otkliki. M., 1999 (in Russian).
- Davydov S. «Podrazhanie ital'yanskomu» i ego istochniki // Problemy sovremennogo pushkinovedeniya. Pskov, 1994. S. 103–111 (in Russian).
- Karamzin N.M. Istoriya Gosudarstva Rossiiskogo. M., 1988. T. 1 (in Russian).
- Dostoevskii F.M. Poln. sobr. soch. L., 1984. T. 26 (in Russian).
- Esaulov I.A. Rodnoe i vselenskoe v «Mertvykh dushakh» N.V. Gogolya: parafrasticheskii kontekst ponimaniya // Problemy istoricheskoi poetiki. 2020. T. 18. № 1. S. 175–210 (in Russian).
- Zakharov V.N. Paskhal'nyi rasskaz kak zhanr russkoi literatury // Problemy istoricheskoi poetiki. 1994. T. 3. S. 249–261 (in Russian).
Supplementary files