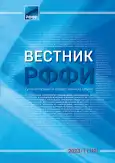The Ainu in the History of the Japanese–Russian Relations in the 18th and 19th Centuries
- Authors: Shchepkin V.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Oriental Manuscripts RAS
- Issue: No 1 (2023)
- Pages: 58-70
- Section: WHAT THE WINNERS OF RFBR COMPETITIONS: HISTORICAL SCIENCES ARE WORKING ON:
- URL: https://journal-vniispk.ru/2587-6090/article/view/278737
- DOI: https://doi.org/10.22204/2587-8956-2023-112-01-58-70
- ID: 278737
Cite item
Full Text
Abstract
The article summarizes the findings of the research on the role of the Ainu, the indigenous people of Sakhalin, the Kuril Islands and Hokkaido, in the establishment and development of Japanese–Russian relations in the 18th–19th centuries. The authors substantiate the need to use a wide range of sources in Japanese to study this issue. Periodization of the Ainu history in the context of Japanese–Russian relations is suggested in the article. The first stage (early 18th – early 19th centuries) is marked by the active participation of the Ainu in the Japanese–Russian relations. A comparative review of the documents of the Russian and Japanese expeditions allowed to identify at least four functions of the Ainu in this process: guides, interpreters, informants, and trade intermediaries. The article provides details of each function, including the significant role of the Ainu in the mapping and naming of geographical objects in the Sea of Okhotsk region during the Russian and Japanese expeditions. At the second stage (mid-19th – early 20th centuries) the Ainu are transformed from the subject of Japanese–Russian relations into a passive entity, and their lands — a subject of negotiations and war trophies. The authors study the question of the Ainu status during the Japanese–Russian negotiations on territorial demarcation in 1853–1875. Attempts by the Russians to separate the issues of Ainu citizenship and belonging to certain territories nevertheless did not spare the Sakhalin and Kuril Ainu from being forcibly relocated by the Japanese authorities after the Treaty of St. Petersburg in 1875.
Full Text
С начала XVIII в. и вплоть до установления дипломатических отношений между Российской империей и Японией в 1855 г. основной контактной зоной русских и японцев являлись территории, окружающие Охотское море, — южная оконечность полуострова Камчатка, Курильские острова, Хоккайдо, Сахалин. В XVIII–XIX вв. почти все официальные и неофициальные контакты русских и японцев происходили именно на этих землях. Сахалин и Курильские острова оставались предметом взаимных территориальных притязаний вплоть до середины XX в., а юрисдикция России над южными Курилами до сих пор не признаётся правительством Японии.
В то же время указанные земли многие столетия являлись домом для одного из коренных народов островного мира Тихого океана — айнов (ил. 1). Важную роль айнов в истории российскояпонских отношений осознавали ещё основоположники её изучения А.С. Полонский и Д.М. Позднеев, значительную часть своих трудов уделившие этому народу [1, 2]. Однако в дальнейшем попытки определить их место в истории российско-японских отношений практически не предпринимались. В настоящее время в США и странах Западной Европы историю айнов преимущественно рассматривают с точки зрения их отношений с японцами в прошлом [3] и наши дни [4, 5], а также с использованием подходов экологической истории [6].
Ил. 1. Айнские мужчины на постановочной фотографии. 1870-е гг. Источник: Научный архив РГО (коллекция А.В. Григорьева)
Наиболее активны в изучении истории айнов в контексте российско-японских отношений японские учёные, однако они, как правило, опираются лишь на японоязычные источники и склонны делать акцент на Курильских островах, обходя вниманием айнов Сахалина и Хоккайдо [7–9].
В российской исторической науке в последние годы также наметился определённый интерес к теме айнов в контексте формирования российско-японских отношений. В большей степени он направлен на айнов Сахалина и на период со второй половины XIX по начало XX в. [10– 12]. Некоторые исследователи обращаются к истории айнов в контексте широких торговых связей с разными народами Дальнего Востока [13, 14]. К сожалению, общим недостатком этих работ является источниковая база: они опираются преимущественно на опубликованные российские источники и научные труды предшественников, изредка задействуя также отдельные работы японских историков, в то время как архивные источники, прежде всего японоязычные, используются крайне редко.
Для понимания истории айнов в период становления российско-японского взаимодействия критически важно использование источников XVIII–XIX вв. на японском языке, поскольку по видовому разнообразию, охвату проблематики и глубине её проработки с ними не могут сравниться источники на любых других языках. Более того, именно российские исследователи способны критично и максимально объективно использовать японоязычные источники, в том числе путём аналитического сопоставления их с российскими архивными материалами (ил. 2).
Ил. 2. Изображение вооружённого конфликта во время визита российской экспедиции Н.А. Хвостова и Г.И. Давыдова на Итуруп в 1807 г. Подпись гласит: «Жители дружественных посёлков (айны) сражаются с “красными людьми” (русскими)». Рисунок из японского ксилографа 1861 г. Источник: Институт восточных рукописей РАН
В рамках поддержанного РФФИ проекта «Айны в истории российско-японских отношений XVIII–XX вв.» группа петербургских историков задалась целью установить место и роль этого коренного народа в истории двусторонних отношений на разных её этапах: от первоначального сбора информации русскими и японцами друг о друге до приграничного размежевания во второй половине XIX – начале XX в. При этом мы подходили к изучению истории двусторонних отношений России и Японии как к многосубъектному процессу, не ограниченному государствами как основными акторами. Важными субъектами этих отношений, чьи мотивы и действия (как и само их существование) мы не могли не учитывать, были также местные власти (Сибирское губернаторство, администрации в Охотске и на Камчатке — в России, княжество Мацумаэ — в Японии), купцы и торговые дома, а также, конечно, айны. Основным методом стал анализ, в том числе сравнительный, российских и японских архивных источников (как опубликованных, так и впервые вводимых в научный оборот): документов российских и японских экспедиций XVIII–XIX вв., дневников, карт, словарей, переписных листов и т.д.
В результате проведённой работы мы пришли к выводу, что история айнов с точки зрения их места в истории российско-японских отношений подразделяется на два продолжительных периода. Первый длился с начала XVIII в. (исходной точкой можно считать экспедицию И.П. Козыревского на северные Курильские острова в 1713 г.) до начала XIX в. (а именно до освобождения капитана В.М. Головнина и его спутников из японского плена в 1813 г.). В этот период айнов следует признать одним из субъектов российско-японских отношений, оказывавших активное влияние на их становление и развитие. Второй период начался с переговоров о территориальном размежевании миссией адмирала Е.В. Путятина в середине XIX в. и продолжался до поражения Японии во Второй мировой войне и репатриации японцев и айнов с Сахалина и Курильских островов в середине XX в. В этот период айны превращаются из действующего субъекта в подчинённый объект российско-японских отношений, чья территория расселения становится предметом переговоров и трофеем военных побед.
Что касается первого периода, когда айны были активными участниками ранних российско-японских отношений, нам удалось выделить как минимум четыре основные их функции в этом процессе: 1) проводники (сопровождение экспедиций и участие в картографировании); 2) информанты (сообщение сведений о России, русских и их деятельности — японцам и о Японии, японцах и их деятельности — русским); 3) переводчики (перевод с японского языка на русский через айнский и обратно в ходе экспедиций и переговоров); 4) посредники в торговле. Ниже будет подробно описана содержательная сторона этих функций.
Айны как проводники
Современная зона распространения топонимов айнского происхождения охватывает практически все земли их исторического расселения: Хоккайдо, Курильские острова, южную половину Сахалина, а также северо-восток японского острова Хонсю, где айнский язык был в ходу по крайней мере до XIII в. Сохранение автохтонных топонимов косвенно свидетельствует об активном участии коренного населения в картографировании и номинации географических объектов в Новое время (XVII–XIX вв.).
Действительно, в ходе изучения документов российских и японских экспедиций XVIII–XIX вв. нам удалось найти многочисленные подтверждения того, что айны регулярно выступали их проводниками. Россияне пользовались услугами айнов северных и средних Курильских островов в своих поездках к южным Курилам и на северо-восток Хоккайдо [15], зримым свидетельством являются ранние карты этого района (ил. 3).
Ил. 3. Карта айнских поселений и крепостей на южных Курильских островах и северо-востоке Хоккайдо (фрагмент). Источник: РГАДА (Ф. 7. Оп. 2. Д. 2539. Л. 531)
От этой практики на время отказались на рубеже XVIII–XIX вв., когда приоритетом стали точные астрономические вычисления положения географических объектов (плавание И.Ф. Крузенштерна), но снова вернулись к ней для облегчения контактов с местными жителями (плавание В.М. Головнина). Японские чиновники свои первые плавания вдоль берегов Сахалина и южных Курильских островов также совершали на лодках местных жителей в их сопровождении [16].
Дневники и письма участников самых первых японских экспедиций на острова Кунашир и Итуруп в конце XVIII в. предоставили ценные сведения о процессе фиксации айнских топонимов в японских текстах и картах. В том числе мы смогли выяснить, что некоторые топонимы, хотя и происходят из айнского языка, были зафиксированы отчасти ошибочно, поскольку являлись ситуативными описаниями некоторых особенностей ландшафта [17]. Роль айнов как проводников не ограничивалась картографической деятельностью русских и японцев. В ряде случаев айны выступали проводниками в связи с конкретными запросами русских и японцев о необходимости посещения японских и российских поселений соответственно. Так, именно айны Итурупа впервые привели русских на Хоккайдо в местную японскую факторию для переговоров о торговле в 1778 г. [15]. В этом смысле весьма показателен рисунок встречи российской экспедиции японскими чиновниками на северо-востоке Хоккайдо, выполненный одним из её участников Д.Я. Шабалиным: айны («мохнатый народ») изображены на нём наравне с японцами и русскими (ил. 4). Таким же образом айны того же Итурупа в 1803 г. сопроводили отряд японских чиновников на о. Уруп в основанное там незадолго до того российское поселение [18].
Ил. 4. Рисунок встречи российской экспедиции японскими чиновниками на северо-востоке Хоккайдо при участии местных айнов 6 сентября 1779 г. Источник: Библиотека Гёттингенского университета (Коллекция Георга фон Аша)
Айны как переводчики
Использование айнского языка тесно связано не только с номинацией географических объектов, но и с другой функцией айнов в ранних российско-японских контактах, а именно с переводческой. Изучение российских и японских документов XVIII – начала XIX в. позволило установить, что айнский язык неоднократно выступал в качестве языка международного общения на Курильских островах, Хоккайдо, а во второй половине XIX в. — и на Сахалине.
Первые встречи официальных лиц России и Японии произошли в 1778–1779 гг., когда отряды российской экспедиции на о. Уруп дважды посетили сезонные японские торговые фактории на северовостоке Хоккайдо. Как российские, так и японские документы об этом событии подробно описывают процесс переговоров. Несмотря на то, что в составе российской экспедиции было по крайней мере два человека, владевших японским языком (выпускники Иркутской навигацкой школы, где он преподавался), переговоры велись на айнском языке: японский переводчик, владевший айнским языком, переводил слова японских чиновников на этот язык, местный айн произносил их на родном языке (вероятно, более связно), а затем сопровождавший россиян курильский айн переводил его речь на русский; аналогично и в обратную сторону [15]. Подобным образом проходило общение между русскими и японцами и в ходе пленения капитана В.М. Головнина и его спутников в 1811–1813 гг. Их с самого начала сопровождал курилец Алексей, через которого они и общались с японским переводчиком айнского языка (иногда прибегая к помощи ещё и айнов Хоккайдо), а тот переводил его речь на японский [19].
Во многом с этой важной ролью айнского языка связана и деятельность русских и японцев по составлению словарей айнского языка. С российской стороны эта работа была начата Н.П. Резановым в 1805 г., а затем продолжена по его приказу Н.А. Хвостовым и Г.И. Давыдовым в 1806–1807 гг. [20]. Составление первых известных японских словарей айнского языка также относится к рубежу XVIII– XIX вв., вероятно, для облегчения коммуникации многочисленных чиновников, которые стали регулярно посещать земли айнов: до тех пор переводческое дело долгое время оставалось семейным ремеслом нескольких домов княжества Мацумаэ, передававшимся из поколения в поколение [21].
Айны как информанты
С самого начала XVIII в. айны выступали также информантами русских о Японии и японцах, а позже и наоборот. Именно от айнов северных островов Шумшу и Парамушира участники экспедиции И.М. Козыревского 1713 г. получили первые детальные сведения обо всём архипелаге, а также о торговых связях с южными островами, а позже от пленного итурупского айна Шитанай русские подробно узнали также о положении островов Хоккайдо и Хонсю, а также о торговле между японцами и айнами [22].
По мере распространения российских промыслов на о. Уруп айны южных Курильских островов — Итурупа и Кунашира, также часто бывавшие на Урупе для охоты, стали регулярно сообщать русским сведения о деятельности японцев на северовостоке Хоккайдо и южных Курилах. Так, нами было установлено, что в инструкции Адаму Лаксману, возглавлявшему российскую экспедицию в Японию в 1792–1793 гг., содержалось предписание выяснить обстоятельства восстания айнов, которое произошло на Кунашире и северо-востоке Хоккайдо в мае–июне 1789 г. [23]. Таким образом, сибирским властям об этом событии стало известно почти сразу, в течение первых двух лет. Поскольку с 1785 по 1792 г. плаваний из России к южным Курилам не предпринималось, очевидно, что информация передавалась от айнов южных Курил их соплеменникам с северных островов в ходе совместных промыслов на Урупе, далее — камчатским и охотским властям и, наконец, в Иркутск.
Схожим образом процесс информирования происходил и в обратном направлении, к японцам. В ходе изучения дневниковых записей японского чиновника Могами Токунаи было обнаружено, что айны на Итурупе сообщили ему о грядущей экспедиции Адама Лаксмана ещё осенью 1791 г. — за год до её прибытия на северо-восток Хоккайдо, т.е. когда указ о её организации был едва выпущен Екатериной II на имя иркутского губернатора [24]. Это, между прочим, косвенно свидетельствует о том, что подготовка к плаванию началась ещё до высочайшего его одобрения. Могами незамедлительно сообщил об этом столичным властям, что, кстати, ставит под сомнение расхожий тезис о том, что прибытие российской экспедиции стало для японцев полной неожиданностью.
Айны как торговые посредники
Ещё одной важной функцией айнов в ранних российско-японских отношениях было посредничество в торговле. Как известно, желание установить регулярные торговые отношения с японцами во многом было стимулом для российского продвижения по Курильским островам в сторону Японского архипелага, по крайней мере в течение всей второй половины XVIII в. Торговля с Японией была необходима для обеспечения продовольствием, прежде всего рисом, а также табаком, рисовым вином и сахаром, тихоокеанских владений России — Охотского порта и Камчатки. Именно установление торговых отношений с японцами стало главной целью российской экспедиции 1778–1779 гг. на Хоккайдо. Чиновники японского княжества Мацумаэ отказались от такого предложения, сославшись на законы центрального правительства, запрещающие вести торговлю с иностранцами где-либо, кроме Нагасаки, однако предложили альтернативный вариант: вести обмен товарами через айнов южных Курильских островов. За этим решением, вероятно, скрываются старания айнских вождей Итурупа и Кунашира, стремившихся сохранить независимость как от японцев, так и от русских, стать ещё и выгодоприобретателями такого положения дел [15].
Российские архивные документы сохранили свидетельства торговых обменов между русскими и айнами южных Курил с 1779 по 1785 г., которые прервались лишь из-за отсутствия постоянного российского населения на Урупе. Когда же в 1795 г. по инициативе сибирского купца Г.И. Шелихова там была основана постоянная колония промышленников и крестьян, торговля с айнами Итурупа немедленно возобновилась и продолжалась до 1803 г. (ил. 5). От айнов русские получали рис, табак и вино, благодаря чему и стало возможным относительно продолжительное существование поселения [18].
Ил. 5. Предводитель российского поселения на Урупе Василий Звездочётов и русские женщины с детьми. Японский рисунок 1804 г. Источник: https://www.jonathanahill.com/pages/books/8401/masayasu-habuto-not-masakai/ manuscript-on-paper-entitled-kyumei-koki-governmental-history-of-hokkaido
Однако с прибытием японской правительственной экспедиции на Итуруп в 1798 г. сведения об этих отношениях оказали определяющее влияние на перевод северо-востока Хоккайдо, Кунашира и Итурупа под прямое управление центрального правительства Японии, а также на характер японской политики в отношении местного населения — айнов. Стремление выдворить русских с Урупа и тем самым пресечь их отношения с айнами южных Курильских островов привело к решению японского правительства превратить Итуруп в естественную крепость и запретить местным жителям покидать остров, а русским и айнам северных и средних Курил — приезжать на него. В то же время длительное пребывание русских поселенцев на Урупе предотвратило распространение японского влияния к северу от Итурупа [18].
Необходимо также отметить, что политика японских властей, нацеленная на выдворение русских с Урупа, привела не только к разрыву отношений между русскими и айнами южных Курил, но и к кардинальным переменам в истории айнского народа в целом. Запретив айнам южных Курильских островов плавать на Уруп для сезонного промысла морских животных во избежание контактов с русскими, японское правительство сделало невозможными их встречи и торговые отношения с айнами средних и северных Курильских островов и тем самым прервало вековые контакты двух субэтнических групп. Так была открыта дорога к окончательному приграничному размежеванию России и Японии, которое состоялось уже во второй половине XIX в., в эпоху, когда решения о принадлежности «территорий» принимались за тысячи километров от них — в Симоде, Санкт-Петербурге и Портсмуте, без всякого учёта интересов местного населения.
Айны в российско-японских переговорах второй половины XIX в.
История приграничного размежевания России и Японии во второй половине XIX – начале XX в. хорошо изучена, как и вопрос влияния этого процесса на судьбу сахалинских и курильских айнов. Новизной нашего проекта стало изучение вопроса о подданстве айнов и связи их с местами проживания в ходе российско-японских переговоров, прежде всего в 1853–1875 гг. Нам удалось установить, что в ходе переговоров о заключении Симодского трактата 1855 г. японская сторона пыталась обосновать свои территориальные претензии на Сахалине и Курильских островах, ссылаясь на факт подданства айнов японскому правительству, однако российская сторона смогла разделить вопросы территорий и населения, благодаря чему решение вопроса о принадлежности Сахалина и границы было отложено. Далее японцы продолжали использовать «подданство» айнов как аргумент в пользу принадлежности южного Сахалина в ходе переговоров 1862 г. в Петербурге, однако указание российского министра Игнатьева на характер отношений японцев и айнов на Сахалине смогло снова снять этот аргумент с повестки. В ходе следующих переговоров в 1867 г. российской стороне удалось также добиться включения пункта о личной свободе и имущественных правах местного населения Сахалина в текст очередного соглашения [25].
Однако наибольшее влияние на положение айнов Сахалина и Курильских островов оказал заключённый в 1875 г. Санкт-Петербургский договор, по которому Япония отказывалась от своих притязаний на южный Сахалин в обмен на все Курильские острова. Договор привёл к тому, что значительная часть айнов южного Сахалина под влиянием уговоров японцев приняла решение переселиться на Хоккайдо (ил. 6), айны же северных Курильских островов, не переехавшие на Камчатку как российские подданные, были насильно переселены новыми японскими властями на южный остров Шикотан, где впоследствии многие из них погибли, не приспособившись к новому климату и условиям жизни [10]. В начале XX в., когда Россия потерпела поражение в русско-японской войне и по Портсмутскому мирному договору уступила Японии южную половину Сахалина, исторические земли айнов практически полностью оказались под властью Японской империи. Незадолго до этого в 1899 г. в Японии был принят дискриминационный «Закон о защите бывшего коренного населения Хоккайдо», нацеленный на превращение айнов в японских простолюдинов при сохранении социальной сегрегации. Запрет многих культурных практик и образования на родном языке привёл к почти полному исчезновению языка и культуры айнов к середине XX в.
Ил. 6. Сахалинские айны, вынужденные переехать на Хоккайдо после Петербургского договора 1875 г. Фото 1879–1880 гг. Источник: Научный архив РГО (коллекция А.В. Григорьева)
Однако по иронии истории именно в это время Японская империя потерпела поражение во Второй мировой войне, что привело к её оккупации войсками союзников и проведению обширных демократических реформ. Преобразования в политической и общественной жизни Японии середины XX в. позволили зародиться движению по борьбе против дискриминации айнов и за их права как коренного народа Японского архипелага. Изучение этого вопроса не входило в задачи нашего проекта, в том числе потому, что в России появляются новые молодые специалисты по этому периоду истории айнов [26, 27, 28]. Тем не менее, на наш взгляд, новые законы о защите традиционной культуры айнов и признание их коренным народом, осуществлённые правительством Японии в последние десятилетия, делают объективное исследование истории этого народа с опорой не только на японские, но и на российские источники, а также на сравнительное их изучение как никогда актуальным.
About the authors
Vasilii V. Shchepkin
Institute of Oriental Manuscripts RAS
Author for correspondence.
Email: vshepkin@gmail.com
Candidate of Science (History), senior researcher at the Department of the Far East
Russian FederationReferences
- Polonskii A.S. Kurily // Zapiski Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva po otdeleniyu etnografii. T. 4. SPb., 1871. S. 367–576 (in Russian).
- Pozdneev D.M. Materialy po istorii Severnoi Yaponii i eyo otnoshenii k materiku Azii i Rossii. T. 1: Dannye geograficheskie i etnograficheskie. Iokokhama: Tipografiya Zy. Glyuk, 1909 (in Russian).
- Godefroy, Noemi. Autour de la question de l’île d’Ezo: évolutions des rapports de domination septentrionale et des relations avec l’étranger au Japon, des origines au 19ème siècle. Диссертация на соискание ученой степени PhD, 2013 (in French).
- Mark K. Watson. Japan’s Ainu Minority in Tokyo: Diasporic Indigeneity and Urban Politics. Routledge, 2014.
- Ann-Elise Lewallen. The Fabric of Indigeneity: Ainu Identity, Gender, and Settler Colonialism in Japan. Albuquerque, 2016.
- Brett L. Walker. The Conquest of Ainu lands: Ecology and Culture in Japanese Expansion 1590– 1800. University of California Press, 2006.
- Kawakami Jun. KInsei koki no okuezochishi to nichiro kankei. Sapporo: Hokkaido shuppan kikaku senta, 2011 (in Japanese).
- Akizuki Toshiyuki. Chishima retto wo meguru Nihon to Roshia. Sapporo: Hokkaido daigaku shuppansha, 2015 (in Japanese).
- Kora Susanne. An’ei nenkan no ezochi ni okeru nichiro kosho to Chishima Ainu // Hokudai Shigaku, № 42, 2002. Pp. 56–79 (in Japanese).
- Lim S.Ch. Istoriya sakhalinskikh ainov v svete russko-yaponskogo sopernichestva na Dal'nem Vostoke (XVIII v. – sentyabr' 1875 g.) // Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoi Sibiri i na Dal'nem Vostoke, № 3, 2017. S. 21–32. doi: 10.24866/1997-2857/2017-3/21-32 (in Russian).
- Gritskevich R.A. Poseleniya sakhalinskikh ainov v usloviyakh transformatsii serediny – kontsa XIX v. // Trudy Instituta istorii, arkheologii i etnografii DVO RAN. 2020. № 28. S. 17–28. doi: 10.24411/2658-5960-2020-10032 (in Russian).
- Turaev V.A. Etnicheskaya istoriya ainov Sakhalina i Kuril'skikh ostrovov v kontekste rossiisko-yaponskikh territorial'nykh razmezhevanii // Rossiya i ATR. 2018. № 2. S. 213–230. doi: 10.24411/1026-8804-2018-00028 (in Russian).
- Gvozdev R.V., Gritskevich R.A. Mezhetnicheskie kontakty ainov perioda XVII–XIX vv. // Trudy Instituta istorii, arkheologii i etnografii DVO RAN. 2019. № 23. S. 46–54. doi: 10.24411/2658-5960-2019-10014 (in Russian).
- Shkunov V.N. Rol' korennykh narodov Dal'nego Vostoka v stanovlenii i razvitii rossiisko-yaponskoi torgovli v XVIII–XIX vv. // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk. 2016. T. 18. № 6. S. 11–17 (in Russian).
- Shchepkin V.V. Ainy yuzhnykh Kuril'skikh ostrovov i stanovlenie rossiisko-yaponskikh otnoshenii vo 2-i polovine XVIII v. // Ainy v istorii rossiisko-yaponskikh otnoshenii XVIIIXIX vv.: Kollektivnaya monografiya / Pod red. V.V. Shchepkina. SPb.: LEMA, 2020. S. 127–182 (in Russian).
- Klimov A.V. Gl. 6: Pervaya zimovka yapontsev na ostrove Iturup v 1803–1804 gg. (po materialam «Rasskazov o severnykh varvarakh») // Chetyre veka ekspeditsii v zemli ainov: Kollektivnaya monografiya / Pod red. V.V. Shchepkina. SPb.: Art-Ekspress, 2022. S. 151–169 (in Russian).
- Shchepkin V. On Japanese recording of some Ainu toponyms in the late 18th century // Cultural Anthropology and Ethnosemiotics. Vol. 8. № 4 (December 2022). Pp. 30–34.
- Shchepkin V.V. Rossiiskaya koloniya na Urupe (1795–1805) i eyo vliyanie na politiku Yaponii v otnoshenii ainov yuzhnykh Kuril // Yaponskie issledovaniya. 2022. № 4. S. 38–55. doi: 10.55105/2500-2872-2022-4-38-55 (in Russian).
- Klimova O.V. Rossiiskie ekspeditsii v zemli ainov v nachale XIX v. // Chetyre veka ekspeditsii v zemli ainov: Kollektivnaya monografiya / Pod red. V.V. Shchepkina. SPb.: Art-Ekspress, 2022. S. 170–202 (in Russian).
- Klimova O.V. Slovari ainskogo yazyka N.P. Rezanova, N.A. Khvostova i G.I. Davydova // Novye istochniki po istorii i kul'ture ainov: Kollektivnaya monografiya / Pod red. V.V. Shchepkina. SPb.: LEMA, 2021. S. 66–98 (in Russian).
- Klimova O.V. Yaponskie perevodchiki ainskogo yazyka v XVII–XVIII vv. – po yaponskim istochnikam // XXXI Mezhdunarodnyi kongress po istochnikovedeniyu i istoriografii stran Azii i Afriki: Rossiya i Vostok. K 100-letiyu politicheskikh i kul'turnykh svyazei Noveishego vremeni. 23–25 iyunya 2021 g.: Materialy kongressa. SPb.: Izd-vo Studiya «NP-Print», 2021. T. 1. S. 346–348 (in Russian).
- Russkie ekspeditsii po izucheniyu severnoi chasti Tikhogo okeana v pervoi polovine XVIII v.: Sbornik dokumentov. M.: Nauka, 1984. S. 33–35 (in Russian).
- Zhurnal posol'stva A. Laksmana v Yaponiyu // Preobrazhenskii A.A. Pervoe russkoe posol'stvo v Yaponiyu // Istoricheskii arkhiv. № 4. 1961. S. 113–148 (in Russian).
- Mogami Tokunai. Ezo soshi kohen. Vol. 3. Tokyo: Kokusho kankokai, 1972. Pp. 453–454 (in Japanese).
- Klimov A.V. Sakhalin v rossiisko-yaponskikh otnosheniyakh s 1862 po 1867 g. // Istoriya i kul'tura Yaponii. Vyp. 13. M.: Izdatel'skii dom NIU VSHE, 2021. S. 370–383 (in Russian).
- Chekunkova E. S. Osnovnye etapy stanovleniya dvizheniya ainov na ostrove Khokkaido v XX v. // Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2018. № 6–2. S. 87–90 (in Russian).
- Chekunkova E. S. Sovremennoe polozhenie ainov v ramkakh novogo etapa etnicheskoi politiki Yaponii // Trudy instituta istorii, arkheologii i etnografii DVO RAN. 2019. T. 23. S. 55–66 (in Russian).
- Chekunkova E.S. Bor'ba ainov za svoi prava cherez sudebnuyu sistemu Yaponii // Trudy instituta istorii, arkheologii i etnografii DVO RAN. 2021. T. 32. S. 66–81 (in Russian).
Supplementary files