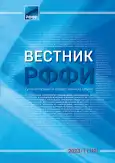Demand for Change in Modern Russia: Media Meme, Scientific Category, and Social Reality
- Authors: Petukhov R.V.1, Latov Y.V.1, Latova N.V.1
-
Affiliations:
- Federal Center of Theoretical and Applied Sociology RAS
- Issue: No 1 (2023)
- Pages: 83-95
- Section: WHAT THE WINNERS OF RFBR COMPETITIONS ARE WORKING ON: PHILOSOPHY. SOCIOLOGY. POLITICAL SCIENCE. JURISPRUDENCE
- URL: https://journal-vniispk.ru/2587-6090/article/view/278757
- DOI: https://doi.org/10.22204/2587-8956-2023-112-01-83-95
- ID: 278757
Cite item
Full Text
Abstract
Authors of the research project developed an original interpretation of the term ‘demand for change’, used as a popular media meme since the early 2010s. It is proposed to define the term as a category in the theory of social change — an outward message from society as a whole or its significant part (documented, at least, by public opinion polls), addressed to the current government, informing it about the need to change the priorities of the country from ensuring stability to intensifying economic, social and political transformations.
The prerequisite to actualize the demand for change in the 2010–2020s was a growing number of ‘self-sufficient’ Russians, confident in their ability to ‘move forward’ independently, and the fact that many of them realize that they cannot isolate their private lives from the political decisions of the current government, which they do not support.
The monitoring surveys of the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences allowed to analyse the long-term dynamics of changes among the Russians who express support for change (actors of the demand for change) and their structure. Over the past five years, the ratio of those who desire change to those who favour stability has stabilized at about 50:50. In the early 2020s, the demand for change remains ideologically amorphous and focused mainly on the social & economic agenda.
Full Text
«Запрос на перемены»: от медиа-мема к научной категории
Рождение популярного в наши дни термина, который часто используют при обсуждении изменений в российском обществе, относится к концу 1990-х гг. Именно тогда в анкетах Института социологии РАН начали использовать вопрос, считает ли респондент, что «Жить в непрерывно меняющемся обществе трудно, но всё-таки интересно», или «Все перемены к худщему, поэтому я хотел бы, чтобы мир вокруг остался таким, каким я привык его видеть». В российских СМИ новое выражение впервые прозвучало в апреле 1998 г., когда в «Общей газете» появилось мнение В.В. Петухова и Л.Г. Бызова о социальном запросе среднего класса и молодёжи: «И самое, пожалуй, главное в их запросе — требование перемен. […] Запрос на перемены, инициируемый самой дееспособной частью общества, [однако] ещё далёк до окончательного политического оформления».
В начале 2010-х термин «запрос на перемены» как популярный медийный мем получил распространение в связи с обсуждением очередного подъёма политической протестной активности. Строгая терминологизация этого выражения тогда так и не произошла, чему во многом способствовало снижение актуальности темы протестов после затухания «болотной революции» 2011–2012 гг. (о динамике «запроса на перемены» как медиа-мема см. [1]). Однако после пятилетнего доминирования стремления россиян к стабильности во второй половине 2010-х гг. ситуация стала радикально изменяться, что нашло отражение и во взлёте частоты публикаций в СМИ о «запросе на перемены» (рис. 1).
Рис. 1. Динамика количества публикаций российских СМИ из Топ-297, использующих термин «запрос на перемены», 1991–2020 гг. Составлено по данным Медиалогии (https://www.mlg.ru)
В 2012–2016 г. во время проводимых Институтом социологии РАН общероссийских опросов по репрезентативной выборке желание перемен выражали не больше трети респондентов, но в 2017–2018 гг. их доля стала быстро расти, достигнув на пике почти 60% опрошенных (рис. 2). Затем рост прекратился; на протяжении последних пяти лет «партия перемен» обычно (за исключением 2021 г.) хотя и была чуть больше «партии стабильности», но в целом пропорция оставалась близка к 50 : 50. Даже весной 2022 г. это соотношение не изменилось.
Рис. 2. Динамика отношения россиян к стабильности и переменам, 1997–2022 гг., % респондентов. Составлено по данным общероссийских репрезентативных социологических опросов Института социологии ФНИСЦ РАН
Для осмысления этих сдвигов в общественном мнении (как роста запроса на перемены, так и его стабилизации) инициатор и первый руководитель реализованного в 2019–2021 гг. исследовательского проекта РФФИ «Социальная трансформация российского общества: акторы запроса на перемены» (19-011-00277) В.В. Петухов предложил рассматривать «запрос на перемены» как полноценный научный термин, развивающий концепт «общественного запроса» и описывающий недовольство значительной части населения существующими «правилами игры» [3].
В.В. Петухов разработал собственное оригинальное определение понятия «общественный запрос», под которым он предложил понимать исходящий от общества в целом или его части сигнал (сообщение), адресатом которого является действующая власть или другая часть общества [4]. Это, в свою очередь, позволило определить «общественный запрос на перемены» как внешне выраженный (как минимум, фиксируемый опросами общественного мнения) посыл определённой части общества (акторов этого запроса) о необходимости смены приоритетов развития страны. В конкретных условиях современной России речь идёт о смене приоритетов с обеспечения социально-экономической и политической стабильности, сформировавшейся в 2000-е гг., на активизацию экономических, социальных и политических преобразований [5, с. 121]. «Перемены» при этом понимаются как социальные изменения, объектами которых являются институты («правила игры»), регулирующие взаимоотношения различных социальных групп.
В современных общественных науках имеется целый ряд хорошо проработанных концептов, характеризующих особенности социальной динамики: «прогресс», «модернизация», «трансформация», «эволюция», «революция» и др. По сравнению с ними термин «перемены» является содержательно более широким и формально менее определённым. Он предполагает изменения в социальной динамике, но не фиксирует их направленность, скорость и характер. Однако в условиях «текучей современности» (З. Бауман), когда люди утратили способность переводить свои потребности в изменении социального положения в действенные планы общественного переустройства [6, с. 13], такая расфокусированность термина «перемены» позволяет выявлять те сдвиги в общественном сознании, которые ещё только формируются и не поддаются определению в более чётких терминах. Исследование общественного запроса на перемены оказывается поэтому пересечением таких значимых направлений современной социальной мысли, как теория социальных изменений, социология революций, теория модернизации и активистско-деятельностный подход.
Проведённый участниками исследования анализ данных опросов общественного мнения, фокус-групп и интервьюирования экспертов позволил прийти к выводу, что динамика общественного запроса на перемены стала реакцией на новые тенденции в жизни российского общества.
Непосредственная причина актуализации запроса на перемены — постепенное разрушение сложившегося ещё в 2000-е гг. «патерналистского» консенсуса, обмена лояльности к действиям властей (включая определенное ограничение гражданских прав и свобод) на выполнение ими базовых социальных обязательств и невмешательство в частную жизнь граждан [3]. Выражением этого консенсуса стал наблюдавшийся в 2000-х гг. восходящий тренд «запроса на стабильность». Даже «болотная революция» начала 2010-х хотя и дала скачок доли желающих перемен, но затем сменилась новым ростом «запроса на стабильность» в 2012–2014 гг. Но экономический и внешнеполитический кризисы 2014–2016 гг. обозначили распад «патерналистского консенсуса». Тревожная неопределённость в оценке собственных возможностей по поддержанию материального благополучия и участившиеся интервенции публичной политики в частную жизнь граждан, показавшие невозможность поддержания их автономности, стали причинами роста общественного запроса на перемены.
Ожидания современных россиян мало отличаются от требований, которые предъявляло власти советское общество ещё на рубеже 1980–1990-х гг., так что содержание «запроса на перемены» осталось по существу стабильным. Как и 35 лет назад, политические требования представляются россиянам менее актуальными, чем социально-экономические.
В современной России запрос на перемены содержит существенную внутреннюю противоречивость. Его адресатом является власть, которую большая часть российского общества одновременно и критикует (опросы последнего десятилетия показывают неизменно высокую актуальность противоречия по линии «люди — власть» и «граждане и бюрократия»), и рассматривает в качестве единственного политического субъекта. Критика существующей власти ведётся в России 2000–2020-х с трёх очень разных идеологических позиций: либеральной, социалистической и националистической. Идею «сильного государства» (как антитезы «слабому государству» 1990-х) сторонники «запроса на перемены» чаще всего принимают, но осуждают многие её конкретные результаты. Политический характер запроса на перемены проявляется не столько в каких-либо конкретных политико-идеологических предпочтениях россиян, сколько в осознании ими невозможности изоляции частной жизни граждан от решений действующей власти, от транслируемой «сверху» идеологии государственно-бюрократического всевластия.
В поисках акторов запроса на перемены
В 2017–2022 гг. доля россиян, декларирующих желание перемен, колебалась на уровне 45–55%. Но кто они, эти акторы запроса на перемены? Распределены ли они относительно равномерно по разным социальным группам или локализованы в основном в каких-то конкретных группах? От «опознания» акторов запроса на перемены существенно зависит его трактовка — генерирует ли этот запрос общество в целом или какая-то его часть, более передовая или, наоборот, более архаичная.
В рамках исследовательского проекта под руководством В. В. Петухова апробированы два подхода к «портретированию» тех, кто демонстрирует при опросах стремление к переменам и потому может расцениваться как потенциальный актор перемен. В соответствии с первым подходом проверялись гипотезы о доминировании сторонников перемен среди социальных групп, выделенных по стандартным критериям — социально-экономическому, идеологическому, возрастному и образовательному. В соответствии же со вторым подходом проверялись гипотезы о связи стремления к переменам с принадлежностью не к какой-либо социальнодемографической группе, а с определёнными личностными характеристиками и установками.
Анализ социально-экономических факторов показал [7], что на склонность россиян к переменам влияет не столько реальный уровень их благосостояния, сколько их субъективная удовлетворённость своим социально-экономическим положением. При этом следует решительно отвергнуть точку зрения, будто главными сторонниками перемен в постсоветской России являются наиболее бедные слои, которые сильнее страдают от разных видов депривации. Как видно по табл. 1, где показаны те аспекты материального положения, по которым расхождения между сторонниками и противниками перемен были самые крупные (свыше 6 п.п.), этих аспектов в 2019 г. было немного, и даже по ним различия чаще всего не превышали 10 п.п. Согласно самооценочным показателям при сравнении пяти опросов за 1997–2019 гг., желающие перемен чаще имели лучшие самооценки своего социально-экономического положения, чем сторонники стабильности. Похожий результат получен и по абсолютным показателям дохода: в частности, в 2019 г. желающие перемен оказались в среднем на 9% состоятельнее сторонников стабильности. Можно резюмировать, что сторонники перемен — зачастую вовсе не бедные, а люди со средними доходами (скорее всего, нижняя часть среднего класса).
Таблица 1
Оценки россиянами различных аспектов своей жизни, 2019 г., % социальных групп
Аспекты материального положения | Сторонники перемен | Приверженцы стабильности | ||||
Хорошо |
Плохо | Разница оценок «хорошо» и «плохо» |
Хорошо |
Плохо | Разница оценок «хорошо» и «плохо» | |
Материально обеспечены | 12,6 | 34,5 | -21,9 | 15,8 | 29,6 | -13,8 |
Состояние здоровья | 31,6 | 16,3 | 15,3 | 24,3 | 20,9 | 3,4 |
Жилищные условия | 40,4 | 10,1 | 30,3 | 36,6 | 13,0 | 23,6 |
Отношения в семье | 59,8 | 3,9 | 55,9 | 54,5 | 5,3 | 49,2 |
Возможность выражать свои политические взгляды |
19,6 |
25,2 |
-5,6 |
25,8 |
14,9 |
10,9 |
Возможность получать качественную медицинскую помощь |
11,3 |
43,4 |
-32,1 |
14,3 |
39,8 |
-25,5 |
На протестные настроения в современных условиях, в отличие от периода правления Б.Н. Ельцина, влияют скорее социальнополитические факторы, что парадоксально противоречит желанию перемен в первую очередь в социально-экономической сфере. Действительно, в конце 1990-х желающие перемен в целом положительно оценивали возможности для политического волеизъявления, но отрицательно — все аспекты своего материального положения. А в конце 2010-х гг. ситуация выглядела почти зеркально: желающие перемен бо́льшую часть аспектов своего материального положения оценивали положительно, в то время как оценка возможности выражать свои политические взгляды ушла в минус. Таким образом, желающие перемен острее сторонников стабильности переживают проблемы материального положения и заботы о своём здоровье, но ещё острее — снижение возможностей в политической сфере жизни общества.
Выявление идеологем, среди носителей которых чаще всего встречаются желающие перемен в современной России [8], позволило иерархизировать эти идеологемы (табл. 2) от либеральных (среди их последователей доля сторонников перемен доходит до 2/3) до консервативных (среди приверженцев которых желают перемен только примерно 2/5). Надо, однако, учитывать, что в современной России граждане очень часто сочетают приверженность отдельным идеологемам из разных идеологических систем. Поэтому для определения идеологических ориентаций наиболее решительных сторонников перемен необходимо перейти от анализа сопряженности желания перемен с отдельными идеологемами-лозунгами к пониманию его сопряжённости с отдельными наборами идеологем-лозунгов. Такой подход позволил выделить протестное ядро — 18% населения, среди которых желание перемен распространено более чем в полтора раза чаще, чем у других россиян. Представители этих групп в основном (более чем на 80%) являются приверженцами либеральных идеологем или (чаще) их сочетания с социалистической и/или державнической идеологемами.
Таблица 2
Соотношение идеологических ориентаций, выраженных в представлениях о будущем России, и отношения к переменам, осень 2018 г., %
Представления (идеологемы) о желаемом будущем России | Доля желающих перемен среди сторонников данной идеологемы |
Либеральные идеологемы | |
Свободный рынок, частная собственность, минимум вмешательства государства в экономику | 65 |
Сближение с Западом, с современными развитыми странами, вхождение в «общеевропейский дом» | 62 |
Права человека, демократия, свобода самовыражения личности | 56 |
Националистическая идеологема | |
Россия, в первую очередь, для русских | 53 |
Социалистическая идеологема | |
Социальная справедливость | 51 |
Державническая идеологема | |
Россия должна снова стать великой державой | 51 |
Идеологема, общая для всех нелиберальных идеологий | |
Сильная жёсткая власть, способная обеспечить порядок | 50 |
Консервативная идеологема | |
Возвращение к национальным традициям, моральным и религиозным ценностям, проверенным временем |
41 |
Проверка того, насколько часто россияне не только заявляют о своём стремлении к переменам, но и подкрепляют это реальным участием в массовых выступлениях (или хотя бы готовностью принять в них участие), привела к выделению ещё более узкого ядра акторов стремления к переменам. Это – 6% населения, которые демонстрируют не только повышенное желание перемен, но и более частое (почти в два раза чаще других россиян) участие в массовых акциях. В целом же в стране наблюдается сильный контраст между высоким желанием перемен (у чуть более половины россиян), более низкой готовностью к участию в массовых выступлениях за перемены (32%) и ещё более низким наличием такого опыта (7%).
Изучение проблемы возрастных детерминант запроса на перемены по данным социологических опросов 2016–2019 гг. показало [9], что в молодёжной среде (преимущественно среди 18–24-летних) нацеленность на перемены всегда была заметно выше (в среднем на 10–15 п.п.), чем среди населения России в целом, достигнув в 2019 г. 75% (рис. 3). Это во многом связано со сменой поколения миллениалов поколением центиниалов, которые не переживали тяжёлый опыт 1990-х, а потому не видят особых заслуг существующего политического режима. Консервативный поворот 2013–2014 гг., связанный с реанимацией многих советских архетипов, эта пост-постсоветская молодёжь восприняла критически, потому что она свободна от них. В отличие от поколения родителей, у центиниалов нет и разочарования по поводу неудачных попыток демократизации страны в 1990-е, поэтому в их целеполагании высока актуализация демократического дискурса.
Рис. 3. Динамика ориентаций россиян на перемены, новые экономические и политические реформы в стране среди всего населения и в группе молодёжи от 18 до 24 лет, 2013–2019 гг., %
Проведённый на материалах мониторинговых опросов анализ связи между запросом на перемены и образованием показал [10], что в современной России образование прямо влияет главным образом на подготовленность индивида к политическим действиям. Более образованные больше интересуются политической жизнью страны и лучше осознают свои возможности влиять на «правила игры». В то же время образование индивида парадоксально не имеет заметной корреляции с наличием/отсутствием у него либерального запроса на перемены (повышение демократии, усиление рыночных начал, сокращение конфронтации с Западом). Даже само желание перемен (не обязательно либеральных) среди высокообразованных россиян встречается в целом не чаще, чем в других образовательных группах. Таким образом, если социально-экономические, идеологические и возрастные характеристики россиян значимо коррелируют с запросом на перемены, то в отношении образовательных характеристик такая взаимосвязь не обнаружена.
«Портретирование» акторов запроса на перемены на основе учёта их личностных социально-психологических особенностей проводилось в двух направлениях: на основе теории социальной депривации и на основе концепта «самодостаточности».
Когда с опорой на теорию социальной депривации (по Т. Гарру) составлялся психологический «портрет» сторонников перемен [11], то было отмечено, что они существенно чаще негативно воспринимают окружающую их действительность. Однако межличностные отношения и собственное социально-психологическое состояние не играют существенной роли в формировании негативного мироощущения. Глубина фрустрации значимо больше у сторонников перемен, чем у приверженцев стабильности, поскольку их стремления более амбициозны и разнообразны, чем у приверженцев стабильности.
Наиболее оригинально выглядит идея, что социальным субстратом актуализировавшегося общественного запроса на перемены стал численный рост той части российского общества, которую М.К. Горшков и Н.Н. Седова удачно предложили называть «самодостаточными россиянами» [12]. Этот концепт характеризует постепенную эмансипацию россиян от государства как важный аспект модернизации. «Самодостаточные» отличаются высоким уровнем жизненных притязаний, ориентацией на собственные силы в решении жизненных проблем и перспективностью мышления, воспринимая будущее как возможность, нежели как источник угроз. Противостоящая же им «патерналистская» часть общества чаще живёт лишь сегодняшним днём (а нередко и вчерашним), реализует адаптивную стратегию выживания и сильно зависима от государственной поддержки.
В рамках исследовательского проекта под руководством В.В. Петухова на основе данных проведённого в октябре 2018 г. общероссийского опроса были выделены группы респондентов с самодостаточными (49%) и патерналистскими (24%) установками, а также «промежуточная» группа (27%) [13]. «Самодостаточность» оказалась характерна для молодых, хорошо обеспеченных и образованных людей, среди которых чаще, чем в двух других группах, распространены уверенность в позитивных сценариях будущего, а также установки на модернизационный путь развития страны. Сравнение представителей «самодостаточной» и «патерналистской» групп в контексте их принадлежности к сторонникам перемен или приверженцам стабильности показало (рис. 4), что к изменениям чаще склонны респонденты с «самодостаточным» мировоззрением (60%) и, напротив, заметно реже «патерналисты» (35%). При таком фокусе актуализация запроса на перемены может быть рассмотрена как следствие недоучтённости интересов растущей «самодостаточной» части общества при принятии государственных решений и осознании носителями соответствующего мировоззрения невозможности легального их отстаивания.
Рис. 4. Распределение сторонников перемен и приверженцев стабильности среди представителей «самодостаточной», «патерналистской» и «промежуточной» групп, по данным Института социологии ФНИСЦ РАН, 2018 г., %
Использование концепта «самодостаточные россияне» позволяет в значительной степени свести воедино разные характеристики желающих перемен. Действительно, анализ опросов общественного мнения показал, что в современной России «самодостаточное» мировосприятие характерно, прежде всего, для молодых и хорошо обеспеченных россиян — именно для тех социально-демографических групп, среди которых чаще встречаются акторы запроса на перемены.
Может ли «запрос на перемены» превратиться в «революционную ситуацию»?
В заключение рассмотрим вопрос о степени радикализма запроса на перемены: идёт ли речь о стремлении россиян к эволюционным изменениям в рамках существующей институциональной системы (включая политический режим) или к революционным изменениям за рамками этой системы (т.е. предполагающих если не смену режима, то его радикальное реформирование)? Для выявления потенциальной возможности качественной трансформации запроса на перемены надо рассмотреть два аспекта — цели акторов запроса на перемены и их готовность к конкретным действиям по реализации своего запроса.
Согласно предложенной П. Штомпкой типологии, существенные (отличающиеся от повседневных) изменения могут носить либо морфогенетический (в рамках бифуркации того или иного уровня), либо трансмутационный (в рамках движения общества по прежнему аттрактору) характер [14, с. 37–40]. Первые нацелены на образование в общественной жизни чего-то принципиально нового, а вторые — на сохранение/воспроизводство существующего положения за счёт изменения некоторых её аспектов. Результаты нашего исследования, проводившегося в 2019–2021 гг., позволяют оценивать характер современного общественного запроса на перемены как скорее трансмутационный/реформистский, а не морфогенетический/революционный. Об этом, в частности, свидетельствует то, что среди сторонников перемен лишь около 1/3 соглашались с тем, что «нынешняя власть должна быть заменена во что бы то ни стало», в то время как 2/3 полагали, что «нынешняя власть в России заслуживает поддержки». Другими словами, на момент завершения проекта в стране явно не было ситуации, когда «низы не хотят жить по-старому».
Принципиально важен и ответ на вопрос о наличии у современных россиян «способности на революционные массовые действия» — их готовности предпринимать коллективные действия по трансформации запроса на перемены в конкретные социальные, экономические и политические изменения. Имеющиеся данные не позволяют говорить о готовности ключевых акторов запроса на перемены стать субъектами коллективного действия, направленного на реализацию социальнополитических изменений. Чтобы общественный запрос мог стать мобилизующим фактором социального действия, необходима опирающаяся на поддержку граждан широкая коалиция общественных сил, обладающая определённой институционализированностью и собственным ви́дением альтернативы сложившемуся в России порядку. Такой коалиции нет, высокий запрос на перемены в последние годы сочетается с низкой популярностью оппозиционных движений.
Выводы об акторности запроса на перемены подкрепляют уверенность в низкой радикальности этого запроса. Как указывалось, основой роста запроса на перемены является увеличение числа «самодостаточных» россиян, стремящихся ориентироваться в своей повседневной жизни не на помощь со стороны власти, а на собственные силы. Однако готовность таких «самодостаточных» граждан к коллективным действиям невелика: они позиционируют себя скорее сторонниками перемен, но отнюдь не готовы становиться акторами соответствующих социальнополитических изменений.
Как известно, провоцирование революционной ситуации зачастую связано с экстраординарными шоками (хрестоматийный пример — влияние Первой мировой войны на революции 1917 г.). Но влияние пандемии коронавируса COVID-19 на запрос на перемены оказалось не слишком сильным: власть продемонстрировала умение «держать удар», а также то, что она ещё далека от состояния, когда «верхи не могут управлять по-старому». С одной стороны, на фоне пандемии в 2020–2021 гг. произошло незначительное снижение поддержки в российском обществе этого запроса. С другой стороны, при сохранении фокусировки на социально-экономической «повестке» в нём стало более отчётливо проявляться политическое содержание, поскольку в условиях кризиса экономика сильнее зависит от решений политиков. При этом основным адресатом запроса на перемены по-прежнему остаётся действующая власть, от решений и действий которой будет зависеть дальнейшее развитие страны.
Подводя итоги, можем резюмировать, что в отличие от событий, происходивших в нашей стране на рубеже 1980– 1990-х гг., современный запрос на перемены пока мало политизирован, сильно аморфен и сфокусирован в основном на социально-экономической повестке.
Политический характер запроса проявляется не в политико-идеологических предпочтениях россиян, а в осознании невозможности изоляции частной жизни от политических решений, принимаемых отчуждённой от народа властью. Основными акторами запроса на перемены являются молодые россияне и люди со средним материальным положением, а социальным субстратом — «самодостаточная» часть общества. Указанные группы отличаются не только антипатерналистской ориентацией, но и перспективным ви́ дением своего будущего. Запрос адресован главным образом действующей власти как пожелание, прежде всего, минимизации разнообразных неравенств и повышения эффективности государственного управления. Желаемые изменения носят скорее внутрисистемный характер, т.е. субъективно предполагают сохранение сформировавшейся в начале 2000-х гг. траектории развития и ориентацию на эволюционное изменение общества.
About the authors
Roman V. Petukhov
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology RAS
Author for correspondence.
Email: petukhovrv@yandex.ru
Candidate of Science (Jurisprudence), leading researcher at the Institute of Sociology
Russian FederationYurii V. Latov
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology RAS
Email: latov@mail.ru
Dr. habil. (Sociology), Candidate of Science (Economy), chief researcher at the Institute of Sociology
Russian FederationNatalia V. Latova
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology RAS
Email: myshona@rambler.ru
Candidate of Science (Sociology), leading researcher at the Institute of Sociology
Russian FederationReferences
- Latov Yu.V., Latova N.V. «Zapros na peremeny» v sotsiologii i v SMI (pamyati V.V. Petukhova – «izobretatelya» ponyatiya/mema) // Vestnik Instituta sotsiologii. 2022. Т. 13. № 2S. С. 73–86. doi: 10.19181/vis.2022.13.2S.817 (in Russian).
- Petukhov R.V. Pochemu lyudi khotyat izmenenii? Issledovanie V. Petukhovym prichin aktualizatsii obshchestvennogo zaprosa na peremeny // Vestnik Instituta sotsiologii. 2022. Т. 13. № 2S. С. 60–72. doi: 10.19181/vis.2022.13.2S.816 (in Russian).
- Petukhov V.V. Krizisnaya real'nost' i vozmozhnost' politicheskoi transformatsii rossiiskogo obshchestva // Polis. Politicheskie issledovaniya. 2016. № 5. S. 8–24. https://doi. org/10.17976/ jpps/2016.05.02. (in Russian).
- Petukhov V.V. Dinamika sotsial'nykh nastroenii rossiyan i formirovanie zaprosa na peremeny // Sotsiologicheskie issledovaniya. № 11. 2018. S. 40–53. doi: 10.31857/S013216250002784-5 (in Russian).
- Petukhov R.V. Zapros na peremeny: politiko-tsennostnoe izmerenie // Polis. Politicheskie issledovaniya. 2020. № 6. S. 103–118. https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.08. (in Russian).
- Bauman Z. Tekuchaya sovremennost'. SPb.: Piter, 2008 (in Russian).
- Latova N.V. Sotsial'no-ekonomicheskoe polozhenie aktorov zaprosa na peremeny // Sotsiologicheskaya nauka i sotsial'naya praktika. 2021. № 2. S. 7–26. doi: 10.19181/snsp.2021.9.2.8098 (in Russian).
- Latov Yu.V. Ideologicheskie vektory i skalyary deistvii storonnikov peremen // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2019. № 12. S. 15–28. doi: 10.31857/S013216250007738-4 (in Russian).
- Petukhov V.V. Rossiiskaya molodyozh' i eyo rol' v transformatsii obshchestva // Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny. 2020. № 3. S. 119–138. https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1621. (in Russian).
- Latova N.V. Vliyanie obrazovaniya na politicheskoe uchastie i zapros na peremeny v sovremennoi Rossii // Journal of Institutional Studies. 2021. № 4. S. 112–125. doi: 10.17835/20766297.2021.13.4.112-125 (in Russian).
- Latova N.V. Aktory zaprosa na institutsional'nye peremeny v sovremennoi Rossii (sotsial'no-psikhologicheskii kontekst) // Journal of Institutional Studies. 2019. № 3. S. 119–134. doi: 10.17835/2076-6297.2019.11.3.119-134 (in Russian).
- Gorshkov M.K., Sedova N.N. «Samodostatochnye» rossiyane i ikh zhiznennye prioritety // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2015. № 12. S. 4–16 (in Russian).
- Petukhov V.V., Petukhov R.V. Zapros na peremeny: prichiny aktualizatsii, klyuchevye slagaemye i potentsial'nye nositeli // Polis. Politicheskie issledovaniya. 2019. № 5. S. 119–133. https://doi. org/10.17976/jpps/2019.05.09. (in Russian).
- Shtompka P. Sotsiologiya sotsial'nykh izmenenii. M.: Aspekt Press, 1996 (in Russian).
Supplementary files