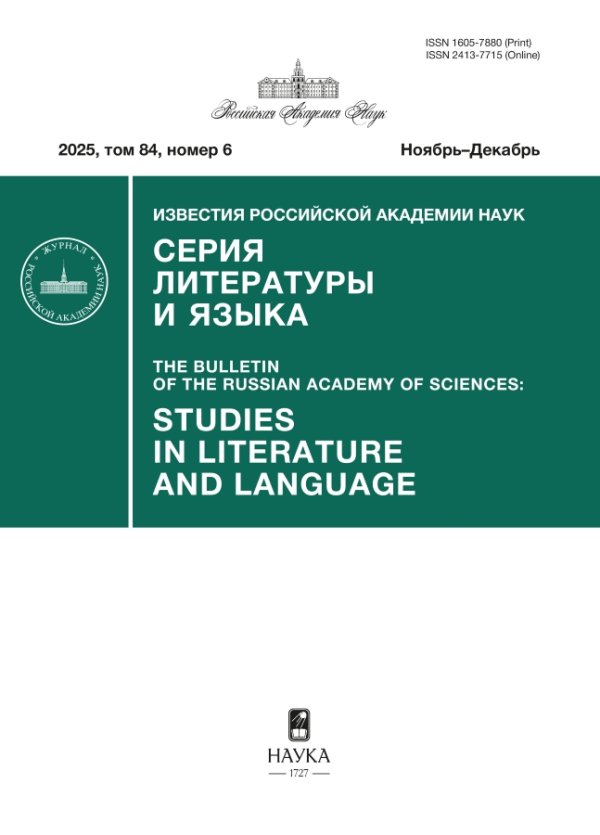Федунина О. В. Криминальный бестиарий: зверь – текст – жанр. Тула: Аквариус, 2023. 148 с.
- Авторы: Зусева-Озкан В.Б.1
-
Учреждения:
- Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
- Выпуск: Том 83, № 2 (2024)
- Страницы: 117-119
- Раздел: Рецензии
- URL: https://journal-vniispk.ru/1605-7880/article/view/261155
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024020109
- ID: 261155
Полный текст
Полный текст
Компактная, но очень содержательная книжка исследовательницы криминальной литературы О.В. Федуниной посвящена вопросам, которые не так уж часто в последнее время становятся предметом рассмотрения – как в силу своей сложности, так и в силу ползучего наступления т.н. читательской жанровой теории, распространившейся в отечественном литературоведении в большой степени посредством книги Ж.-М. Шеффера «Что такое литературный жанр?» [1]. Напомним, что жанр понимается им как семиотический знак, в котором «означающее» – это «жанровое имя», т.е. термин, функционирующий в истории литературы, а «означаемое» – «жанровое понятие», т.е. текстуальные признаки, которые с этим именем ассоциируются, причем, как и в случае знака, связь между жанровым именем и понятием случайна, один и тот же текст может быть назван сразу несколькими жанровыми именами (каждое из них характеризует текст в разных аспектах). В конечном счете, согласно этой концепции, жанровые номинации зависят от субъекта рецепции: именно читатель соотносит различные аспекты текста с жанровыми именами на основании своего культурного опыта.
В области популярной литературы, в том числе литературы криминальной, градус этого жанрового «волюнтаризма» особенно высок. Тем более героической выглядит попытка О.В. Федуниной «навести порядок» в исследуемой области – причем это отнюдь не «покушение с негодными средствами»: автор рецензируемой книги, по всей видимости, прекрасно осознает сложности «инвариантного» подхода, восходящего к жанровой теории М.М. Бахтина и «предполагающего обнаружение минимального количества неэлиминируемых сущностных свойств во всех произведениях определенного жанрового типа» [2, с. 22] и создание «теоретического конструкта» того или иного жанра. Рецензируемая книга почти не останавливается на рефлексии собственного метода, ограничиваясь отдельными методологическими замечаниями по конкретным поводам (например, о «путанице» или «смешении» в жанровом обозначении того или иного произведения), но метод этот вполне ясен – как благодаря цитатам из трудов, на которых О.В. Федунина базируется, так и благодаря ее предшествующим публикациям о криминальной литературе.
В ряде более ранних публикаций О.В. Федунина и Н.Н. Кириленко выявили четыре основных жанра криминальной литературы расследования: классический детектив (пример – романы А. Кристи об Эркюле Пуаро), «авантюрное расследование» (пример – романы М. Леблана об Арсене Люпене), полицейский роман (пример – романы Ж. Сименона о комиссаре Мегрэ) и «расследование жертвы» (пример – «Лесная смерть» Б. Обер). Каждый из названных типов криминальной литературы характеризуется в трех аспектах (в соответствии с «трехмерной» жанровой моделью Бахтина): с точки зрения речевого целого; действительности героев, включающей в себя хронотоп, сюжетные события, картину мира и пр.; взаимоотношений между миром героев и действительностью автора и читателя (художественного завершения) – все эти аспекты характеризуются разными свойствами в выявленных разновидностях.
В рецензируемой книге автор опирается на заложенный ранее фундамент, в некоторых случаях даже с чересчур большим доверием к читателю – просто отсылая его к той или иной публикации, хотя, возможно, следовало бы повторить некоторые положения. Эта же излишняя, на наш взгляд, лапидарность отмечает и анализ текста в этой книге, который мог бы быть гораздо более подробным, – например, когда автор сокращает число примеров (а ведь их обилие является одним из доказательств правильности гипотезы): «Вынужденно пропуская подобные примеры, которые имеются практически во всех упомянутых мною текстах, приведем цитату…» (с. 67) – но в чем же «вынужденность» сокращений? Речь ведь идет о монографии, а не о журнальной статье с фиксированным объемом. Возможно, это рудимент эволюции книги из ряда статей. Думается, стоило бы несколько расширить и сам состав анализируемых текстов: хотя подбор их представляется методологически безупречным, они часто повторяются.
Основными прорывами в «Криминальном бестиарии…» являются, с нашей точки зрения, разделы, исследующие четвертый из ранее выявленных жанров криминальной литературы, а именно «расследование жертвы» (где сыщиком является сам объект преступной деятельности, оказывающийся перед необходимостью разрешить загадку для спасения собственной жизни), а также близкие ему жанры – «роман семейной тайны» и готический роман. Этой теме посвящены главы «Классический детектив и “расследование жертвы”» (в разделе «Кругозор героя в криминальном нарративе: жанровый аспект»), «Роман семейной тайны как жанр: инвариант и типология» (блестяще написанный фрагмент!), глава «“Расследование жертвы” в романе А. Левина “Щепка”» (из раздела «Кошка в криминальном сюжете: функции и жанровые валентности»). О.В. Федунина не только интереснейшим образом анализирует литературные тексты, принадлежащие к этим трем жанрам, но и очень убедительно – и остроумно – демонстрирует как их генетическое и типологическое родство, так и различия между ними. Несомненно, благодаря этой книге обширнейшее поле криминальной литературы приобретет в сознании читателя гораздо более «культивированный», осмысленно «нарезанный» на ряд «наделов» вид, позволяющий не только увидеть ее настоящее, но и проследить важные моменты прошлого, сам путь эволюции жанров криминальной литературы и, на разных этапах, ее пересечений с «большой» литературой.
Не случайно, однако, что, хотя книга называется «Криминальный бестиарий» и в подзаголовке имеется слово «зверь» (причем следы собачьих лап на месте преступления вынесены на обложку), мы до сих пор не сказали об этом ни слова – дело в том, что целый ряд глав, особенно глав сравнительно больших, не содержат «следов зверя». Это касается, например, уже упомянутых глав «Классический детектив и “расследование жертвы”», «Роман семейной тайны как жанр: инвариант и типология», а также «“Свернутый” роман (“Медные буки” А. Конан Дойля и “Неподходящее занятие для женщины” Ф.Д. Джеймс)» и «Криминальное событие в “анти-нарративе” (“Английская мята” М. Дюрас)» (где зверь – жертвенный бычок – упоминается на одной странице), что составляет не менее половины книги. Хотя рецензируемое издание, несомненно, являет единство научных интересов автора и последовательное развитие ряда тем (особенно очевидное при знании других работ О.В. Федуниной), оно все-таки лишено единства композиционного: это бестиарий лишь «наполовину», тогда как проблема жанра здесь гораздо более существенна. Что же касается состава этого бестиария, то основное внимание автора направлено на образы собак и кошек, а другие анималистические персонажи появляются редко и на заднем плане. Тем не менее О.В. Федунина делает ряд не только значимых наблюдений над конкретными текстами и функционированием в них анималистической образности, но и важных обобщений, касающихся «криминальной зоологии», в частности делая вывод о том, что «разные криминальные жанры допускают изображение животных только в определенных сюжетных функциях. Амбивалентная по своей природе собака не может заменить Великого сыщика в классическом детективе (и потому пес Тоби терпит комическую неудачу в “Знаке четырех” Конан Дойля), но вполне может быть орудием преступника, жертвой <…> или свидетелем <…>. Зато в полицейском романе собака-сыщик очень даже возможна <…>. В “расследовании жертвы” животное может выполнять и совмещать функции двойника-заместителя жертвы, ее защитника и свидетеля <…>» (с. 145).
Как главные прорывы книги, так и, с нашей точки зрения, наиболее спорный ее фрагмент относятся, в конечном счете, не к исследованию бестиария, а к жанрологии – речь идет о попытке О.В. Федуниной ввести в научный оборот такое понятие, как «свернутый роман». Исследуя произведение А. Конан Дойля «Медные буки», автор книги утверждает, что конструктивные особенности не позволяют отнести его ни к одному из «традиционных» литературных жанров – ни к новелле, ни к повести, ни к рассказу, ни к роману, и предлагает термин «свернутый роман», который исследовательница определяет как роман «редуцированный», имеющий жанровые признаки романа как такового, но «в редуцированном виде» (с. 38). Введение дополнительного термина не вполне убедительно, поскольку он не “качественный”, а, скорее, “количественный”, причем его границы не могут быть точно определены: как измерить редукцию? Да и в целом, анализ «Медных буков» как романа – пусть «редуцированного» – представляется нам несколько форсированным, и на каждый аргумент находится контраргумент. В частности, когда О.В. Федунина говорит о том, что в «Медных буках» есть «эпилог, что очень свойственно роману как жанру: в самом конце довольно бегло рассказывается о судьбе героев после завершения расследования» (с. 41), возникает мысль о том, что и в рассказах бывают такого рода краткие «эпилоги» – так, нередки они у А.П. Чехова (среди хрестоматийных примеров – «Ионыч», «Дом с мезонином»). Думается, что «Медные буки» вполне вписываются во «внутреннюю меру» (термин Н.Д. Тамарченко) жанра рассказа, что особенно очевидно, если рассматривать его, в духе В.И. Тюпы, как «построманный нарратив», «возникший в результате осуществленной романом радикальной перестройки всей жанровой системы литературы» [2, с. 92] и характеризующийся «взаимодополнительностью диаметрально противоположных интенций жанрового мышления – притчевой и анекдотической» [2, с. 94].
Но это, пожалуй, единственный во всей книге пример аналитической форсированности. В целом, книга отличается взвешенностью суждений, умением автора мыслить сразу в нескольких планах, основательностью при отсутствии длинных теоретических отступлений, наконец – просто увлекательностью, которой, конечно, способствует избранный материал, но не в меньшей степени и прозрачный, ясный, хотя не лишенный юмора и личной интонации стиль (особенно в менее академичной, чем остальные, главе «Следствие ведет Комиссар Рекс»). Ее можно порекомендовать как профессиональным ученым, занимающимся теорией жанра, так и искренним любителям криминальной литературы: благодаря этому чтению в ней откроются совершенно новые смыслы и горизонты.
Об авторах
В. Б. Зусева-Озкан
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: v.zuseva.ozkan@gmail.com
Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25аСписок литературы
- Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? М.: Едиториал УРСС, 2010. 192 с.
- Тюпа В.И. Дискурс / Жанр. М.: Intrada, 2013. 211 с.