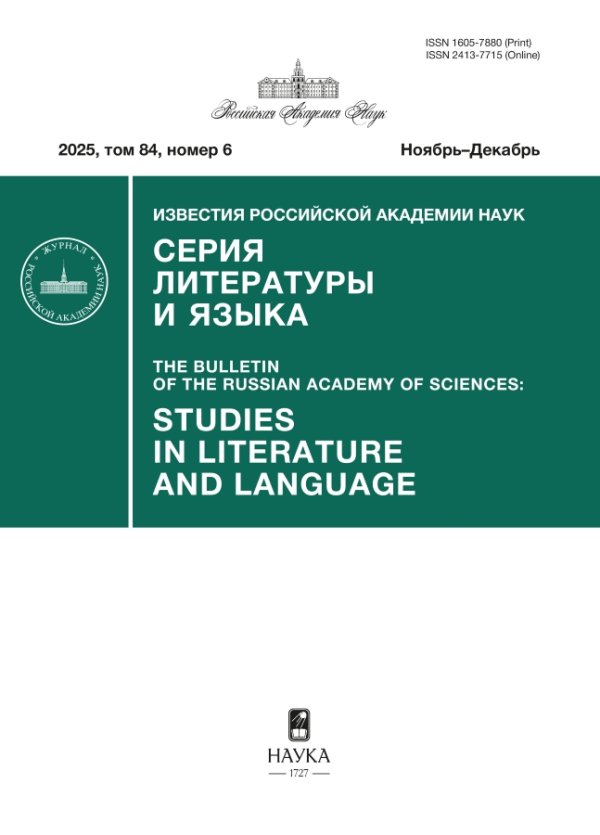Фольклорные и мифологические мотивы и образы в лирике Виктора Рюдберга
- Авторы: Сурков В.В.1
-
Учреждения:
- Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
- Выпуск: Том 83, № 4 (2024)
- Страницы: 113-118
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/1605-7880/article/view/271050
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024040118
- ID: 271050
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена фольклорным и мифологическим мотивам и образам в поэзии шведского автора Виктора Рюдберга (Viktor Rydberg, 1828–1895). В его стиле прослеживается влияние романтической традиции. Для писателей-романтиков начала XIX в. характерно обращение к национальному фольклору и скандинавской мифологии, и Рюдберг наследует им в этом. Однако романтикам свойственна стилизация народного творчества, а фольклорный и мифологический материал для них самоценны, что не присуще постромантической поэзии. Анализ поэтических текстов Рюдберга показывает, что для его стиля характерно использование фольклорных и мифологических мотивов и образов в качестве метафор и аллегорий, в которые автор облекает волнующие его социальные и философские проблемы эпохи.
Ключевые слова
Полный текст
Шведский поэт и писатель второй половины XIX в. Виктор Рюдберг (Viktor Rydberg, 1828–1895)публикует свои стихотворения в двух поэтических сборниках, вышедших в 1882 г. и в 1891 г. под одинаковым заголовком «Стихотворения» (Dikter). Первый сборник выходит в период, когда в шведской литературе доминирует натурализм, а время издания второго совпадает с возникновением неоромантических тенденций. Тем не менее в его лирике прослеживается очевидное влияние романтической традиции.
Мы будем рассматривать романтизм как художественный стиль. Стиль понимается нами в соответствии с традицией научной школы ИМЛИ как эстетическая доминанта, присущая текстам определённого периода или автора. Так преставление о стиле сформулировано Е.В. Халтрин-Халтуриной: «он понимается как подчинённость текста эстетической идее, которая сообщает единство всем компонентам произведения и окрашивает своим присутствием разные пласты художественной формы» [1, с. 13]. В стилевом отношении романтизм обладает определёнными поэтическими средствами, а также проблематикой и свойственной романтической культуре антиномичностью. За ними стоит, с одной стороны, особый тип мировоззрения, формируемый единой философской основой, корни которой лежат в йенском романтизме, но в каждой национальной культуре дополняются свойственными ей идеями, с другой стороны, особый тип сознания, результат работы которого А.Е. Махов называет «духовным бытом романтизма», подразумевая под ним «доступную нам совокупность <…> внутренних поступков, не искавших для себя художественного завершения» [2, с. 9].
Одной из составляющих романтической поэтики является внимание к мифологии и фольклору. Романтики, создавая собственные песни и баллады, стремились следовать стилистике фольклорных произведений. Такими являются, например, стихотворения «Рог Юнгбю» (Ljungbyhorn, 1811) и «Водяной» (Strömkarlen, 1811) Л. Хаммаршёльда, «Водяной» (Näcken, 1823) Э.Ю. Стагнелиуса, «Маленький мальчик» (Den lilla Kolargossen, 1814) Э.Г. Гейера, в которых появляются образы сверхъестественных существ из народных поверий. Образцом произведения шведского романтизма с мифологическим сюжетом является поэма Э. Тегнера «Сага о Фритьофе» (Frithiofssaga, 1825), в основе которой лежит древнеисландская «Сага о Фритьофе Смелом». В конце 1820-х – начале 1830-х годов к мифологии и фольклору обращается финский романтический поэт Й.Л. Рунеберг, писавший на шведском языке. Стилистика народных песен находит отражение в его «Сказаниях Фенрика Столя» (Fänrik Ståhls sägner, 1848), влияние древнескандинавской традиции прослеживается в поэме «Король Фьялар» (Kung Fjalar, 1844).
Как и романтики, Виктор Рюдберг часто обращается к скандинавской мифологии и шведскому фольклору. Но, в отличие от своих предшественников, для которых древнескандинавские тексты и народные произведения являлись самоценными, в лирике Рюдберга образы и мотивы, почерпнутые из мифологии и народной культуры, имеют иные функции, выступая в качестве метафор, в которые автор облекает свои переживания, связанные с социальными и философскими проблемами современной ему эпохи.
Первые стихотворения Рюдберга, в которых возникают фольклорные и мифологические мотивы, появляются в 1870-е годы. Два типологически связанных текста – опубликованные одновременно в 1876 г. баллады: «Лесная дева» (Skogsrået) и «Снёфрид» (Snöfrid). В первой из них центральным персонажем становится юноша по имени Бьёрн, который идёт по лесу и попадает под воздействие чар лесной девы. Лесная дева (по-шведски skogsrå) – нечистая сила в народных верованиях, предстающая в облике привлекательной женщины, которая соблазняет заблудившихся в лесу путников и забирает их души. Также в шведском языке имеются другие обозначения данной сущности: «лесная женщина» (en skogsfru), «хульдра» (en huldra).
Герой баллады после встречи с Лесной девой не может вернуться к прежней жизни. Образ юноши демонстрирует двойственность натуры: с одной стороны, он близок цивилизованному миру, с другой – стремится к природе. Уже в начале стихотворения герой слушает природу «очарованно» (trolskihågen) и вместе с тем «он смотрит на лес, и он неспокоен» (han ser åt skogen och han ej ro).
Услышав, как нечистая сила заманивает его, Бьёрн идёт в глубину леса одновременно «добровольно и вынужденно» (villig och tvungen). Мотив подчинения лесной деве показывает, как герой постепенно всё глубже погружается в природу, отдаляясь от мира людей. Герой перестаёт довольствоваться тихой сельской жизнью:
Голубые глаза в ночном лесу
Заставили его бросить борону и плуг
Он не может больше улыбаться
И радоваться, как раньше.
De ögon så blå i nattlig skog
ha dragit hans håg från harv och plog,
han kan ej le och fröjdas som förr...
Бьёрн стареет «в пустынном жилище» и понимает, что путь к избавлению от одиночества и тоски лишь один:
Он ждёт только смерти и погребальных носилок,
Он слушает, он отчаянно слушает шум сосен.
så väntar han döden och båren,
han lyss med oläkeligt ve till suset i furumo.
Х. Шюк и К. Варбург характеризуют состояние героя как «пассивное подчинение настроению природы, которое чревато для него апатичным безразличием к внешнему миру, к людям и деятельности» [3, s. 68]. Автор действительно оценивает героя и его состояние отрицательно. Известно, что в одном из черновиков последняя строфа содержала следующий стих: «и он надеется на что-то, безумец» (och hoppas han något, den dåren), причём слово “dåren” имеет коннотацию уничижения и может переводиться и как «дурак». Однако смысл баллады не ограничивается одним лишь изображением пассивного подчинения окружающей среде, приводящего к безразличию. В финале двойственность характера героя приводит к невозможности принадлежать ни к миру людей, ни к природе. Стихотворение отражает сложность выбора жизненного пути в современном мире, а природа предстает в одно и то же время необходимой для человека и враждебной ему.
Баллада «Снёфрид», в которой появляется уже иной образ хульдры, также содержит мотив выбора жизненного пути. Хульдра Снёфрид покровительствует герою баллады, молодому человеку Гуннару, и призывает его «покачаться на волнах», желая посмотреть, насколько крепок его дух. Затем появляются другие мифологические существа: тролли и великаны, которые призывают Гуннара отдать душу в обмен на золото и славу. Центральная часть баллады – монолог хульдры о длинном пути героя: Снёфрид говорит о ценности свободы (само её имя «говорящее»: “snö” – снег, а “frid” в современном шведском языке обозначает «спокойствие», но ранее существовало ещё одно значение – «право на свободу»). Образ хульдры отражает морально-философские изыскания поэта, стоящего на позиции идеализма: как отмечают шведские историки литературы Х. Шюк и К. Варбург, Снёфрид «проповедует строгое, волевое героическое этическое учение в духе Канта» [3, s. 27]. Устами героини Рюдберг воспевает деятельную борьбу за свои идеалы, противопоставляя её индивидуализму и инертности.
В сборнике сразу после «Снёфрид» Рюдберг помещает стихотворение «Костёр Бальдра» (Baldersbålet, 1876). В нём Рюдберг обращается к древнескандинавской мифологии, а именно к сюжету о гибели Бальдра. Подробное описание событий, изложенных в «Старшей Эдде» и «Младшей Эдде», отсутствует: остаётся только мотив погребения Бальдра. Стихотворение насыщено образами, предвещающими грядущий Рагнарёк. Возникает также ряд апокалипсических мотивов, без непосредственного указания на скандинавский контекст, что придаёт изображаемому универсальный смысл. Лишь в последних двух строках появляется образ ясеня, под которым подразумевается мифологический Иггдрасиль:
Невинность мира покоится
На освящённом костре,
Через всё, что дышит,
Проходит ледяная дрожь.
Солнце садится кроваво-красным,
Тени гор растут,
И в кроне ясеня
Шумит осень времени.
Världens oskuld vilar
på det vigda bålet.
Genom allt, som andas,
går en iskall rysning.
Blodröd sjunker solen,
fjällens skuggor växa,
och i askens krona
susar tidens höst.
Первая строфа являет собой своего рода пейзажную экспозицию, объекты и явления изображены здесь статично. Вторая строфа уже содержит некоторую событийность:
Боги молчаливые кружат
Вокруг бледного Бальдра.
Приближается Фимбулнаттен1…
Gudar stumme bida
kringden bleke Balder.
Fimbulnatten nalkas…
В следующих строфах пессимистические размышления о судьбах мира и человечества перемежаются с образами приближающегося Рагнарёка. Текст центральной (четвёртой) строфы стихотворения сосредоточен на образе Одина. «Мудрый отец» размышляет над загадками этого мира. Эти размышления завершаются философским суждением, которое Один сообщает мёртвому сыну как мудрость, полученную от самой природы, т.е. мироздания:
Жизненная борьба имеет значение,
Глубочайшее падение имеет утешение.
livetsstrid har mening,
djupsta fall har tröst.
Упоминания персонажей и событий из «Эдды» в стихотворении условны и рассчитаны на суггестивный эффект. Это подтверждается тем, что автор ошибочно называет Одина Lopt и даже даёт соответствующую сноску, хотя этим именем принято называть Локи, а не Одина. Для Рюдберга важно не воспроизведение эддического сюжета, а смысл, который этот сюжет приобретает в новом контексте.
С темой борьбы как активного проявления воли в тексте связывается мотив жертвы – образ Бальдра приобретает христианские черты. Х. Гранлид трактует его как синтез древнескандинавского сюжета о Рагнарёке с христианскими представлениями о конце света: «для спасения мира Один-Бог должен принести в жертву Бальдра-Христа, скандинавское обновление мира тождественно библейскому апокатастасису» [4, s. 53]. Стихотворение действительно несёт в себе христианские образы: например, в процитированной выше строфе «священная тишина» представлена через сравнение со «звуками органа» – инструмента, используемого в католических и протестантских богослужениях. Сочетание образов из древнескандинавской языческой мифологии и христианских мотивов приводит к определенной мысли: культура Скандинавии имеет два равноценных истока.
Ещё один комплекс философских проблем, которым обеспокоен Рюдберг, связан с «вечными» вопросами человеческого существования и законами мироздания. В стихотворениях «Томтен» (Tomten, 1881) и «Фея – к девочке» (Älvan till flickan, 1881), опубликованных в первом сборнике, Рюдберг обращается к образам сверхъестественных существ из шведского фольклора, чтобы поставить вечные вопросы о сути жизни и смерти.
Центральный образ в стихотворении «Томтен» – домашних дух, хранитель селения, традиционно изображаемый как маленький человек с густой белой бородой и в колпаке, – фактически домовой. Бессмертный Томтен, наблюдая за хутором и его жителями, задумывается о смысле человеческого бытия, стремится разгадать «загадку» жизни и смерти, когда уходит одно поколение людей и на смену ему приходит другое:
…откуда
Они спустились сюда?
Род быстро следовал за родом,
Процветал, становился старше, уходил – но куда?
Загадка, которую не разрешить…
…varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick – men vart?
Gåtan, som icke låter…
Тема повторяемости жизненного цикла выражается в стихотворении и посредством символического образа вечного круговорота в природе: зима сменяется весной, что знаменует возвращение ласточки, чередование дней и ночей обозначено мотивом циклического движения месяца. Кольцевая композиция произведения подчёркивает значимость круговорота как символа. В заключительной строфе течение времени сравнивается с потоком водопада, источник которого нельзя рассмотреть с земли – ещё один символ недосягаемости тайны жизни: вопрос Томтена остаётся без ответа. Для сверхъестественных сил вопрос о конечной цели человеческого существования является загадкой – такова мысль поэта, что символизирует образ домового. К. Варбург пишет, что в этом стихотворении автор «поставил вопросы, которые волновали его как богослова, мыслителя и поэта, вопросы происхождения и эсхатологии, начального и конечного, вопрос “откуда и куда?”» [5, s. 448].
К той же проблематике Рюдберг обращается в стихотворении «Фея – к девочке» (Älvan till flickan, 1881), где возникает схожий мотив: мифологическое существо стремится разгадать тайну человеческого бытия. Главная героиня стихотворения – фея (en älva), олицетворяющая речной ручей. Она наблюдает за купающимся в реке ребёнком и сравнивает его судьбу со своей. Речная фея понимает, что жизнь этой девочки пойдёт по тому же пути, что и жизнь других людей. Однако сила природы, олицетворяющая ручей, обременена вечным существованием. С удивлением и завистью она отмечает подверженность человека изменениям как динамическое существование в противовес её собственному – статическому.
Стихотворение состоит из трёх строф, однотипных по форме. В каждой строфе по двенадцать стихов: два коротких четырёхстопных, рифмующихся попарно, чередуются с одним восьмистопным – подобный терцет повторяется четырежды. Притом все восьмистопные стихи во всех трёх строфах рифмуются между собой, а последний стих в каждой строфе повторяется. Каждая из трёх строф соотнесена с одним из этапов жизни человека: первая – детство и начало взросления, вторая – окончательное взросление, женитьба и материнство, третья – смерть. В коротких двустишиях переданы наблюдения речной феи за ребёнком, в восьмистопных – её размышления о собственном непрерывном существовании. Форма здесь определяется содержанием: короткие строки посвящены переменчивой и кратковременной человеческой жизни, а длинные строфы, в которых сохраняется рифма и часто повторяются одни и те же слова, передают состояние бессмертия и неизменности.
Символы в стихотворении образуют антитезы: фея непосредственно связана с водной стихией, девочка – с огненной, человек «загорается» чувством и «сгорает», когда умирает, вода же остаётся цельной и неизменной.
Рассуждения феи о смысле человеческой жизни достигают кульминации в третьем терцете третьей строфы:
Ах, течение моей реки никогда не достигнет
Цели, к которой ведёт твоя дорога,
Когда жизни радость оправдывает её и оправдывает её тоска.
Ack, mitt flodlopp aldrig hinner
målet, som din bana vinner,
då av livets fröjd förklarad och förklarad av dess kval.
В этой сентенции содержится единственная возможная разгадка тайны человеческой жизни. Но суть жизни ради самой жизни во всех её проявлениях непостижима для существа, живущего вечно, такого как фея или Томтен.
В стихотворении «Священное дерево» (Vårdträdet, 1888) Рюдберг обращается к образу липы. Текст состоит из двух частей: в первой изображено священное дерево, роль которого здесь выполняет липа, растущая на хуторе. Лирический герой первой части – седовласый старик, обращающийся к дереву, которое стало жертвой шторма. Пока другие жители дома оплакивают упавшее дерево, старик говорит о его будущем возрождении – новой жизни в потомстве. Стихия символизирует технический прогресс, отдаляющий человека от естественной среды, а речь героя – грядущее возвращение человека к природе и возрождение памяти о прошлом: новое дерево, растущее на месте упавшего, олицетворяет родовую память человека, связывающую шведа с древней традицией Севера. Эта память вечна, так как она укоренена в прошлом, как дерево в земле.
Во второй части стихотворения возникает образ ясеня Иггдрасиля – тем самым тема священного дерева приобретает более широкий контекст. В заключительных строфах Иггдрасиль именуется «всеобщим священным деревом» (alltets vårdträ). Обращение к древнескандинавской мифологии подчёркивает не только единство человека с природой, но и связь шведов – современников Рюдберга – с общим для всей Скандинавии историческим прошлым. Сама по себе оппозиция «природа – цивилизация» является одним из наиболее частотных мотивов в искусстве романтизма. Однако изображение цивилизации как разрушительной для природы силы обусловлено не столько влиянием романтической литературы, сколько реакцией автора на события современности: развитие технологий и урбанизации, ухудшение условий труда, появление новых философских концепций.
В то время Рюдберг задумывается о положении рабочих: отчасти это происходит под влиянием друга поэта, либерального политика Эрнста Бекмана, в разговоре с которым у него возникла идея написать художественный текст о положении рабочих, нашедшая воплощение в поэме «Новая Песнь о Гротти» (Den nya Grottesången, 1891). В ней автор даёт критическую оценку урбанизации и механизации жизни, используя и трансформируя сюжет древнескандинавской «Песни о Гротти». Мельница, перемалывающая людей, становится символом эксплуатации человека. Однако, как отмечает шведский историк литературы И. Алгулин, «ужасающие условия труда, описанные в поэме, не соответствуют условиям работы в Швеции того времени, а имеют, скорее, обобщённое международное значение» [6, p. 97]. В то же время, поэма охватывает более широкий круг волновавших автора вопросов, нежели сугубо социальная проблематика. В прозаическом послесловии к поэме автор, будучи приверженцем идеализма, обрушивается с критикой на современные материалистические концепции, на ницшеанство и социалистические утопические теории, которые, с его точки зрения, тоже приводят к мельнице Гротти. Мельница становится развёрнутой метафорой, в которую Рюдберг облекает свои размышления о социально-политических проблемах и философских теориях своего времени.
Таким образом, для поэтического стиля Виктора Рюдберга характерно использование мифологических и фольклорных образов и мотивов для выражения волнующих автора социально-политических и философских проблем, актуальных для его времени. В этом его расхождение с романтиками, для которых мифология и народное творчество сами по себе имели значение как способ вернуться к древним истокам. Стиль романтических текстов, основанных на мифологическом и фольклорном материале, отражает стремление авторов следовать стилистике народного творчества, что Рюдбергу не присуще. Общим для Рюдберга и романтиков становится принцип контраста: мифологические герои противопоставляются людям, природа – цивилизации. Однако и здесь отличие стиля постромантического автора в том, что его антитезы служат задаче поднять конкретные проблемы, в то время как для романтиков антитеза является способом отражения двойственности самой реальности.
1 Рюдберг использует слово Fimbulnatten для обозначения трёхлетней зимы, предшествующей Рагнарёку, согласно «Младшей Эдде», где она именуется как fimbulvetr (в русских переводах «фимбульветр» или «фимбульвинтер», дословно «великанская зима»).
Об авторах
В. В. Сурков
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: surk.vladislaw@yandex.ru
младший научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Халтрин-Халтурина Е.В. «Поэзия воображения» в Англии конца XVIII – начала XIX в.: стилевая динамика в эпоху романтизма: автореферат дис. ... доктора филол. наук. М., 2012. 38 с. [Haltrin-Khalturina, E.V. “Poeziya voobrazheniya” v Anglii konca XVIII – nachala XIX v.: stilevaya dinamika v epohu romantizma: avtoreferat dis. … doktora filol. nauk [“Poetry of Imagination” in England at the End of the 18th – Early 19th Century: Stylistic Dynamics in the Era of Romanticism: Abstract of the Dissertation of a Doctor of Philology]. Moscow, 2012. 38 p. (In Russ.)]
- Махов А.Е. Реальность романтизма. Очерки духовного быта Европы на рубеже XVIII–XIX веков. Тула: Аквариус, 2017. 305 с. [Makhov, A.E. Realnost romantizma. Ocherki duhovnogo byta Evropy na rubezhe XVIII–XIX vekov [The Reality of Romanticism. Essays on the Spiritual Life of Europe at the Turn of the 18th – 19th Centuries]. Tula: Akvarius Publ., 2017. 305 p. (In Russ.)]
- Schuck H., Warburg K. Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. D. 7. Den nya tiden (1870–1914). Stockholm: Hugo Gebers Förlag, 1932. 718 s. (In Swedish)
- Granlid H. Nya grepp i Viktor Rydbergs lyrik. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1973. 163 s. (In Swedish)
- Warburg K. Viktor Rydberg, hans levnad och diktning. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1913. 663 s. (In Swedish)
- Algulin I. History of Swedish Literature. Stockholm: Swedish Institute, 1989. 287 p.